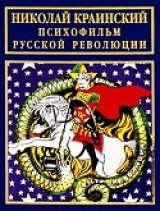
Текст книги "Психофильм русской революции"
Автор книги: Николай Краинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
Все были уверены, что я умру, но мой удивительно крепкий организм и на этот раз поборол болезнь.
Когда я пришел в себя, меня ждал новый сюрприз: сестра объявила мне: «Вас, Николай Васильевич, привезли сюда голого».
От моих вещей и одежды не осталось и следа. У меня не было даже рубашки. Красноармейцы-санитары обобрали меня до нитки.
На второй день моего пробуждения ко мне зашел доктор Д., один из моих спутников по скитаниям. На мой вопрос, как обстоят дела с большевиками, он ответил: «Да еще недели две продержимся».
Я только тогда понял трудность своего положения. В себя я пришел, но был слаб и совершенно беспомощен. Кто же мне поможет?
Штаб генерала Драгомирова уже уехал в Сербию. Комиссия тоже уехала. Было ясно: Новороссийск покидали. И если меня не вывезут, не стоило приходить в себя.
– О вас уже позаботились и уже записали на эвакуацию, – сказала мне сестра.
Я сильно встревожился, хорошо зная, как бросают больных, и думал, что мне не выбраться. Я едва двигался. Все тело было усеяно темными точками бывших кровоизлияний. В тифозном бреду я показывал их и говорил, что это сифилис. Меня мучила жажда, хотелось кислого и сладкого.
Я узнал, что генерал Розалион-Сошальский, собираясь уезжать, передал сестре свои часы и сто двадцать тысяч рублей денег, тогда уже почти ничего не стоивших.
Я с наслаждением пил сок от фруктовых консервов, которые мне покупали в городе. Тело приходило в порядок гораздо медленнее, чем психика. Душа моя рвалась из перспективы плена большевиков, и инстинкт самосохранения пробуждался в полной силе. Как было выбраться?
И тут по ночам меня охватывал ужас. Ведь у меня был страшный документ члена Комиссии по расследованию злодеяний большевизма.
В комнате со мной лежало одиннадцать очень тяжелых больных. Один больной тяжело кашлял, и я узнал в нем страшные звуки, мучившие меня в моих кошмарах. Мой сосед тоже поправлялся и рассказал мне, что все считали меня уже погибшим.
Пришли ко мне и мои спасительницы – женщины-врачи. Они были мои ученицы, еврейки. Они сказали, что мои вещи и документы находятся у генерала Розалион-Сошальского, который придет навестить меня. Говорили, что беспокоиться мне нет основания, что Екатеринодар еще держится. Когда же я сказал, что был членом следственной комиссии и потому не могу оставаться, то моя собеседница мне тихо сказала: «Об этом не надо говорить. Вам надо уходить».
Все обещали мне помочь, но выполнить это было нелегко. Я не спал по целым ночам и тревожился. Если срок определяют в две недели, то надо рассчитывать на одну. Я много ел, но не мог сидеть в постели. Уныло тянулось время.
На улице ревел норд-ост и наводил уныние. С моего места через окно был виден какой-то странный конус, долго притягивавший мое внимание. Я не мог понять, что это значило. Это оказалась вершина цыганского шатра бродячего табора, стоявшего недалеко от больницы.
Однообразна была жизнь больничной палаты, и я думал, как важно врачу самому побывать в шкуре больного, чтобы знать его мелкие потребности. И я припоминал, как в первые дни моего пребывания в первом госпитале сестра над моим ухом сказала генералу Розалион-Сошальскому:
– Вот эти двое лежат, всеми брошенные.
Но меня друзья не бросили.
В палате была очень милая сестра. Она отправилась на эвакуационный пункт похлопотать о моей эвакуации, но ей там грубо отказали эвакуировать меня.
Пришел ко мне генерал Розалион-Сошальский, которому сказали, что я теперь в сознании и что со мной можно говорить. Он задержался в Новороссийске и почему-то не успел эвакуироваться со штабом. Мы уговорились ехать вместе. Он принес мне документ с отпускным билетом. 105 тысяч рублей показались мне несметным богатством.
Потянулись тяжелые дни выздоровления. Уныло завывал ветер за окнами, а слухи, один другого тревожнее, ползли к нам в палату. Мне сделали ванну. Я стал садиться и пробовать ходить, тренируя себя. Издали уже доносилась канонада. Одни говорили, что это учебная стрельба, а сиделка философски заметила: «Совсем как тогда, когда входили добровольцы...»
Однажды утром фельдшер объявил, что англичане высадили десант и что целый полк шотландцев прошел по городу. Потом сообщили, что сюда пришла Марковская дивизия и что город будут защищать. Никто ничего не понимал и тешил себя несбыточными надеждами. Так отражалась действительность в сыпнотифозной палате.
7 марта сестра сказала, что хлопочет, чтобы достать мне что-нибудь, во что бы я мог одеться. Тогда я решил выйти и с трудом, опираясь на палку, отдыхая через каждые десять шагов, отправился к доктору Лодыженскому, чтобы выпросить одежду у американского Красного Креста. С этого дня начались мои мытарства. Я выходил в город в халате, под которым было только нижнее больничное белье. Валенки мне дал сторож больницы. Доктор Лодыженский дал мне записку в склад американского Красного Креста, и я поехал туда на извозчике. Туда я вошел изможденным и оборванным, хуже нищего, изображая тень человека. Я оброс за время болезни длинной, уже седеющей бородой. Генерал Розалион-Сошальский, увидев меня в этом виде, назвал меня мельником из оперы «Русалка».
Раздававшая вещи дама, видевшая меня во время работы на пароходе «Саратов», ахнула, узнав меня, когда я назвал себя.
– Как? Неужели это вы, доктор?
Я ей чем-то помог раньше, и теперь она платила мне сторицею.
Меня одели, собрав какую-то ветошь. На складе был пожертвованный американцами хлам старых вещей. Но это все же было нечто, и я вернулся в палату в старом пальто, в поношенном пиджаке и старых заплатанных башмаках. Кто-то носил эти вещи в Америке? Наверное, не из миллиардеров!
Я стал усиленно тренироваться. Выходил на воздух и просиживал у домика больницы на скамеечке.
Был март. Но весна наступала туго. С высоты холма, на котором находилась больница, открывался вид на бухту, посреди которой стоял броненосец «Король Индии». Было холодно. Норд-ост стих. Трава еще не зеленела. Часто издали слышалась канонада. Рассказывали, что с юга теснили «зеленые», которые взяли Геленджик. Катастрофа надвигалась все ближе. Генерал Розалион-Сошальский, мой добрый гений, выхлопотал мне полное английское обмундирование, и мы поехали получать его. Эти хлопоты были мукой. Повсюду все было обставлено тысячами ненужных формальностей. Надо было писать никому не нужные и ложные бумаги. Во всех канцеляриях сидели цветники никому не нужных барышень. Ставили штемпеля без счету. Генерал вел меня под руку. Мы ходили по складам, просили, убеждали, и если что помогало, то только генерал-лейтенантские погоны, с которыми все-таки еще немного считались.
Мы хлопотали о выезде. Надо было получить заграничные паспорта. И мы их получили, но как! Целыми часами стояли в очереди, среди невероятной ругани. Я сам видел, как в одной такой очередной группе произошла форменная потасовка, и один офицер, размахнувшись, дал в морду другому. И ничего: никакой реакции. Честь в те времена была предрассудком от прошлого века. Пробуждался чисто животный эгоизм. Паспорта надо было визировать. Мытарства по консульствам и контрразведкам, везде с очередями и препирательствами. На моем паспорте было два штемпеля! И в последующих мытарствах никто никогда не спросил этой глупой, фиктивной, даже лживой бумажки, ибо в ней не значилось даже звания, а только имя, фамилия и года. По старым бюрократическим правилам старые паспорта Империи при этом отбирались служащими барышнями, чтобы их потом растоптали громившие канцелярии красноармейцы.
Зачем и кому нужна была эта нелепость? И надо признаться, что у большевиков эта процедура была умнее и проще. Кто-то выдумал эту чепуху, чтобы мучить и стеснять людей.
Это было тем непонятнее, что руководители Добровольческой армии ведь приняли путь революции с ее заветами и отреклись от старой России, а выдумали такую формалистику, которой никогда не бывало в старое время. Называли имена генералов Владимира Драгомирова, Вязмитинова, которые руководили делом. А ведь Вязмитинов был очень левым генералом, который в данном случае доводил пороки бюрократизма старого режима до глупости. Разве нельзя было простым приказом устранить эту чепуху, а армию барышень – упразднить! На эту бессмыслицу тратили деньги и время, а враг уже стоял у ворот. Вместо того чтобы впоследствии в эмиграции продолжать отстаивать завоевания революции, много было бы умнее взять от революции то, что она провозгласила, но никогда не выполнила, и отбросить ненужную канцелярщину. Копировали у большевиков, устраивая бесконечные регистрации.
Сцены, которые происходили в этой толкотне, были отвратительны. И здесь играла роль протекция: без помощи генерала я бы ровно ничего не добился. Я изнемогал от слабости.
Новороссийск был набит отступающими войсками и беженцами. Прибыли обозы и запрудили все дворы и улицы. Тысячи лошадей стояли по дворам. Приехавшие с фронта и официальные сведения сообщали, что армия неудержимо отступает и что Екатеринодар пал. Грозные приказы на большевистский лад говорили о порядке эвакуации, последним сроком которой было назначено еще 1 марта.
Англичане обещали вывести восемь пароходов с больными и ранеными, из которых шесть уже ушло. Теперь грузился уже седьмой, и надежда оставалась на последний. Если никто не поможет – пропадешь. Американский пароход отходил в Крым, и, пропустив его, мы рисковали. Но я был полутрупом, и ехать в Крым было бессмысленно: надо было оправиться, как и генералу. Наше положение было безнадежно. Мы сунулись на эвакуационный пункт. Это был буквально сумасшедший дом, как и все другие учреждения Добровольческой армии в Новороссийске. Трудно было и думать от него чего-нибудь добиться.
Вместо того чтобы переформировать Императорскую Россию на непредрешенский лад, не лучше ли было будущим непредрешенским генералам изменить эти дурацкие порядки и попробовать здесь свои реформаторские таланты?
Пользуюсь случаем исправить несправедливую оценку одного деятеля, вкравшуюся в мою книгу «Без будущего». На основании общего мнения, которое тогда царило в Новороссийске, ответственность за хаотическую, во многих случаях неправильную деятельность новороссийского эвакуационного пункта была отнесена к его начальнику доктору В. Э. Белллину. Это врач и деятель в высокой степени достойный, выполнявший свой долг до последних пределов возможности, и не его вина в том, что столь важное учреждение, как эвакуационный пункт, было в хаотическом состоянии.
На вопрос «Кто виноват?» не так легко ответить, да моя книга и не есть судебное производство. Но если я допустил неправильное суждение о деятельности определенного лица, я должен его и исправить.
Я был дружен и работал с его отцом, доктором Эмилием Федоровичем Беллиным, бывшим тогда приват-доцентом Харьковского университета и судебным врачом. Это был выдающийся ученый и деятель, и неудивительно, что и его сын полностью усвоил традиции, передававшиеся Великой Россией из поколения в поколение. Доктор В. Э. Беллин самоотверженно служил делу Добровольческой армии, и не его вина в том, что все его усилия по работе и исполнению долга оказались бесплодными.
Дальнейшая деятельность доктора В. Э. Беллина в эмиграции по-прежнему служила русскому делу, и блестящие результаты ее засвидельствованы руководимым им журналом и работой Каирской врачебной поликлиники. Возникшая между нами дружеская переписка в течение последних лет убедила меня в том, что этот достойный деятель остался верным традициям Великой России и продолжает быть ее честным слугой. Поэтому, свидетельствуя полное наше бессилие достичь плодотворных результатов в нашей прошлой деятельности на пользу Добровольческой армии, я обращаюсь с приветом к моему товарищу-спутнику по крестному пути и выражаю ему знак моего к нему глубокого уважения и почитания его заслуг в попытках служить делу спасения России.
По плану английской эвакуации, каждый человек перед посадкой на корабль должен был взять ванну, вымыться, продезинфицировать вещи. Была установлена масса формальностей и здесь. Карточки и регистрации. Я был записан на эвакуацию по больнице, но она должна была остаться только на бумаге.
Пошел я к приват-доценту доктору Бораковскому, который должен был ехать старшим врачом парохода. Но он просто соврал, что не назначен туда. Поднялось чисто животное стремление каждого заботиться только о себе. Вот она где, самая настоящая революция. Это вам не разговорчики с трибун.
Я шел, шатаясь, по улице, а генерал поддерживал меня. Вдруг перед моим затуманенным взором обрисовалась фигура, которая мне показалась знакомой. Какое-то воспоминание смутно пронеслось в моем сознании.
Человек посмотрел на меня и окликнул. Я остановился. Это был мой товарищ по университету, доктор Кузнецов, лечивший меня в первом госпитале, в котором я лежал. Я сообщил ему о нашем положении, что мы никак не можем эвакуироваться, хотя имеем на это все права.
– Да это очень легко, – сказал он. – Завтра приходите ко мне в Белый Крест в 10 часов утра, и я все устрою.
Мы не верили своим ушам. Бывают же случаи. Не будь этой встречи – не выбраться бы нам из Новороссийска. Настроение поднялось. Из госпиталя я перебрался на квартиру к генералу, и мы с тревогой стали ожидать парохода «Владимир». Он пришел 11 марта, а 12-го должна была произойти посадка, которую надо было не прозевать.
Томительно было ожидание. Деникин со своим штабом был уже здесь. Армию предполагалось перебросить в Крым. Все улицы были запружены людьми. Доктор Кузнецов дал нам эвакуационные карточки. Около 12 часов дня пришел с разведки генерал и сказал: «Едем!» Он привел подводу, и мы нагрузили вещи, которых у генерала было достаточно. Тронулись, я отдал свою винтовку и револьвер хозяину квартиры, так как оружие брать с собой на пароход не разрешалось. Да и воевать уже было не с кем.
Попав на пароход, я только мечтал несколько дней лежать, не вставая.
Мы медленно двигались по улице к гавани, куда стремился невообразимый поток людей. Это было трудное движение. Местами образовывались пробки, но генерал умело ориентировался. Добрались в конце концов до пристани. Рядом с «Владимиром» стоял громадный английский пароход «Ганновер», на который грузилась какая-то индусская темнокожая часть. Если грузились они, следовательно, оставление Новороссийска есть факт.
Пропуска у нас были. Мы подъехали тогда, когда посадка еще не начиналась, и генералу удалось занести вещи на палубу. Оказалось, что по какому-то праву или, вернее, бесправию врач эвакуационного пункта должен был лично подписать эвакуационные карточки. Это было право жизни и смерти. Он резко заметил мне, прошедшему бои Гражданской войны, бывшему корпусному врачу, и генералу, командовавшему целой областью:
– Вы, господа, не подлежите эвакуации.
Но все же подписал. Какое еще право нужно было иметь людям, выполнившим свой долг, теперь больным и небоеспособным? Получили места в трюме и тот же доктор Бораковский, который нас обманывал накануне, был назначен врачом транспорта.
Весь день и всю ночь грузился пароход.
В гавани в этот день и ночь творилось что-то невообразимое. По счастью, мы еще как-то удачно проскочили. Позже взобраться на пароход было невозможно. Кругом стоял стон и гвалт. Все рвались на пароход. За городом слышалась канонада. «Владимир» отходил за границу. Остальные пароходы должны были перевозить войска в Крым.
На «Владимире» команда была русская, но распоряжались эвакуацией англичане. Ночь на самом пароходе прошла сносно. Я в полном изнеможении лег на койку. Этот трюм № 1 еще имел сплошные леса корабельных коек с матрасами. Рядом со мной поместился генерал Розалион-Сошальский. Я плохо помню, что происходило ночью, так как впал в забытье. В трюм непрерывной волной прибывали люди. Рядом со мной, вплотную на соседней койке, оказался молодой человек Астров, сын известного кадета-разрушителя, теперь работающего около Деникина.
Рядом с ним лежал раненый с повреждением спинного мозга, отправлявший свои потребности под себя.
Из недр кошмарных грез и разобщения с действительным миром я вернулся к жизни совсем другим человеком: слабым, раздражительным, ворчуном, всем недовольным и все ненавидящим. Я волновался и трусил, уже не был способен ни на какой героический поступок и скоро осознал, что не смогу по-прежнему служить своему врачебному долгу. Тщетно душа старалась победить немощное тело: оно не слушалось. По ночам в периоде выздоровления, когда кругом в палате было тихо, я сознавал надвигающуюся новую гибель, и это чувство полной неспособности к самозащите угнетало, время тянулось в эти ночи нестерпимо медленно.
Наряду с истощением болезнью теперь со всей силой выступала травма, которая была нанесена моей душе перед добровольческим движением. Уже заболевая, я сквозь туман слышал все разговоры о положении, и лицо движения и его вождей начало передо мной раскрываться. Я начал прозревать от своих иллюзий. Тяжело было переварить свое разочарование и уразуметь, что все жертвы были принесены чуждой мне идеологии и поклонению чужим богам.
Вспомнилась фраза встреченного в Новороссийске знакомого: «На г... дело приехали! За кого сражаться?»
Как раз в это время Деникин клонился влево и к демократическим началам, которые мне были так чужды. И я в буквальном смысле слова почувствовал себя в этой борьбе лишним.
Вихрь событий уже нес нас всех совершенно пассивно. Конечно, пробудился и инстинкт жизни, но не было ее радостных перспектив, не было и радости бытия. Инстинктивно и подсознательно хотелось выбраться из этого ужаса, и уже не было той отваги и самопожертвования, которое раньше формулировалось в моей душе словами: «Ну что же -погибать так погибать!», и помогало делать свое дело.
Теперь ни к какому делу я не был способен, был полутрупом, в созерцании которого вместо сыпнотифозных грез рисовались кошмары действительной жизни корабельных трюмов и падение души человеческой. Почти в двухмесячном пребывании на корабле я умудрился перенести еще приступ возвратного тифа и в довершение заразился от больного мальчика коклюшем. И в то время, когда расслабленное тело боролось со смертью, душа мрачно созерцала крушение русской психики, все ненавидела и проклинала.
Теперь, перед полным крушением, критиковали и поносили всех. Генерала Май-Маевского обвиняли в пьянстве и кутежах. Мамонтова и Шкуро – в грабежах.
«Победителей не судят, побежденных топчут». Во всех этих суждениях была только доля правды. Но грабеж есть на всякой войне. Старые боги были сожжены, новые не созданы.
Наутро, в шесть часов, я вышел на палубу, пароход снимался с якоря и отчаливал. Картина покидаемого города была грандиозна.
Все, что видел глаз, было набито людьми, рвавшимися на пароходы, отчаливавшие один за другим. Над городом уже рвались неприятельские шрапнели. Значительная часть войск не успела погрузиться и отступала походным порядком на юг вдоль моря по побережью. Волна войск и беженцев, отходивших от самого Царицына, ударилась в море, и многие рассеивались небольшими группами. Люди гибли без счету. Вот это и есть настоящая картина революции.
Жребий теперь выносил одних на путь спасения, других губил. Ар -мия была перевезена в Крым, бросив свое снаряжение, десятки тысяч лошадей, обозы, орудия. До Новороссийска дошла лишь часть армии. По рассказам, казаки уходили через степь почти целыми селениями, а их вожди самостийничали. Многие остались здесь, в Новороссийске. Только танки спустили в море.
Здесь, как и всюду, выступали местные большевики, стреляя в тыл уходящим. Особенно отличались рабочие цементного завода. Евреев здесь было мало, и потому выступление местных большевиков не было столь сильно, как в других местах. Говорили, что кавалерийский отряд генерала Барбовича двинулся по побережью на юг.
Л Л Л
Только теперь обрисовалась гибель Добровольческой армии в ее полном масштабе. Все, кто мог, уходил под охраной ее штыков. Но огромному большинству уйти не удалось.
На пути от Новороссийска до нас долетали дурные вести. Посадка войск происходила под огнем при самой трагической обстановке. Новороссийск пал в день нашего отъезда.
Когда, отчалив, мы проходили мимо маяка, мы получили приказ от англичан идти на Ялту. Это огорошило всех, как удар по голове. Все надежды уехать за границу для больных разлетелись. Вместо заграницы – Ялта. Заграница казалась обетованным раем измученным людям. В Крыму же нас ждала гибель, ибо никто уже не сомневался, что Крым постигнет та же участь.
Утро было тихое и ясное. Люди молча смотрели на отдалявшуюся бухту, и палуба была битком набита людьми. Трудно было прочесть на лицах то, что переживали люди. Многие из них, несомненно, навсегда или очень надолго покидали родину. И только когда очутились в открытом море, задумались.
Я спустился в трюм и лег, совершенно изнемогающий и от физической слабости, и от морального чувства полной безнадежности.
Благодаря доктору Кузнецову мы с генералом Розалион-Сошальским могли теперь выехать. Во время вторичной эвакуации при Врангеле я узнал, что доктор Кузнецов погиб в Крыму от сыпного тифа. Так сплетались нити жизни. Нельзя знать, кто кого переживет.
Мне приходилось переживать много тяжелого, и я выработал себе хорошую привычку: при всяком затруднительном положении я всегда предполагал худшее и никогда не тешил себя надеждой. Если удавалось выскочить, я считал это подарком судьбы. Вести борьбу активно и вооруженным – это одно. По крайней мере, убеждаешься, что в револьвере есть пуля и для себя. А во времена большевиков после того, как приходили, чтобы вести меня на расстрел, я всегда носил при себе баночку с цианистым калием, и это успокаивало. Думаю, что это было лишь психологическим приемом, и не знаю, мог ли я исполнить это решение. Теперь же я был пассивным поплавком, который нес и которым крутил поток событий, для которых личная моя воля не имела никакого значения.
Когда садились на пароход, у всех было одно желание: спастись. Когда заговорили о том, будут ли нас на пароходе кормить, махали руками и говорили: «А не все ли равно!». Теперь же оказалось, что не все равно. Захотелось есть. Пошла опять критика, недовольство и ропот, Англичане снабдили пароход продуктами, напоили чаем и дали немного консервов.
Как только разместились в трюме, сейчас же стала проявляться психология этой исстрадавшейся, неустойчивой массы людей, только чудом спасшихся от гибели. Все сознавали, что в этот самый момент тысячи таких же людей, как мы, погибают в покинутом городе. Но воображение тускло рисовало картину происходящей там резни.
Публика трюма начала устраиваться и погрузилась в мелочные заботы обыденной жизни. Здесь была пестрая смесь людей: мужчины, женщины, военные, беженцы, солдаты, генералы. Еще не успели оглядеться, уже начались ссоры, и пробуждался ничем не сдерживаемый эгоизм. Люди были больны душевно.
Мой сосед, молодой Астров, говорил, что был контужен в ногу, и он до поры до времени прихрамывал, но, когда в Константинополе на пароход за ним приехал дядюшка, контузия сразу испарилась, и он вприпрыжку побежал высаживаться. Сражаться эти господа не любили. Много было мнимо больных. Но нельзя и винить этих господ: уж очень много они пережили. Пройдя через строй испытаний, люди, казалось, теперь должны бы были предаться радости спасения. Но они уже роптали и жаловались. Были напряженно-нервны.
14 марта мы подошли к Ялте. Теперь пошли волнения ожиданий. То говорили, что сейчас высадят и что пароход пойдет забирать войска, идущие на город Сочи. То вдруг распространялся слух, что будут высаживать то легких, то тяжелых больных. И по мановению жезла тяжелые больные превращались в легких и наоборот. Пристали к молу, и высадилось около 300 человек. Говорили, что Ялта принять нас не может. Когда же стали подвозить продукты, надежда оживилась.
Эти дни я лежал, почти не двигаясь. В трюме был голод: требовали еды. Был беспорядок и сутолока. Многие успели побывать в городе и кое-что купить. Мое имущество увеличилось складным ножом, который мне купили за 300 рублей.
Мы с генералом решили держаться вместе и не высадились в первую очередь.
В трюме заводилась керенщина. Требовали выбора коменданта. Устроили митинг. Говорили глупейшие речи. Выбрали комендантом моего старого знакомого по Вильно генерала Алянчикова. С этим генералом я встречался много раз в жизни. Он был таким же противником революции, как и я. Теперь мы оба ехали искалеченными, я тифом, он -оспой. Он надеялся высадиться в Константинополе, где была его семья.
Началась наша жизнь в бедламе корабельного трюма, описанная в моей книге «Без будущего». Это был тяжелый кошмар наяву. Вся низость человеческой души, ее мелочность и грязь проявлялись во всей наготе. Но надо иметь в виду, что психика моя после болезни переменилась. Я иначе воспринимал фильм окружающей действительности. Исчезла доброта, и я стал ненавидеть и злиться, даже ворчать. И перестал любить людей.
Когда мы двинулись на Константинополь, я вдруг почувствовал, что после трехлетнего гнета впервые нахожусь в положении, когда никто сейчас тебя не зарежет, не ограбит и не засадит в чека. Но... скоро эту радость бытия забыли. Все помыслы стали животными, в психике господствовало стремление не есть, а жрать. Итак, я попал к англичанам. Но я еще не знал, какая это так называемая цивилизованная нация.
Л Л Л
Мы подходили к Босфору. Дивные картины развертывались перед нами. Но больная душа полна была еще тревогой и не воспринимала этой красоты. Вероятно, этот мировой город произвел бы иное впечатление, если бы я ехал здоровым человеком на здоровом корабле.
Была весна. Солнце светило ярко, тепло и заливало голубым светом дивный город. Здесь была другая, нами давно позабытая жизнь. Здесь был порядок.
Союзная эскадра стояла в проливе и красовалась своими гигантами-дредноутами.
Мы встали на якорь. Пошли волнения. Корабль окружили кардаши-торговцы, которые еще брали наши тысячерублевки за пять драхм.
Простояли около недели в Константинополе. Двинулись на Салоники. Дарданеллы, Мраморное море. Голые берега Галлиполи. Все было ново и на здоровую душу, вероятно, действовало бы сильно. Но эти картины врывались в психику только эпизодически. Господствовали кошмары трюма. В проливах мы еще видели следы европейской войны: остовы разбитых кораблей, целые груды развалин деревень.
В Салониках мы стали у пристани. Здесь впервые определилось наше положение военнопленных у англичан. Мы стояли в Салониках как раз на Пасху.
На рейде стоял трехмачтовый парусный корабль, как говорили, со снарядами. В одну из ночей на нем возник пожар. Его отвели в море и там затопили. Нас и здесь преследовали пожары.
Долго грузили на пароход дрова, наше будущее мучение на Лемносе. То были корни и пни твердой породы дерева, которые расколоть было свыше сил человеческих.
С берега нас приветствовала матерная ругань. То русские, бывшие военнопленные солдаты, поносили добровольцев. Они уже были заражены большевизмом и грозили нам, что и здесь с нами скоро расправятся. Невеселая была эта стоянка.
Когда мы снялись с якоря, мы прошли мимо Олимпа. Я глядел на это гнездо богов и изумлялся: где его мифическая красота? Гора была обыкновенная, и помрачение богов было полное. «Обыкновенно» было у меня на душе, теперь пустой, озлобленной и измученной.
Наутро мы прибыли на Лемнос.
***
Картины жизни на Лемносе и сценки корабельной берложной жизни первой новороссийской эвакуации описаны мною в моей книге «Без будущего», где описано также начало разложения русской эмиграции, а потому повторять их в этой книге я не буду.
***
Читатель этой книги, принимая во внимание непримиримое и отрицательное отношение автора к революции, взятой в ее целом, не находящего в ней ни одной положительной черты, может составить себе представление, будто бы автор является абсолютным ретроградом, сторонником старого режима, оправдывающим все его пороки и недостатки. Это было бы совершенно неправильным суждением. Под старым порядком я разумею исторический уклад русской жизни, мировоззрение, обычаи и традиции русского народа, мощную державу под скипетром русских царей и императоров, тот изумительный государственный порядок, который царил в России до 1905 года. И неудержимый ход Императорской России по пути прогресса. Под старым порядком я разумею ту личную свободу и права, которыми пользовался русский человек в дореволюционной России, а также и превосходные законы Российской державы, которые регулировали жизнь.
После первой революции 1905 года Россия уже была больна, и мы видим неудержимое стремление ее к гибели. Не подлежит никакому сомнению, что в старом порядке, как во всех режимах мира, были и недостатки, и пороки, но они главным образом касались личных качеств и деятельности сановного и чиновнического аппарата, который после 1905 года с введением парламентского строя стал быстро вырождаться. Новые формации чиновников всех рангов, не знавших, кому подчиняться, кого слушаться – самодержавной императорской власти или демократического сборища, именуемого Государственной думой, – быстро стали разлагать государственный аппарат и довели Россию до революции.
После 1905 года мы видим со стороны подлаживающихся к новому порядку сановников и чиновников всех рангов беззаконие, произвол, политические интриги и партийность.
Я вовсе не чужд исповедования многих прекрасных идей, легших в основание революции. Но эти идеи были громко возвещены, а никогда не были проведены в жизнь. Революционная действительность развивалась как раз обратно им. Я был и остаюсь противником парламентаризма. Я признаю полностью необходимость устранения сословных привилегий, поскольку они нарушают права человека, но демократическая идеология очень быстро вырождается в порочную и сводится на борьбу партий и политические интриги, где личная жадность и выгода попирают все принципы настоящего демократизма.
Я как психолог отрицательно отношусь ко всем видам коллегий, которые в изуродованном виде выдвигает на сцену революция и которыми прикрываются почти все преступления революции. Я признаю, что в определенной мере государственный социализм необходим, и ограничение свободы, прав и интересов отдельной личности в пользу государства совершенно неизбежно. Но тот социализм, который залил весь мир кровью и опутал его классовой завистью и ненавистью, который сковал окончательно личную свободу человека и превратил его в раба, я отвергаю. Достаточно вглядеться поближе в социалистические деяния всех типов, чтобы увидеть, что они идут вразрез с провозглашенными принципами и служат делу личной наживы и преуспеяния.








