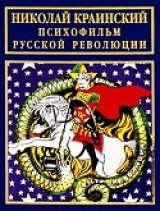
Текст книги "Психофильм русской революции"
Автор книги: Николай Краинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 40 страниц)
Режим заключенных в чека – это тип того общежития всвалку, которым потом и во время Гражданской войны, и в странствованиях эмиграции жила вся Россия. Никаких прав заключенные не имели. Никто их не выслушивал, не предъявлял обвинений и не принимал оправданий. Без срока и без надежд.
Бывали разные поведения и разные душевные состояния. Резкое малодушие проявлялось редко. Неожиданный приговор часто ошеломлял, пришибал жертву. Человек шел на расстрел автоматично, с помраченным сознанием. Про обреченных говорили: «Они уже как мертвые».
Вели сначала в комендатуру для какой-то сверки, а затем на бойню. И преступление имеет свой шаблон. Все бойни были устроены на один лад: каретный сарай или подвал, в который надо было спускаться по нескольким ступенькам. Я осмотрел их несколько, еще с кровавыми следами и мозговыми брызгами по стенам. У входа в помещение бойни, по заветам «деления риз» избранного народа, обреченного заставляли раздеваться, вещи отбирали и человека голого или в одном белье загоняли внутрь и ставили «к стенке». Обычно жертвы покорно исполняли требования, становились или даже сами ложились рядом с покойником в ряд, лицом вниз на каменный пол, и ждали пули в затылок. Стреляли в упор из револьвера, и череп разлетался, а лицо становилось неузнаваемым. Жертвы падали кучей, а нового обреченного подводили к куче убитых. Что переживали эти люди, вообразить невозможно, несмотря на то, что мне пришлось выслушивать показания нескольких лиц, которых водили на расстрел только как на устрашение. В последнюю минуту, когда он стоял «у стенки», его отпускали со словами: «Ну, пошел вон, до тебя очередь не дошла, придешь в другой раз».
Таково было показание полковника Козловского. Убивали одинаково, лишь с небольшими вариантами. Надо признать, что у средневековой инквизиции изобретательности и поэзии в убийствах было больше. Каждая чека имела свою Розу, Дору, княгиню Оболенскую или княжну Мансурову.
Молва и общественное мнение жаждало отыскать в деяниях чека элементы физических пыток и увечий. Говорили о снятии скальпов, вырезании погон, сдирании кожи и ногтей. Таких увечий и замучиваний на полях сражений Гражданской войны было множество, но в чека они были редкими исключениями. Здесь преобладали пытки душевные. В Комиссию поступили даже заявления о машине в виде бочки, набитой гвоздями, и о горячем масле, которым обливали пытаемых. Исследования этого не подтвердили. Я исследовал вместе с профессором судебной медицины Таранухиным одну «перчатку», снятую с трупа. Так и не выяснилось, было ли то результатом мацерирования трупа в сырой земле или каким-то невероятным образом снятая бескровно с живого человека кожа. Но это была настоящая перчатка из верхнего слоя кожи, целиком снятая. Были отдельные случаи исключительной жестокости. Такие случаи зарегистрированы в харьковской чрезвычайке, где подвизался рабочий Саенко. Не было и ясных проявлений настоящего индивидуального садизма, как его понимает психиатрия. Не подтвердились также показания о том, будто бы трупами казненных кормили свиней. Объеденные собаками трупы попадались часто, так как они подолгу валялись на улице неубранные.
В общие ямы, вырытые в саду дома Бродского на Садовой улице, трупы сваливались как попало, голые и еще теплые. Они приходили в соприкосновение с пересыпавшею их мелкой илистой землей, и кожа мацерировалась. В мужских трупах мошонка раздувалась до величины арбуза. Наши заявления о том, что мы не нашли следов физических пыток, даже раздражали публику, которая в своем озлоблении хотела, чтобы они были.
«Как же вы говорите, что не было пыток, когда мы знаем, что были?»
Больное воображение толпы видело образы своей фантазии и не видело, что есть.
А было кое-что гораздо худшее, чем пытки физические. Вот что проделывали люди над себе подобными.
Первой моральной пыткой была полная неизвестность своей судьбы. Невозможность защищаться и оправдаться, что дают все суды мира. Мучительное ожидание неизбежной казни, в большинстве случаев без всякой вины.
Как возмущалась в былое время русская интеллигенция, когда левые газеты кричали о том, что арестованные жандармами политические преступники сидят по несколько дней без допроса. Тогда требовали, чтобы по образцу «свободной» Англии – тогда этих варваров считали цивилизованными – заключенному допрос был сделан в первые 24 часа. Теперь не допрашивали по месяцам, а иногда и вовсе не допрашивали. Попавший в чека был заживо погребен и отрезан от внешнего мира.
Во время революции тюремный режим мирного времени изменяется: становится фактически невозможным регулировать содержание заключенных и даже кормить их. Права арестанта мирного времени ограждены законом. В революционное время хватают кого попало, и места заключения превращаются в свалочные пункты, от которых требовать организации нельзя. Обращение с заключенными в чека было грубое и пренебрежительное. Но не менее грубо впоследствии обращались с нами и англичане в лагерях за проволочными ограждениями.
Из моральных пыток в моде было устрашение. Обреченного выводили на расстрел и, проделав всю процедуру ставления к стенке, отпускали. На его глазах убивали других, наваливая целую груду трупов, и затем целились в него. Это называлось «водить на испуг».
Особенная латышская жестокость была в вучека, руководимой Лацисом. Там стоял ящик-гроб на четверых. Осужденного заставляли раздеться догола и лечь в этот гроб. Там его пристреливали в затылок. Следующего, также голого, заставляли ложиться рядом с трупом и также убивали. Третий ложился вторым ярусом на нижний труп и также убивался. А с последним иногда проделывали такую штуку:
– Ложись!
Жертва ляжет и ждет. Палачи закурят, поговорят, не обращая на обреченного никакого внимания и, продержав так полчаса, отпустят. Я не знаю, может ли читатель представить себе переживания человека в таком положении!
Огромное число казнимых умирало пассивно. Автоматически, трепеща мелкой дрожью, они раздевались и, шатаясь, шли на место. Иногда не добивали сразу: стоны и крики раздавались из кучи дымящихся тел, и виделось содрогание членов. Но на это никто уже не обращал внимания. Чекисты продолжали делать свое дело и добивали только тогда, когда стоны становились уже слишком назойливыми.
Первое время в чека убивали выстрелами в грудь и в живот, но для этого приходилось тратить по несколько пуль.
Редко наблюдались случаи исступленного отчаяния со стороны убиваемых. Они валялись по земле, целуя ноги палачей, умоляя о пощаде. Над этим только издевались. Комиссар вучека рассказывал, что так умирал чекист-студент Гончаренко. Во время его работы вскрылось его прошлое. Он когда-то был членом клуба националистов, и его ничто не спасло. Сидя уже в чека в качестве арестанта, он хотел купить себе спасение предательством. Доносил без конца. Его любезно выслушивали и, когда он считал себя уже спасенным, его вызвали на расстрел.
Гончаренко обезумел, доказывал, что это недоразумение... Его поволокли насильно. Он сопротивлялся, умолял. Уже в погребе, когда ему командовали: «Ложись, мерзавец!», он извивался по полу, грыз землю и... доносил. Даже палач Извощиков возмутился этой низостью и с презрением его пристрелил. Были и случаи пафоса смерти.
Молодой украинец, распропагандированный деревенский парень, почти мальчик, умирал с криком: «Хай живе вильна Украина!»
Однажды не хотела умирать сестра милосердия и не легла рядом с трупами. Ее тело в рубашке нашли лежащим в стороне «не по порядку». Я однажды был свидетелем, как группу около ста человек обреченных вели из тюрьмы в чека. Зрелище было потрясающее. Публика впереди разгонялась и сама разбегалась в стороны, почувствовав тяжелую руку революции – это были настоящие ее завоевания. Группа обреченных шла скученно и мрачно. Она была вплотную окружена цепью молодых безусых красноармейцев, которые держали винтовки наизготовку. Плоды работы русской предреволюционной интеллигенции были налицо: нельзя же было безнаказанно в течение десятилетий развращать народ. Молодые деревенские парни, восприняв поучения передовой интеллигенции, теперь отводили ее на казнь.
В первые недели существования чрезвычайки убивали ночью в сквере у Золотых Ворот, а позже – в саду генерал-губернаторского дома. Осужденных выводили на полянку сада под живописно раскинувшиеся своды высоких тополей и убивали под деревом. Я видел еще на земле темные пятна запекшейся крови, засыпанные белой известью.
По окончании операции в ворота въезжал грузовик и забирал трупы. В те времена славился своими убийствами первый по времени комендант киевской губернской чека Михайлов-Феерман. Он жил в состоянии экстаза, опьяненный кровью, и был, по-видимому, садистом. Он наслаждался убийствами и муками своих жертв. Однажды в саду он убивал молодого человека. Тот просил пощады, сопротивлялся. Тогда Феерман сказал ему: «Беги». Юноша метался по всему саду, а тот его стрелял, как зайца.
В тюрьме на Лукьяновке как-то забыли про трех осужденных матросов. Ночью приехали люди в кожаных куртках и по списку вызвали всех трех. Привели первого.
– Вы, товарищ, такой-то?
– Я.
– Ну вот, товарищ, идите так влево.
Тот пошел, а сзади в него пустили пулю. Когда же он упал, к нему подошли и еще раз пристрелили. Просто, без пафоса. Пришел второй.
– Видите, там лежит? Так вы идите немного правее.
И повторилось то же.
Третий матрос, увидев картину, тоже пошел, но снял шапку и перекрестился. Палачи кончили свое дело и, сложив бумаги, уехали. Было поздно. Хотелось спать...
Убивали и иначе. Однажды утром вели на кладбище группу в двенадцать человек, среди которых был инженер в форменной фуражке. На кладбище «буржуев» заставили рыть большую яму. Когда они кончили эту работу, их заставили всех раздеться, стать на краю могилы и расстреляли, засыпав потом землею могилу, в которую они все повалились. Этот вид убийства отмечен во многих случаях. Все должен был сделать казнимый сам, чтобы не утруждать товарищей.
На моих глазах разрывали последнюю могилу большевистских жертв в саду дома Бродского, куда были свалены 127 трупов расстрелянных в ночь перед приходом добровольцев. Это была картина историческая. И у могилы депутация представителей бывших союзников французов, англичан и американцев, которым я показывал эту картину, изрекли горькое пророчество:
– Если мы расскажем об этом и даже покажем фотографии, нам не поверят...
Ничего нет на земле нового. Деление риз и несение креста времен Христа было тогда приемом избранного народа. Он повторял это в иной форме и теперь. Психика человечества не поддается прогрессу и совершенствованию. Цивилизация сменяется варварством, а варварство – цивилизацией.
Об убийстве 27 августа мне рассказывал дворник дома, на обязанности которого лежало после завершения операции из брандспойта обмывать от крови трупы.
В эту памятную ночь от 10 до 2 часов из казематов генерал-губернаторского дома на Институтской, № 40, подходили осужденные группами в 5-10 человек через улицу к бойне.
Люди, контролируемые красноармейцами, шли, по словам очевидцев, «как обыкновенно». Всю ночь в квартале слышались выстрелы. Реалист седьмого класса Вихман (по другой версии, Элькинд) сам пострелял всех 127 человек, заживо уложив их рядами и ярусами. Один ряд укладывался за другим и один ярус над другим, ибо по площади пола не хватало места. Живых людей поочередно и систематически по системе Угарова (будущего члена Генуэзской конференции) превращали в трупы. Понимала ли западная демократия, когда принимала Угарова, что она была морально ниже его, ибо там еще не царило повальное безумие в той мере, как тогда в России?
В этот день трупы не увезли, как обыкновенно, городским обозом в анатомический театр, а тут же закопали в саду. Это был памятник Ворошилову и Мануильскому, которые санкционировали эту масакрацию.
Обычно уборка трупов происходила так: по телефону вызывали городской обоз. Оттуда цинично отзывались:
– На сколько?
Дешево тогда стоила жизнь. Трупы увозились в анатомический театр непонятно зачем. Был даже назначен студент-медик для «заведывания трупами». Позже добровольческая власть не тронула этого студента – он не был «настоящим чекистом», как и многие приобщившиеся к чека. Обоз приезжал и ждал на улице. Извозчики покуривали, беседовали. Им не было ни жутко, ни печально – дело как дело... Потом трупы, нагруженные на подводы, увозили. Я видел однажды такую подводу, груженную трупами, в дни первых большевиков. Это было настоящее лицо революции, а не глупые речи в Думе или подлые телеграммы ее председателя Царю.
В залах трупы складывали штабелями. В Комиссии зарегистрированы невероятные случаи. Случалось, что трупы оживали уже в куче сваленных тел. Они оказывались недобитыми. Подавленный голос умолял служителей о спасении. Но не таково было время, чтобы можно было спасать людей: животный страх за собственную жизнь и страх доноса побуждал служителей бежать за милиционером. Тот снимал с плеча винтовку и добивал жертву. Установлены факты, когда «убитые» воскресали и, очнувшись, голые, окровавленные спасались, перелезая через заборы и чудом убегая.
Однажды расстреливали одиннадцать человек, а одного трупа недосчитались. По кровавым следам обнаружили, что он исчез; его так и не нашли.
Еврейка Роза, черноволосая, некрасивая женщина небольшого роста, с хмурым выражением лица, сопровождала обреченных вместе с конвоем, держа в руке револьвер. Когда у ворот сарая те не слишком быстро раздевались и входили, она торопила их и входила вслед за жертвою в сарай, откуда сейчас же слышался выстрел. Любопытно сопоставить ее поведение в роли палача с тем, как она сама себя держала, когда ее при добровольцах расстреляли. Об этом мне передавали лица, присутствовавшие при этом. Она оказалась до омерзения малодушной: плакала, молила о пощаде. Умерла трусливой и жалкой. Другие палачи, убивая, издевались над жертвами. Терехов, «поэтический палач», перед убийствами отравлялся кокаином.
Однажды расстреливали матроса-большевика. Увидев Розу, он завопил: «Не хочу, чтобы меня расстреливала жидовка!» Но комиссары не обратили внимания на протест, и тогда матрос ловким скачком набросился на Розу и ударом сшиб ее с ног. Цели достиг: его схватили, но вместо Розы его пристрелил еврей Берман. Труп буйного матроса валялся в липкой и скользкой крови буржуев.
Роза, как и одесская Дора, была артисткой своего дела. В промежутках между расстрелами она молча сидела в стороне, и трудно сказать, какая драма была в ее душе. А когда ее осудили на смертную казнь, долго не находилось желающего палача.
В анатомическом театре и в обозе велись записи, и благодаря им точно установлено число убитых в чека – 759 человек. Сюда надо прибавить последнюю партию расстрелянных на Садовой и там похороненных и несколько групп отдельно расстрелянных. Общее число убитых за семь месяцев владычества большевиков надо определить, не считая жертв Куреневского восстания, от 1000 до 1500 человек. Несколько сот человек было вывезено в качестве заложников в Москву и там заключено в концентрационных лагерях.
Концентрационные лагеря – это тоже выдумка большевиков, но уже позаимствованная Западною Европою.
Любопытные порядки царили в мертвецких и на кладбищах. После случая с Верою Чеберяк, описанного ниже, было запрещено кого бы то ни было из убитых показывать или выдавать родным. Денег на погребение не отпускалось, и в анатомическом театре образовались ужасающие залежи гниющих трупов.
Целые горы их разлагались, расплываясь в бесформенную массу. С одной стороны, шла спекуляция трупами, а с другой – наблюдалось трогательное и бережливое отношение родных к погибшим. Подкупами склоняли служителей заметить место погребения близких. Закапывали трупы в общие ямы. Выполнения обрядов не допускалось. В делах комиссии отмечены случаи, когда с опасностью для жизни родные караулили тело близкого покойника и выслеживали место погребения. Потом, когда палачи уходили, находили могилы, отрывали трупы и хоронили по христианскому обряду.
Красный террор. Периодически проводимый красный террор был массовым уничтожением арестованных, чтобы путем устрашения «воздействовать на умы населения и предотвратить контрреволюционные выступления». Он проводился тогда, когда положение большевистской власти становилось неустойчивым и когда ’определялись успехи Добровольческой армии. Гибла при этом интеллигенция, чиновники, офицерство, но мало настоящих контрреволюционеров. Бессмысленно гибли и «свои» рабочие, горожане, случайно по доносам попавшие в чека. Только евреи были почти застрахованы. Восемь евреев, попавших в число расстрелянных, были либо предатели, либо спекулянты, не поделившие добычу. Даже богатая еврейская буржуазия уцелела. Списки выведенных в расход опубликовывались в газетах, чтобы «ударить по нервам интеллигенции и буржуазии».
Впервые в Киеве красный террор был объявлен 1 мая 1919 года в торжественной обстановке революционного праздника на Софийской площади главою украинского правительства Раковским. Утверждался красный террор ЦИК. Чека являлась только исполнителем. Убить «в по -рядке красного террора» значило не интересоваться ни виновностью, ни деятельностью убиваемого. Надо было просто уничтожить как можно больше людей с целью устрашить буржуазию. Красный террор не был организован по образцу Французской революции, ибо здесь уничтожались все без разбору, а не только аристократия.
Я помню характерную сценку, отражающую взгляды большевистской молодежи на красный террор, за несколько лет перед революцией в Вильно, где я жил и преподавал в превосходно поставленной еврейской гимназии Кагана психологию. С учениками у меня были самые лучшие отношения, и на экзаменах все в комиссии проходили блестяще. Теперь все очутившиеся в Киеве студентами бывшие мои ученики были, как полагается, комиссарами, а один из моих любимых и лучших учеников, Мицкун, был комиссаром университета. В августе 1919 года я встретил группу моих учеников на улице. Мы разговорились. Они были очень встревожены наступлением Деникина. Подошедший другой юноша с горящими глазами взволнованно прервал наш разговор словами: «Надо показать буржуям! Надо усилить красный террор, ударив по нервам!»
И действительно ударили! Волн красного террора было три. Всех жертв красного террора насчитывается около двухсот. По масштабу Керенского и Петлюры, которые, по существу, занимались тем же, только без ритуала, это сравнительно немного, ибо там убитых без суда было во много раз больше.
Впечатление на население красный террор действительно производил. Но он был бесполезен для предотвращения заговоров, которых и без него не было. Гипноз революции был так силен, что никто не рисковал против нее выступить. Контрреволюционные мечты и надежды, конечно, были, но переживались они в тайниках души.
Либеральная интеллигенция подделывалась под большевиков и потеряла свое достоинство. Храбрая при царском режиме, она теперь вела себя смирно. Поэтому она была права, когда говорила, что гибнет в чека невинно. Большие группы чиновников и либералов выслуживались перед большевиками и искали протекции для получения мест. Шли даже в чека, не брезгуя и этой службой.
Многие чекисты говорили, что они были мобилизованы и посланы в чека против их воли.
Грабежи чека по существу были не больше таковых предшествующих режимов. Это говорят цифры. Конечно, главное разграбление было сделано при Керенском, когда во всех домах поголовно вторгающиеся банды дезертиров-солдат опустошали все. Теперь и в этом была введена система. Школа Пилсудского и Савинкова сказалась и на чекистах. Здесь только все делалось по ордерам. В официальных инструкциях и программах нигде не говорится о грабежах. Теоретически конфискованные вещи и деньги должны были сдаваться в хранилище. Но туда поступала только незначительная часть награбленного. Награбленные и сданные на хранение ценности забивались в ящики, опечатывались и сдавались на хранение в Государственный банк. Там хранилось много ящиков с ценностями, которые числились за чека и были в ее распоряжении. Я все это констатировал на основании произведенного мною в банке расследования. При Государственном банке кроме еврея-студента Рубинштейна состоял какой-то комиссар, не то Смирнов, не то Семенов, на удивление революции честный. Он верил, что все награбленное принадлежит «народу», и периодически отправлял эти ящики в Москву, не распечатывая и не проверяя их содержания. Всего он переслал около 40 ящиков. По сообщению, сделанному мне чинами Государственного банка, в некоторых из них заключались большие ценности. Называли дорогие ожерелья и золотые часы Бобринского, в которых одного чистого золота было семь фунтов и которые по мирному времени ценили в три миллиона. Все, что не было отправлено в Москву, было забрано чрезвычайками обратно и полностью разграблено.
Комиссаром Государственного банка был студент 2-го курса Киевского университета еврей Рубинштейн, который, конечно, ничего не понимал в делах банка. От большевистских комиссаров, впрочем, как и от парламентских министров, не требуется специальных знаний. Он многое прозевал и не уничтожил важных документов.
В Государственный банк являлись люди с записками от чека, вскрывали ящики, вынимали из них, что нравилось, и уходили, вновь запечатав их. Любительницей бриллиантов оказалась героиня большевиков Анжелика Балабанова и ее товарищ Ефим или Ефрем. Я сам исследовал документ, подписанный Раковским, который предписывал банку выдать товарищу Е. все, что он найдет нужным. Парочка говорила, что эти деньги им нужны на пропаганду, что, конечно, было вздором, ибо в те времена шла не пропаганда, а резня. Они вдвоем облюбовали жемчужное колье и очень ценную бриллиантовую вещь, которую и забрала себе Балабанова.
Люди старого режима, конечно, возмутятся таким грабежом. Однако позже вся Европа и Америка покупали эти краденые вещи, а Ллойд Джордж эти кражи санкционировал своим знаменитым афоризмом, что «торговать можно и с людоедами».
Губчека сдала на личный счет 29 миллионов рублей и все забрала обратно.
Чека особенно громила все места, где было обнаружено что-либо царское. Так разыгрался инцидент в госпитале Мариинской общины, где я тогда работал.
В зале общины были царские портреты в больших золоченных рамах. После революции их оставили висеть, но «из приличия» завесили простынями – чтобы и честь приобрести, и невинность соблюсти. Но это двуличие не укрылось от наблюдательного взора жиденка, находившегося среди больных. Он приподнял уголок завесы и, столкнувшись со взглядом Императора, не вынес его. Он заорал «гевулт» и бросился к телефону, зовя чека.
– Уй! Царские портреты! Поймал контрреволюцию с поличным...
Три дня и три ночи подряд грабили чекисты общину. Сейчас же прачка донесла, что в чулане были скрыты ценности и вещи попечительницы общины Воронцовой-Вельяминовой. Обобрали сестер и арестовали пять человек во главе с доктором Киричинским. Пошло гонение на общину, и все мы долго висели на волоске от расстрела.
Лацис написал против общины громовую статью в «Коммунисте». И очередь ареста дошла до главного врача. Ему пришлось скрыться, выбравшись куда-то в лес к знакомому. Я должен был его заменить и нес эту тяжелую службу до прихода добровольцев.
Здесь отражались нравы большевиков.
Мариинская община была одним из лучших лечебных заведений, а профессор, главный врач, был знаменитый хирург. И этот госпиталь стал скоро лейб-учреждением большевистской головки. Сюда привозили на перевязку председателя губчека Сорина, когда он был ранен при усмирении Куреневского восстания. И надо признаться, он держал себя геройски.
Затем произошла изумительная сцена с Блюмкиным.
Привезли паршивенького жиденка с резко выраженными знаками дегенерации. «Один глаз смотрит на вас, другой – в Арзамас». Отвислая, почти негритянская губа шлепала, когда он, брызгая слюной, изъяснялся на типичном жаргоне. Низкого роста, со взглядом исподлобья, он глядел волком. Держался довольно бодро.
Сейчас же вызвали профессора. Тут же стояли молодые люди в кожаных куртках. Хирург осмотрел раненого и ахнул: пуля попала в рот, прошла сквозь мозжечок и вышла через затылочную кость. Но жиденок держался и нахально торопил профессора. Профессор к его заявлениям остался равнодушен и делал свое дело. Тогда тот с большим апломбом, словно весь мир его знал, спросил:
– Вы знаете, кто я?
И действительно, весь мир знал его...
– Я – выразительно ткнул он себя пальцем в грудь, – Блюмкин. Я – Блюмкин.
Но и к этому имени профессор остался равнодушен. Тогда еврейчик поставил точку над i.
– Я – убийца графа Мирбаха! (Германского посла в Москве.)
Приступили к очистке раны и перевязке. Всякого другого такая рана уложила бы на месте. Но еврей был живуч и держался изумительно. Ни стона, ни защитного движения. И присохло, «как на собаке». Даже без повышения температуры. И уехал домой.
Однако здесь пахло большой драмой. Его подстрелили сами большевики как левого эсера. Своя своих не познаша.
Роясь в бумагах чека, я отыскал изумительный документ. Это был клочок бумаги, на котором была безграмотной рукой написана покаянная Блюмкина, где он клялся перед «дорогими товарищами», что он не враг революции, и просил пощады, зная, что они хотят с ним расправиться. И вот расправились-таки. Но не приняли во внимание, что Блюмкин человек особенный и может ходить с простреленным мозжечком, и что это ему нипочем!
Уже впоследствии, в эмиграции, я прочитал, что Блюмкин – «таки да», расстрелян большевиками. Фаланги и скорпионы революции ненавидели и уничтожали друг друга.
Другая сцена дала мне случай встретиться с Раковским.
Уже когда я исполнял обязанности главного врача, получаю однажды по телефону приказание прислать к Раковскому сестру милосердия. Его революционное величество изволили захворать. Я долго думал, кого послать, и остановился на скромной демократической сестре Федоровой. У Раковского она пробыла пять дней и, вернувшись, дала мне поучительный рапорт о том, как живут новые монархи от революции. Жил Раковский в роскошной квартире какого-то буржуя, которого выселили куда-то в подвал. Вся обстановка была краденая. На столе – яства старого режима: икра, семга, вина. Сестра рассказывала, как Раковский над ней посмеивался, что, «вероятно, вы ненавидите нас, только скрываете»...
«Но, – говорила сестра, – видимо, он не дурак».
Мне часто говорили русские интеллигенты того времени, что не надо судить о большевиках по низам, а что во главе их есть несомненно крупные и интересные люди. И вот в моем психофильме прошел один такой великан большевизма, сам Иоффе, подписавший Брест-Литовский мир.
В один далеко не прекрасный для меня день мне, как главному врачу, говорят по телефону: «К трем часам дня приготовить отдельную комнату для роженицы, которую обставить так, как если бы Императрица Мария Феодоровна собиралась родить наследника Российского престола».
– Слушаю.
– Если не исполните, будете иметь дело с чрезвычайкой.
– Слушаю.
Консультантом по акушерству состоял профессор Яхонтов. Я вызвал его и сообщил ему приятную честь, выпавшую на его долю, и, отдав все распоряжения, с невеселым чувством сел за микроскоп. Было одиннадцать часов утра. Мало-помалу работа затянула меня, и когда я очнулся и посмотрел на часы, с ужасом увидел, что уже половина пятого. Я схватился с места и пошел проверить, все ли сделано, ибо иначе чека разнесет весь госпиталь. Попавшаяся навстречу сестра сказала, что профессор Яхонтов был, что роды кончились благополучно. Я должен был проведать больную и, тихонько постучав в дверь, вошел. На чисто убранной кровати в белоснежном белье, в кружевном нарядном чепчике на кровати лежала молодая красивая женщина, еврейка Мария Гиршберг, гражданская жена знаменитого большевистского дипломата Иоффе. В ногах кровати стояла колыбелька с младенцем, которого телефон провозгласил наследником Российского престола. Привычным взглядом я окинул комнату. Все было в порядке и блестело чистотой. Я подошел к кровати. Роженица снисходительно кивнула головой и величественно спросила: «С кем имею удовольствие говорить?» Я отрекомендовался как временно исполняющий обязанности главного врача и осведомился, не нужно ли ей чего-либо. На это великая особа соблаговолила выразить желание, чтобы я доставил ей ванну «получше» для ее ребенка и... «нельзя ли лишнюю прислугу?».
Бедные русские глупцы! Делая революцию, они заботились об упразднении унизительного звания прислуги и утверждали, что боевые генералы должны сами чистить сапоги. А тут: «лишняя прислуга!» Я поклонился. Забегали сестры, полетел в город заведующий хозяйством доставать ванну... А мы ожидали великих и богатых милостей, надеясь, что сильные мира переложат гнев на милость и освободят наших арестованных в чека. Не тут-то было! Претендентка на мать наследника престола величаво отлежала свои девять дней. Сам Иоффе, похожий на откормленного приказчика, с брюшком, в обыкновенной пиджачной паре, спокойно шел по коридору, когда я его встретил, навестив его супругу. А на следующий день профессор Яхонтов встретил меня совершенно растерянный: ночью к нему в дом явились чекисты, произвели обыск и опустошили весь его винный погреб, которым он так дорожил.
Мы посмеялись: это был гонорар за помощь рождению наследника. Наши арестованные лишь чудом спаслись впоследствии.
Мария Гиршберг належала в больнице на три тысячи рублей. И тут-то разыгрался скверный анекдот. Она выписалась, ничего не уплатив: ведь теперь все было «народное», а единственным народом был ведь народ еврейский. Я со счетом отправился к начальству.
Начальник спросил:
– Это что?
– Счет за лечение Гиршберг.
– Ну так что же?
– Прошу уплатить.
– Ну так спрячьте это в карман.
– То есть как?
– А так. Хотите иметь дело с чека?
Я понял. Так вот они, «кристально чистые». Гм...
Я исследовал много доносов и отчетов о слежке в чека, но большинство доносов делалось устно. Писания были смешны и жалки, но окупались они человеческой кровью. Техника сокрытия вещей была изумительная. Но чекисты всегда находили спрятанное.
Легенды о том, что сыск у большевиков был поставлен на должную высоту, не отвечают действительности. Чека была подозрительна, труслива, всюду видела контрреволюцию.
Настоящей связи с армией Деникина не было, и те, кто впоследствии приписывал себе эти заслуги, редко имели их на деле. В казематы чека сажали шпионов, но арестованные скоро их разгадывали. В то время институт секретных сотрудников еще не был усовершенствован. Смертным грехом было юдофобство: за слово «жид» человека ждал верный расстрел.








