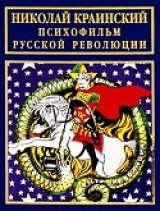
Текст книги "Психофильм русской революции"
Автор книги: Николай Краинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Многие колебались. Много революционной интеллигенции было теперь скомпрометировано своим отношением к добровольцам, и их ждала при возвращении большевиков жестокая расправа. Им не оставалось другого выхода, как уходить. Но никто тогда не знал, что такое уход. Некоторые превращения были поразительны и весьма характерны для этого времени.
Мой старый приятель доктор Г. был в течение многих лет партийным эсером. Это был умный, идейный и своеобразно честный человек из породы «кристально чистых». Он понимал как психиатр не меньше меня то, что происходит. Но шел в ногу с революцией. С наступлением революции он выдвинулся в число ее главарей и стал диктатором психиатрического дела, сразу заняв места сброшенных революцией старых коллег. Долго плыл он по поверхности революционного моря, но, как человек умный, ставший пассивным орудием высшей силы революции – еврейства, жестоко внутренне страдал от уязвленного самолюбия. Во время Керенского он ловко приложил руку к разграблению моего госпиталя, посадив туда в качестве врача свою жену. Ему пришлось подделываться под комитеты, состоящие из служителей и кухарок. По отношению к революции он был мягок и не противлялся злу. Пришла украинская власть, Г. стал украинцем. Пришли большевики, он сразу оказался большевиком. При гетмане он был лояльным. При добровольцах он прозрел и на этот раз, по-видимому, искренне.
В один из мрачных ноябрьских вечеров я шел с винтовкой наготове по неспокойной улице и вдруг столкнулся с доктором Г. Он был тогда главным врачом Кирилловской больницы и был встревожен сведениями о будто бы готовящемся нападении местных большевиков на добровольческий пост, стоящий у телефона в больнице и поддерживающий связь с передовыми отрядами фронта. Когда он сообщил это мне, я забил тревогу и предложил ему отправиться со мной в контрразведку, чтобы сообщить об этом. Убежденный и идейный революционер сделался доносчиком и предателем своих и оказал Добровольческой армии услугу. Меры были приняты, попытка предотвращена, но доктору Г потом пришлось отходить с нами на Одессу, покинув свою больницу. Впоследствии он вернулся к большевикам, где, вероятно, и «сгорел на костре революции».
Деятельность коменданта Киева, генерала Габаева, была ужасающа, непонятно только – вследствие ли слабости и непонимания положения или влияния его грузинского окружения. Он оказывал давление на военный суд, настаивая на оправдании Валлера, а затем вопреки всем законам помиловал этого чекиста, снабдил его документами офицера Добровольческой армии и в момент отхода освободил его из тюрьмы, послав для этого своего адъютанта. В такие времена комендант должен быть тверд и непреклонен, а если генерал совершил свои преступления по слабости и непониманию, это не есть оправдание.
Последние ночи перед уходом добровольцев были кошмарны. Мрак, стрельба, разбои. Отсутствие воды и электричества. Путь на Фастов был еще свободен, и говорили, что можно отходить на Жмеринку, где соглашение с галичанами было обеспечено. Путь на Полтаву был уже отрезан. Там оперировали банды разбойников, которых называли «зелеными». Поезда проходили под обстрелом. По Черниговской линии большевики подходили к Броварам.
27 ноября мы получили приказание к 6 часам вечера быть с вещами в штабе. В эти дни по улице военному можно было ходить только в полном вооружении, ибо на них открыто нападали. Я собрал необходимое в мешок и, бросив на произвол судьбы свое имущество, забрал в сумку рукописи моих работ и ушел из дому, чтобы навсегда покинуть Киев. Мы шли не на беженство, о котором тогда и не помышляли, а на последнюю борьбу в рядах отступающих войск.
ГЛАВА XIII
Отход от Киева до Белой Церкви
Все офицеры были в сборе. Около шести часов вечера пришел приказ грузиться. Поднялась суета. Надо было реквизировать, то есть просто насилием и угрозой захватить подводы. Эта операция производилась чисто разбойническим образом: хватали на улице подводу, приставляли к груди возчика револьвер и заворачивали к себе.
Был темный, мрачный ноябрьский вечер. У театра еще горели огни, и на площади было немного света. Картина выноса тюков была жуткая. Грузили на несколько подвод. Мы стояли группой на тротуаре, когда к нам подошел генерал Розалион-Сошальский. Ему только что сообщили об эвакуации. Сам он должен был ехать в поезде генерала Драгомирова и пришел осмотреть свой штаб прежде, чем он тронется. Обоз стоял наготове. Я раздобыл небольшой мешок с кусковым сахаром и думал, что он очень пригодится для штаба в походе. Я положил его на одну из подвод. Но не успел я оглянуться, как кто-то его спер.
Было около семи часов, и генерал должен был решить, идти ли с нами или отправиться в штаб генерала Драгомирова. Он решил идти туда. Надо было дать генералу провожатого. Начальник штаба осмотрелся кругом, ища подходящего человека, и вдруг обратился ко мне:
– Доктор, проводите генерала.
Мне очень польстило такое поручение, Я зарядил винтовку, и мы вдвоем пошли. На улицах было жутко. Кромешная тьма, всюду стрельба, мелькавшие иногда вблизи неясные силуэты людей. Надо было пробираться осторожно и не подпускать к себе близко встречных. Я держал оружие наготове и гордился своею ролью конвойного. Нечего греха таить: мне нравились эти авантюры. Я думал:
«Вот, черт возьми, какими делами занимаюсь!»
В штабе был свет: значит он не ушел. Охрана штаба была слабовата, и если бы местные большевики имели больше инициативы, они могли бы захватить его голыми руками. В штабе был порядок, и начальник штаба генерал Вахрушев был совершенно спокоен.
Пока генерал Розалион-Сошальский сидел в кабинете у начальника штаба, я стоял в пустой комнате перед дверью, как часовой, с винтовкой у ноги. Вышел генерал, сказал, что он остается здесь и чтобы я передал штабу приказание двигаться на станцию немедленно. Черно было кругом, когда я пробирался к своему отряду, а когда пришел, он уже двинулся.
Со штабом шли женщины, жены офицеров. Улица была пуста, ни зги не было видно от черноты ночи. Все казалось подозрительным, и все боялись друг друга. Люди, как хищные звери, рыскали кругом. Местами мы попадали под редкий огонь. Когда мы проходили мимо университета, я вдруг услышал в тишине ночи знакомый голос. Я окликнул. Да, это была М. А. Сливинская с мужем, полковником Генштаба. С этой женщиной мы встречались уже не раз, и всегда в самые трагические моменты революции. Она опять кого-то спасала.
И все-таки картина была жутка, но красива. В двух шагах не было видно человека. Со всех сторон можно было ждать нападения, и никто не мог сказать, доберется ли он до цели.
Действительность будит ассоциации. Я вспомнил такую же феерическую ночь отступления армии на Мазурских озерах. Ночь была так же зловеща и черна. Кругом пылали пожары, и зарево их временами прорезывало ночную тьму. Сплошным потоком шли по шоссе отступающие войска, обозы обгоняла конница, вереницей заполоняла шоссе автомобильная рота. И когда зарево пожара на время освещало это шествие, картина была грандиозна. Здесь – в нашу ночь отхода – не было грандиозности. Это уже не была великая Императорская армия, а тень ее, без императорских знамен, без будущего. Уже валящаяся в бездну непредрешенства.
Приблизительно в одиннадцатом часу ночи мы добрались до станции. Товарный двор станции напоминал военный лагерь. Мы долго узнавали, на какой площадке нам грузиться. У воинской платформы уже стояли наши вагоны.
Разместились, как обыкновенно бывало на походах. Но с нами были дамы, и нельзя сказать, чтобы в их присутствии у их мужей было много воинского духа. Не место женщинам в таких передрягах! Семейства волновались и трусили. В первый раз я выступал в поход с женщинами. Вслух рисовали всякие ужасы, и кто мог тогда подумать, что это были только слабые наброски фантазии того, что фактически пришлось пережить впоследствии и что многим из присутствовавших уже не придется пережить надвигающихся событий.
Всех тянуло скорее тронуться. Куда? Не все ли равно! Только подальше от надвигающейся опасности. Я был в задирательном настроении и слегка поддразнивал храбрых воительниц.
– Отрежут... Окружат... – шептал голос из темноты.
– Ну что же, и окружат. Пробьемся! – отвечал я из своего угла.
Но всякое волнение проходит. К утру все заснули. Утром мы огляделись. Наш поезд состоял из 15-20 вагонов-теплушек. В одном из них, переднем, помещался штаб, четыре вагона были отведены под отряд Красного Креста, а остальные вагоны занимала 7-я кавалерийская дивизия. Под этим громким названием было около трехсот всадников без лошадей, составлявших четыре полка. Опытные люди устроились даже недурно. У командира Кинбурнского полка в теплушке получилось даже нечто вроде гостиной. Зажили мы в эти дни настоящей военно-походной жизнью. Красный Крест устроился даже с комфортом и приютил меня. Генерал и начальник штаба ехали в поезде генерала Драгомирова. В вагонах дивизии было оживленно.
С утра все ждали, что поезд скоро тронется, но узнали, что вся станция забита поездами, что паровозов мало и что с трудом выпускают один поезд за другим. На второй день нашей стоянки обнаружилось, что дело идет уже не о перемещении штаба, а о настоящей эвакуации города. Всюду было полно людей. Военные и гражданские части грузились эшелонами. Уходило не только либеральное, но и революционное прошлое. Эвакуировались власти, общественные деятели, городская управа, чиновники, профессора, люди свободных профессий. Здесь был цвет русской интеллигенции, теперь прозревшей, которая стремилась уйти от большевиков. Похоже было на настоящую эвакуацию, когда еще на что-то надеялись и думали, что где-то еще удастся пожить по-человечески.
Накануне посадки я зашел на мою прежнюю квартиру, где уже умер мой школьный товарищ Заламатьев. Его сестра мне напророчила: «Да, уйдете вы, добровольцы. Будут большевики. Уйдете совсем и больше не придете».
Я шутил: «Вернемся, когда зацветет сирень».
Но многие уже уверенно говорили: «Это конец Добровольческой ар -мии, совсем конец. Она погибла, и ничто более ее не спасет».
На станции тревога росла. Было очевидно, что посадить-то посадят, а вывезти не смогут. И счастье, что люди не знали правды. Завидовали тем, кто был половчее и умудрялся уходить в первую очередь. Ходили слухи, что путь на Одессу пресечен. Со стороны Слободки слышалась неумолкающая канонада. Передавали, что отряд полковника Удовиченко с 2000 человек пошел в тыл большевикам, но скоро выяснилось, что он потерпел неудачу и с трудом спасся.
В эти первые дни я еще ходил в город. Люди были растерянны, пришибленны. Радовались одни евреи. Остальные знали, что ждет их впереди. Всюду выражали сожаление по поводу нашего отхода и надеялись на скорое наше возвращение. 16 ноября стали обстреливать город из-за Днепра. Временами большевиков несколько оттесняли, и тогда обстрел ослабевал. Цены в городе росли, мародерство усиливалось, и в этом особенно усердствовали кавказцы, присосавшиеся к Добровольческой армии. Однажды я натолкнулся на такую сцену: в переулке я услышал раздирающий крик женщины и выстрелы. Я был в офицерской шинели, с докторскими погонами, при заряженной винтовке и револьвере. Бросившись туда, я застал двух восточных людей в черкесках и погонах, открыто грабивших на улице старую еврейку. Мое вмешательство спасло ее от убийства. Грабители были из грузинского отряда генерала Бабаева и не решились расправиться со мной.
На Мариинско-Благовещенской улице, против общины Красного Креста, куда я зашел по делу, на мостовой лежал труп бравого унтер-офицера, добровольца, которого кто-то только что ухлопал. Я задержал ехавшего мимо ломовика, пригрозив ему револьвером. Мы взвалили труп на подводу, и я приказал ему отвезти покойника в анатомический театр. Никто не знал, кто убитый, и, конечно, никто из близких никогда и не узнает о его кончине. И черт знает, зачем я это сделал! Вероятно, ломовик по дороге просто вывернул труп и не довез его туда, куда было приказано.
Повсюду происходили сцены отказа в приеме добровольческих денег. И это было знаком полного их падения. В одном месте я застал толпу, окружавшую торговку, которая не хотела продавать товар, требуя советские деньги. Опять мой беспокойный дух толкнул меня вмешаться в это дело. По существу – не хочет брать, ну и черт с нею. Но меня взорвало добровольческое самолюбие: ведь мы еще не ушли. Я пригрозил ей револьвером: это ведь был единственный язык, который тогда понимали. И толпа осталась довольна моим вмешательством. Тут же, вслед за этой сценкой, разыгрался другой эпизод, столь характерный для того времени, что, умолчав о нем, я исказил бы фильм, отражающий действительность, и не отметил бы тех причудливых переливов событий и переживаний, которые так типичны для революции. Отойдя на несколько шагов от торговки, я столкнулся лицом к лицу с милой женщиной, с которой у меня недавно был флирт. Нас потянуло друг к другу. И в этой невероятной обстановке, когда я должен был торопиться к эшелону, когда кругом витала смерть и все висело на волоске, я соблазнился и на четверть часа завернул к ней. < . > Выстрелы на улице вернули нас к действительно -сти, и мы расстались, чтобы уже больше никогда не встретиться.
Я посетил Галицкий базар. Там спекулировали. И кажется, что, когда рушится весь мир, люди все еще гонятся за наживой. Интеллигенты продавали свои вещи в поисках продовольствия.
В эшелоне походная жизнь шла своим порядком. По утрам солдаты Кинбурнского полка в полном боевом снаряжении уходили по наряду за провиантом, который покупали, а не грабили. Офицеры были на общем котле. У Красного Креста был даже спирт, а он много значил в это тяжелое время.
Первые дни стоянки прошли даже сносно. Я люблю эту жизнь. Переряжаешься в шкуру солдата и живешь беспечно сегодняшним днем.
В вагоне Красного Креста я помещался на носилках с хорошей подстилкой. Тогда нас еще не заедали вши, и это был райский период наших скитаний. Бараница – теплое одеяло из бараньей шерсти – хорошо грела. На счастье, дни были не слишком холодные. В вагоне каждый устраивался по своему вкусу. Доставали в теплушки железные печи. Еще с царских времен этого запаса было неисчислимое количество. Доброе старое царское время! И теперь еще оно нас грело, питало и одевало. Если бы не было его запасов, давно бы все погибло. Даже железнодорожники, грабители из грабителей, не могли все уничтожить. А теперь никто этого добра и не охранял: «Бери что хочешь!» Теперь это «ничье» – «народное». «А мы? Кто были мы? Русский народ или его отщепенцы, лишенные быховскими генералами великого прошлого, императорских эмблем, лозунгов, гимна? Были ли мы русским народом?»
Большинство людей не понимало серьезности положения и не верило в опасность. Мы перескочили из третьей очереди в одиннадцатую и стали сильно тревожиться, что нас не вывезут. А ведь мы все-таки были отделением штаба главнокомандующего. Некоторые боевые части силой захватывали паровозы и заставляли себя везти. Бывали случаи, что вооруженные люди отбивали паровоз от другого поезда и, прицепив к своему поезду, уходили. По долгу истины должен констатировать, что ничего подобного при эвакуации у большевиков не происходило. Там она совершалась в величайшем порядке, никого не покидали, и сохранялась строгая дисциплина.
В это время жуткий страх охватил наш храбрый штаб, в котором, однако, было 13 офицеров. Своими сетованиями и стонами жены развращали своих мужей. 29 ноября во мраке наступающей ночи, которая давала возможность невидимо краснеть, в вагоне штаба завязался постыдный заговор. На совещание позвали и меня. Таинственно шептали, что мы обречены, покинуты, забыты, что мы не получим паровоза, будем окружены и вырезаны. Говорили о том, что штаб должен перейти в другой поезд, и уже разыскали вагон, в котором можно поместиться. Гнусным и постыдным показался мне этот заговор. Я резко запротестовал. Я доказывал, что мы не имеем права покинуть отряд и без приказа бросить дивизию. Я говорил, что в последнюю минуту мы вместе с нею с боем отойдем. Я дерзко заявил, что своей части не брошу и что считаю бегство позором. На этот раз я победил. Но на следующий день, потихоньку и подло сговорившись, кто-то кого-то подкупил, кого-то попросил, и темным вечером штаб бежал от своей дивизии. Старший полковник на этот раз без лишних разговоров заявил мне, что они решили перецепиться к другому поезду: «А вы, доктор, как хотите». Мы молча расстались: я – с презрением, а они – с ненавистью ко мне. И больше в эти дни я о них не слыхал. Дело ухудшалось. На беду, настали редкие для Киева туманы, почти непроницаемые. В десяти шагах не видно было человека. Маневрировать в бою было почти невозможно. Большевики заняли Дарницу, и Днепр стал замерзать.
Мы хорошо понимали, что, как только окрепнет лед, большевики перейдут Днепр. Говорили о каких-то 800 орудиях, делавших будто бы Киев неприступным со стороны большевиков. Войск было мало, однако впоследствии отошедшая в Польшу армия Бредова насчитывала около 22 тысяч человек. Такие силы могли дать отпор, и, если они его не дали, дело было не в количестве: части просто уже потеряли свою боеспособность и не принимали боя.
На следующий день после бегства штаба заволновался и Красный Крест. Врачи стали наседать на меня: «Мы не уедем, нас бросят»... Отрицать факт было нечего. Хотя нас никто не бросал, но было ясно, что мы обречены. Но обречены лишь не следовать с поездом. Впереди нас и с нами ведь оставались боевые части. Я говорил: «Мы выгрузимся и с боем пойдем пешком». Но люди словно обезумели. Меня упрекали в донкихотстве. Но на меня это произвело только подхлестывающее действие. Я категорически заявил, что своей дивизии не брошу, а разделю ее судьбу. На моем попечении находились раненые, и бросить их было невозможно. Они говорили о бесполезности риска, которого никто не оценит, и убеждали меня бежать. Но чем больше они меня убеждали, тем приятнее становилось сознание, что, оставшись, я выполню свой долг. Воспретить это бегство я не мог. Они отправились на поиски и вечером привели к себе в вагон молодого офицера, накачали его спиртом. Ночью к поезду бесшумно подошел паровоз и, отцепив четыре вагона Красного Креста, увел их к другому поезду. Я едва успел выкинуть на платформу свои вещи и выскочить сам. Среди ночи я остался один на темной платформе у поезда с оторванною головой. Но в поезде все же была боевая часть. Пусто было кругом меня, но радостно на душе от одержанной над собой победы, и я был горд ею. Меня не тянуло уйти, и в силу своей натуры я не мог бы этого сделать. Но в тайниках души соблазн, вероятно, был, и его надо было победить. Куда мне было деться? Я не стал стучаться в офицерский вагон-теплушку. Но в эшелоне были пустые вагоны, хотя и без печей, и я забрался в один из них и расположился на холодном полу. Ночью же сюда перебралась группа в 27 солдат Кинбурнского полка, и я прожил с ними эти последние три дня нашей стоянки. Это было поучительно.
Предо мною вскрылось теперь настоящее лицо гибнущей армии. По внешности в строю, в казарме полк еще походил на воинскую часть. Но здесь, в вагоне, в своей компании это были настоящие бандиты-большевики. Солдаты разделялись на две группы – добровольцев и мобилизованных. Добровольцы были беспечны, бравировали и веселились. Мобилизованные были унылы и молчаливы. Добровольцы презирали мобилизованных. В вагоне царило полное нестеснение и совершенная разнузданность. Никто ничего не хотел делать. Каждый наряд принимался с руганью по-матерному, с отказами и пререканиями. Каждый приказ обсуждался. Боялись, чтобы, боже сохрани, как бы случайно не перенести офицерских вещей и не унизить своего солдатского достоинства. Офицеры были корректны с солдатами до крайности, и это иногда носило оттенок слабости, в ущерб дисциплине. Никто не решался попросить солдат помочь в чем-нибудь. Лежа на своих носилках, поставленных в углу теплушки, я приходил в отчаяние и злился. Эти солдаты для боя уже не годились: от них так и несло приказом № 1, который здесь стремились соблюдать в полной чистоте. Грязь в вагоне была невыносима, и никто палец о палец не ударит, чтобы прибрать. Все было заплевано. Залихватски распевали добровольческие частушки, в которых повествовалось о подвигах добровольцев и поносились жиды и комиссары. У этих людей совершенно не было идеи спасения России. Они шли против большевиков, а сами были чистые пугачевцы, набитые глупой фанаберией керенщины.
Впечатление о моих сожителях стало совершенно безотрадное, и это был перелом в моей душе, после которого я перестал идеализировать тип добровольца. Я лежал у самой печки. Было очень неудобно, и я пожалел о своем спартанстве, не перейдя в офицерский вагон.
В ночь с 1 на 2 декабря туман был непроницаем и мрак абсолютный. Канонада гремела вовсю. Эшелон мирно спал, и на станции все было тихо. Ночь на 3 декабря опять была до невозможности туманна. Грохот орудий еще ни разу не достигал такой силы. Днепр буквально гремел своими орудиями, а мы не подозревали, что это стреляет неприятель, подготовляя переправу через только что замерзшую реку. Всю ночь канонада владела вниманием. И вдруг она сразу затихла. С первым проблеском рассвета над станцией пронеслась весть: «Большевики переправились через Днепр и занимают Киев».
Мы по-прежнему стояли без паровоза. Почти все поезда ушли, и теперь снимались последние. Два наших офицера бросились искать паровоз. Все было готово к высадке, чтобы успеть отходить пешим порядком. Было приказано выслать разведку из семи всадников, и я отпросился у командира полка пойти с ними. В жуткой тишине морозного утра мы тронулись по железнодорожному полотну по направлению к мосту. Пустынно было кругом. Мы шли сначала по насыпи, затем я спустился влево и пошел вдоль нее. Солдаты рассыпались и шли параллельно. Нас обогнал бронепоезд «Доблесть витязя» с двумя пустыми платформами впереди. Навстречу часто попадались нам отдельные отходившие солдаты и железнодорожники. От них мы впервые узнали, что в шестом часу утра большевики в двух верстах южнее железнодорожного моста перешли Днепр гуськом по льду. Батальон Белозерского полка, занимавший здесь участок, прозевал переправу и вместо того, чтобы отбросить большевиков, сам стал отходить. На поддержку была двинута офицерская рота, и надеялись, что большевиков отбросят. Но они уже начали распространяться по нашему берегу и открыли россыпной огонь. Мы не успели еще пройти второй версты, как показался обратно идущий бронепоезд. Теперь обе его бывшие пустыми платформы были набиты солдатами батальона белозерцев. Впереди оставались одни большевики. Мы определили их число приблизительно в 600 человек. Они рассеялись между домами, и их пришлось бы выбивать уличным боем. С минуты на минуту ожидали выступления местных большевиков. Мы возвратились, и я доложил полковнику Перемыкину о положении. Было велено разгружаться и запрягать обоз.
Всем отрядом командовал полковник 8-го уланского полка Жевалов. У нас было два автомобиля и около десятка подвод. Один автомобиль был отдан мне для раненых, и я вступил в отправление обязанностей врача отряда, ибо кроме меня врачей не было. Теперь уже шло дело, и я весь ушел в работу. Не было ни страху, ни мыслей о будущем. Я погрузил трех раненых. Рядом на возу сидела супруга командира Кинбурнского полка, великолепно державшая себя. Обоз выровнялся, а дивизия выстроилась в две шеренги вдоль перрона. Обоз в полном порядке шагом тронулся по направлению к Соломенскому шоссе. Когда я взглянул туда, то увидел форменный отход добровольческих войск и верениц беженцев через мост, перекинутый над полотном железной дороги, по шоссе. Туда же по полотну медленно ползли поезда, получившие паровозы в последнюю минуту. Шли без суеты и паники. Потом обнаружилось, что наши офицеры захватили паровоз, и машинист обещал вывести поезд, но в критический момент стрелка оказалась запертой: какой-то мерзавец обрекал людей на гибель. Я проводил обоз глазами, оставив при себе автомобиль с ранеными на случай, если придется посадить вновь раненных, и, когда кончил его снаряжение, доложил об этом командиру отряда. Мы стояли на левом фланге выстроенной дивизии. Командир подошел к автомобилю, осмотрел этот жалкий «Форд». Один из больных тащил туда тяжелый мешок с вещами. Я без разговоров вывалил мешок на землю: не до вещей теперь было.
– Все готово, доктор? – спросил командир.
– Так точно, господин полковник.
Шофер выразительно и нетерпеливо смотрел на командира: екало, видно, его сердце. Кругом уже стреляли, и пули со свистом пролетали в воздухе. Сзади и вправо от нас стояли выстроенные полки. Ожидание было напряженное, но люди держались стойко. Осталось одно место в автомобиле: кого посадить? Молчание. Командир поглядел кругом, взглянул на меня и спокойно сказал: «Доктор, садитесь вы!»
Меня эти слова хлестнули, как оскорбление перед целой выстроенной дивизией. Я посмотрел ему в глаза и медленно произнес: «А вы меня после этого станете уважать, господин полковник?»
Так же спокойно захлопнув дверцы автомобиля, я сказал шоферу: «С Богом!».
Теперь я взял в руки винтовку и присоединился к группе офицеров. Радостно стало на душе. Мои коллеги называли это донкихотством. Пусть так. А все же эти моменты давали наслаждение.
В полном порядке, спокойно перестроился отряд в колонну. Велика духовная мощь строя! Кругом уже рассеялись большевики и шел редкий огонь.
«Шагом марш!» – послышалась команда, и мы двинулись на дорогу. Со мною из всего бежавшего штаба остался поручик Котлов. Это был милый, храбрый офицер, и мы вместе с ним совершили дальнейший отход в атмосфере мелких боев. Когда мы тронулись, послышался мерный ритм пулемета, и рои пуль зажужжали над нами и среди нас. Направо от нас убило штатского и ранило на паровозе машиниста. Дальше упала проходящая женщина.
– Это нас из пулемета обстреливают, – заметил Котлов.
– Ну что ж, – возразил я. – Убьют так убьют.
Было спокойно на душе. Не всегда в психике во время боя царит животный страх. На людях бойцы подтягиваются. Конечно, тянет скорее выйти из сферы огня, но на глазах других люди бодрятся, и никто не ускоряет шага. Но пройденное расстояние мысленно отсчитывается. Под сильным огнем местных большевиков, которые еще вчера жили вместе с нами, отходящие части тянулись к посту Волынскому и по полотну дороги, и по шоссе.
Меня толкнуло в левую ногу. Пуля пробила складку сапога и задела кожу. Даже сильной боли я не почувствовал. Это был выстрел слева, со стороны вокзала. Я вспомнил предсказание цыганки: «Эти дни ходи осторожно!».
Мы вышли на шоссе и были вне сферы огня. Большевики тоже не имели наступательного порыва и не пытались отрезать отступающие части. Ко мне подошел живший здесь служитель физиологической лаборатории, приветствовал меня и пожелал счастливо выбраться отсюда: «Дай вам Бог выбраться. Много тут есть всякого народа, что еще стрелять в вас будет». Население провожало нас благожелательно, опасаясь за наш благополучный отход. Наше счастье, что здесь мало жило евреев.
Было тихое и нехолодное утро. Туман рассеялся, и небо сплошь было покрыто серыми тучами. Слева от нас отступала офицерская рота, и я видел в ней моих соратников по октябрьским боям. Как будто сама природа благоприятствовала большевикам: как только добровольцы отошли, туман рассеялся и настала тихая погода. Подходя к Жулянам, мы увидели рассыпанную до невероятности редкую цепь добровольцев, охранявшую отход. Здесь стояла гвардия под командой полковника Никонова. Солдаты стояли на расстоянии 20 шагов один от другого, пропуская через цепь отходящие части и беженцев. Командир уланского Литовского полка, в строю которого я шел, решил усилить цепь, и мы влились в нее.
Со стороны Киева было тихо. Беженцы шли в большинстве без всякого багажа. Каждый спасался в чем мог. Многие из них были обречены на гибель, как были бы обречены и в том случае, если бы остались в Киеве. В момент отхода я бросил в вагоне свой мешок с вещами. На мне была летняя офицерская шинель с погонами военного врача, хорошие сапоги, фуражка, винтовка и сумка с 50 патронами. Под шинелью был очень теплый костюм, доставшийся мне от умершего год тому назад моего отца. Из ценностей при мне были золотые часы с цепочкой и кошелек с 20 тысячами добровольческих рублей. В кармане шинели случайно замешалось несколько кусков сахару. Они буквально усладили мне жизнь во время этого похода и доставили мне столько радости!
Стоя в цепи, утомленно шагая по дороге, отстреливаясь от банд, я с наслаждением сосал куски сахару. Увы! Их было не так много.
Когда я стоял в цепи, перед моими глазами открывался простор, по которому из Киева отходили группами и в одиночку люди. Вправо от меня я заметил темную группу, двигавшуюся особняком. Когда она проходила близко от нас, от нее отделился человек и подошел ко мне. Это оказался помощник начальника киевской тюрьмы, который вел группу арестантов, выведенных из тюрьмы. Он пришел ко мне спросить совета, что делать. Я был единственным представителем власти, как член Комиссии по расследованию злодеяний большевизма, оставшийся в Киеве. Контрразведка уже ушла. Арестанты в тюрьме, согласно выработанному плану, должны были быть разбиты на три группы. Первую – отчаянных чекистов – надлежало расстрелять при оставлении тюрьмы на месте. Никого, однако, там не расстреляли. Вторую группу – более легких обвиняемых – надлежало выпустить, а третью группу в числе 45 чекистов вывести с собой, чтобы, смотря по обстоятельствам, или предать их суду, или расстрелять, если обстановка не позволит их вывести. Теперь он с небольшим конвоем и вел эту группу. Что было делать? Кругом шел бой. Отход был почти безнадежен. Я не мог дать никаких приказаний, но я не поколебался напомнить ему инструкции, и мы выразительно поглядели на ближайший лесок. Впоследствии, в Одессе, тот же помощник начальника тюрьмы рассказал мне, как их расстреляли в этом леске, ибо не было никакой надежды их вывести. Под пулеметным огнем тела людей корчились на лесной поляне, получая возмездие за совершенное ими. Но что значил этот эпизод по сравнению с той смертью, которая косила теперь сотни и тысячи людей, ни в чем не повинных, десятками отстающих, замерзающих, умирающих в теплушках от сыпного тифа и замучиваемых бандами грабящих крестьян?
Наши потери были сравнительно ничтожны. И в то же время на улицах Киева снарядом был убит профессор Брюно, с которым я только несколько дней тому назад обсуждал возможность его отхода.








