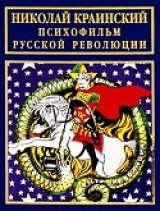
Текст книги "Психофильм русской революции"
Автор книги: Николай Краинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц)
Суровым приговором Василий Григорьевич осуждал свои прошлые заблуждения и скорбел о гибели России. Он кончил свою жизнь в Париже самоубийством, разочаровавшись в деле спасения России.
Третья, мелкая фигура, был Георгий Михайлович Линтварев, легкомысленный, наивный, но хороший человек, совершенно подпавший под влияние левых и немало потрудившийся над гибелью России. В 1903 году он не был утвержден министром внутренних дел Плеве в должности выбранного члена губернской управы. И как раз по этому поводу, будучи вызван к министру, встретился со мной на приеме у министра. Я стоял рядом с ним, когда В. К. Плеве в суровой отповеди указал ему, что «так очень легко спуститься по наклонной плоскости до полного падения»... Эти слова оказались пророческими. Линтварев бесславно закончил свою революционную карьеру, одно время примкнув к белым, и совершенно покинутый революционными бесами.
На моем военном психофильме времен маньчжурской и Великой войны много живых образов лиц, вошедших в историю – то как герои
Императорской армии, то позднее как изменники Императорским знаменам или отрекшиеся и перелетевшие в стан непредрешенцев. Куропаткина я видел на войне неоднократно и был о нем до его последних бредовых откровений на закате дней хорошего мнения. Имел я длинную беседу перед его отъездом на войну с генералом Гриппенбергом в присутствии генералов Рузского и Плеве, в которой я докладывал им все, что видел на маньчжурской войне. И в Ляояне, и потом в Вильне я встречался с генералом Ренненкампфом. Все это были тогда настоящие царские русские генералы. Некоторых из них потом захватил вихрь революции и превратил в изменников. Но тогда трещин в их психике не было. В Маньчжурии в боях под Ляояном я близко видел будущих ренегатов Империи, тогда полковников Гутора и Клембовского, с которыми был в одном отряде. И если бы тогда цыганка предсказала мне их печальную судьбу большевистских спецов, которые устроили в 1918 году муравьев-ское побоище и резню офицеров в Киеве, – я бы не поверил.
Так, встречая на протяжении своей длинной жизни людей, я не мог предвидеть, что судьба стасует карты и что одни из них сойдут со сцены жизни героями, а других поглотит бесславие и срам. Когда теперь я читаю историю последних войн и предо мною мелькают образы виденных людей, фигурирующих в роли большевистских спецов, вождей отречения и непредрешенства, в моей психике, как специалиста по душевным движениям и надрывам, рисуется весь ужас пережитой катастрофы. Из героев исторической России люди превращались в прихвостней Керенского, и генералы снимались с ним, стоя навытяжку. Революция, измотав их душу, выбрасывала их в навоз эмиграции без чести, без воспоминаний о великом прошлом, бормочущих какой-то вздор в свое оправдание отречения от Императорского штандарта.
То, чего не могли сломить японские и германские штыки, как тонкие прутья гнула буря революции. Но многие из героев Маньчжурии выдержали испытание до конца, и их славные имена остались незапятнанными. При дальнейшем развертывании моего психофильма мы еще встретимся со многими участниками маньчжурской эпопеи.
Вся революция 1905 года прошла перед моими глазами. Это была страшная катастрофа ничуть не слабее второй – революции 1917 года. Но тогда министры и генералы еще не были изменниками, а армия, казаки и полиция стояли на высоте своего долга. Несмотря на преступления Витте, Дурново усмирил этот страшный бунт при содействии здоровых сил русского народа. Начинается первая катастрофа тоже с измены: слабый умом, капризный и слабовольный князь Святополк-Мирский объявляет «весну революции» и, попав на место Плеве, разлагает власть. По возвращении из Маньчжурии я как-то был на обеде у князя, когда он был министром внутренних дел, и видел его в этой роли. Трещина появляется в верхах на протяжении всей его деятельности. Подготовляется эволюция Витте в сторону революции и слома старого режима. Женитьба премьер-министра на еврейке Матильде не проходит даром.
Из записок любовницы Ленина Крупской мы узнаем, что Ленин, Плеханов, Мартов в революции 1905 года ни при чем, и даже Лейба Троцкий прискакал на пожар 1905 года с опозданием. Один лишь член триумвирата, Струве, действительно подготовил эту революцию, перекочевав в стан либералов и подорвав аппарат власти. Вместе с либералами и общественными деятелями того времени он подвел мину под императорскую Россию. Удар революции 1905 года действительно был страшен. Поток демобилизующейся армии грозил уничтожить все на своем пути. Но генералы Меллер-Закомельский и Ренненкампф своими решительными мерами почти бескровно надели смирительную рубашку на остатки охваченной революционным безумием армии и на железнодорожную сволочь.
В высшей степени характерная сцена воздействия на психологию масс прошла перед моими глазами в Челябинске в конце октября 1905 года, когда по Великому Сибирскому пути двинулись с запада генерал Меллер-Закомельский, а с востока генерал Ренненкампф для усмирения бунтующих по всему протяжению дороги демобилизуемых солдатских масс, смешивающихся с революционной чернью и подстрекаемых революционными агитаторами. Все города по Сибирскому пути после 17 октября волновались. Во многих местах происходили контрреволюционные и еврейские погромы, тогда как в других местах верх брали революционеры. Челябинский вокзал уже две недели походил на сумасшедший дом, где разнузданная солдатня неистовствовала и громила буфеты и станции. Задевали и оскорбляли офицеров, брали силою места в поездах, расхищали склады.
На фоне сплошного безобразия вдруг пронеслась весть о том, что из Москвы через Самару двигается усмирительный поезд генерала Меллер-Закомельского с батальоном Семеновского полка, только что усмирившим Москву, с пулеметами и орудиями и беспощадно расправляется с бунтарями. Волнующиеся массы несколько притихли, но ненадолго: неистовства снова пошли вовсю.
В один прекрасный день около полудня к станции тихо подкатил поезд, остановившийся на втором пути. В раскрытые двери теплушек видны были стройные группы солдат с пулеметами наготове, а на платформах стояли орудия в полной готовности. Вся платформа и весь вокзал были заполнены тысячами только что неистовствовавших солдат вперемежку с чернью.
Поезд остановился, и вся масса в любопытстве затихла. Но солдаты в шинелях нараспашку, с папиросами в зубах смотрели на вышедшего на полотно дороги в сопровождении двух-трех офицеров генерала, и ни один из них не отдал чести, не подтянулся. Обе стороны ожидали и мерили друг друга глазами.
Генерал Меллер-Закомельский был невозмутимо спокоен. Ни малейшего лишнего движения, мимика лица не шелохнулась. В трех шагах от генерала стояла группа товарищей солдат (уже тогда это слово употребляли революционеры), курила и лускала семечки, не прореагировав на появление генерала. Генерал пристально посмотрел на ближайшего, который стоял в вольной позе, в шинели нараспашку, с папиросою в зубах и нагло глядел на генерала. Взгляды скрестились... Чья возьмет верх?
Генерал твердо, спокойным голосом сказал:
– Брось папиросу!
Толпа замерла. Солдат смутился, но папиросы не бросил и не стал смирно. Он слегка заерзал и стал смущенно говорить:
– Да я что же... Теперь свобода... Я ничего...
Генерал так же невозмутимо обратился к стоявшему с ним полковнику:
– Господин полковник, исполните ваш долг!
Из выстроившейся у вагона шеренги подъехавших солдат, стоявших с винтовками у ноги, вышло два и, став по бокам непослушного солдата, арестовали его. Сейчас же вышли члены военно-полевого суда. В две минуты был поставлен приговор. Солдат растерялся. Но было поздно. Тут же его при полном молчании толпы отвели к ближайшему сараю и на глазах у всех расстреляли. Впечатление было потрясающее. В мгновение ока толпа подтянулась и начала быстро рассеиваться. Через четверть часа станция приняла нормальный вид, воцарился порядок, солдаты стали отдавать честь офицерам.
Дежурная часть была поставлена на место, и через полчаса поезд генерала так же бесшумно удалился, оставив за собой отрезвление и порядок.
Психика опытного военачальника победила хаос. А имя генерала Меллер-Закомельского, перед тем усмирившего бунт на Черном море, оказало свое импонирующее действие.
Так же и генерал Ренненкампф с ничтожными жертвами прекратил безобразия с запада, и взбаламученное море вошло в свои береги.
Во всех деталях прошел перед моими глазами сначала революционный, затем превратившийся в контрреволюционный погром в Челябинске, где мне пришлось экспериментально пережить дикую силу толпы. Спасая человека, которого рвала толпа, я был изувечен и брошен на улице как убитый. Об этом эпизоде я напишу в другом месте, описывая мою встречу с Павлом Николаевичем Милюковым. В этом погроме революция мешалась с контрреволюцией, еврейские лозунги – с истинно русскими напевами, а кровь в большинстве невинных жертв человеческого безумия обильно заливала красным цветом драматическую картину их гибели.
Горе человеку, который в эти моменты попробует протянуть руку помощи ближнему! И когда я, падая на мостовую, подумал: «Вот он, конец» – в моей мысли пронеслась фраза: «Ай да толпа, вот она, толпа!» Я очнулся в арестантской, где вместе с израненными революционерами и контрреволюционерами мы валялись на полу и на нарах, окровавленные и перемешанные. Тут не разбирают, кого берут.
Я видел и переживал эту катастрофу, где тысячи паровозов, как замороженные трупы, стояли брошенные вдоль Великого Сибирского пути. Революционная толпа уже сжигала людей в запертом здании Томского театра, а в железнодорожном депо уже бросали в топки офицеров. Адмирал Дубасов победил взбунтовавшуюся Москву, а Дурново твердою рукою и знанием законов душевных движений масс подавил всю революцию. Революция 1905 года, однако, одержала и роковую победу в форме акта 17 февраля, который повернул Россию на путь Голгофы и предопределил ее гибель.
Много существует мнений относительно этого события, и даже многие сторонники Императора Николая II склонны видеть в этом Его акте или роковую ошибку, или проявление слабости. Но для того чтобы понять этот акт, надо вспомнить, что Россия октябрьских дней 1905 года, или, вернее, двух предыдущих лет, была настоящим сумасшедшим домом. Повальное безумие бушевало по всей Русской земле, а Государь, уже тогда всеми покинутый, остался в полном одиночестве.
В настоящее время мы располагаем историческими документами, исчерпывающим образом объясняющими роковой шаг русского Императора, – это письмо Государя к Матери-Императрице от 1 ноября 1905 года.
Как относился Император Николай II к революции 1905 года? Об этом имеется мало данных в мемуарах – в большинстве недобросовестных, – ибо многие авторы, как, например, Витте, грешили в это подлое время и стремятся в них оправдать себя. Он даже сваливает свою вину на Государя. Можно уверенно сказать, что Государь едва ли не один правильно понимал положение и со свойственным ему благородством стремился вывести Россию из катастрофы. В письме его к матери с необычайной яркостью обрисовывается все благородство, порядочность, патриотизм и ум Николая II как человека и Царя. В спокойных и полных достоинства словах он объясняет, почему решился на манифест. Видно, что он отлично отдавал себе отчет в ситуации и в поступке, который совершал.
Дело в том, что психическая зараза уже проникла в окружение Государя: его доверенные сотрудники изменили вековому курсу русской истории и повернули на конституционный путь. Пошатнулась психика большинства министров императорского правительства, а другая часть оставшихся верными погибла под ударами революционного террора. Император дает этому шатанию строгий приговор. Он пишет: «Противно читать новости. Ничего, кроме новых забастовок в школах, на заводах, убийства солдат, казаков, полицейских. Беспорядки, скандалы, восстание. Но министры вместо того, чтобы действовать решительно, только собираются на совет и, как перепуганные куры, кудахчут об объединенных выступлениях кабинета». Трудно выдумать более умную характеристику поведения этих растерявшихся сановников. Эта фраза снимает всякое обвинение Государя в слабости. И в решительную минуту Он сам поставил Трепова во главе всех войск Петербургского округа. Это был, по Его словам, единственный способ остановить революцию.
«В эти ужасные дни, – пишет Государь, – Я постоянно виделся с Витте. Нередко мы встречались с ним рано утром и расходились только поздно ночью». «Оставалось только два пути. Один – это найти энергичного солдата и подавить движение грубой силою. Другой – дать населению гражданские права, свободу слова и печати и предоставить Думе право утверждать все законы. Это была бы конституция». «Витте очень энергично защищал эту точку зрения. Он говорил, что, хотя в этом и есть известный риск, тем не менее это единственный выход из положения. Почти все, с кем я советовался, также поддерживают эту точку зрения. Витте откровенно заявил мне, что он готов принять пост министра-президента только на том условии, если его программа будет одобрена мною и никто не будет вмешиваться. Он и Алексей Оболенский (б. финляндский генерал-губернатор) составили текст манифеста. Мы обсуждали его два дня, и наконец с помощью Божией я подписал. Моя дорогая Мама, Вы не можете себе представить, что я пережил в этот момент».
«...Все, с кем я советовался...» Эти слова служат лучшим ответом на злословия, которые упрекают Государя в упрямстве и слабости. Идти наперекор стихии и поручить энергичному солдату подавить движение грубою силою – конечно, не было ни логично, ни в духе просвещенного Императора: так лечат бунт, но не повальное безумие. Это было бы и бесполезно, ибо нарыв безумия уже созрел, и сеть предательства вокруг Царя уже была сплетена.
«Мне не на кого положиться, за исключением честного Трепова. Не было другого исхода, как осенить себя крестным знаменем и дать то, о чем все просят. »
Вот эти-то «все» суть настоящие виновники грядущих бедствий России.
Из трех главных виновников катастрофы 1905 года – Витте, князя Оболенского и князя Святополк-Мирского – я лично знал и служил при двух последних. Князь Алексей Оболенский, между прочим, выдвинул меня на служебный пост во времена Сипягина, когда он был товарищем министра внутренних дел. Это был типичный аристократ-либерал, довольно умный, образованный, но жаждавший лавров со стороны общественных элементов и либеральных кругов. Его отлично характеризует Государь, обладавший необыкновенным пониманием людей. Оболенский, назначенный на пост финляндского генерал-губернатора, получил широкое поле для своей либерально-княжеской политики на окраине. «Внезапно охваченный страхом, – пишет Государь, – он перебрался в Свеаборг со всею семьей. Теперь он так скомпрометирован, что ему нельзя там больше оставаться». Вот как арестовывал трусов бесстрашный и твердый Николай II. Сам он не пошел на компромиссы, чтобы спасти себя и семью. А так всегда поступали либералы: зажгут своими демагогическими речами пожар и первые бегут от расправы. Государь первый понял, что он имеет дело с повальным безумием, с чем тогда соглашались немногие. Он пишет: «Народ как будто сошел с ума – одни от радости, другие от недовольства».
Один из первых он понял и оценил последствия сделанного шага. «Каждый день я получаю телеграммы со всех концов с выражением благодарности за дарованные свободы, но в то же время многие указывают, что они хотят сохранения самодержавия». «Почему же эти добрые люди молчали раньше?» – спрашивает Царь. На этот вопрос психолог ответит: из трусости! Царь скоро оценил ошибку Витте: «Странно, что такой умный человек, как Витте, оказался неправ в своих надеждах на быстрое успокоение страны».
Джентльмен слова, Государь не пожелал отменить обещания, данные в минуту сомнения.
17 октября было настоящим днем гибели России. Это был последний день русской славы и величия. Долгие сумерки заволокли жизнь великого народа. От них ему суждено было очнуться в оковах рабства интернационала или в безвыходном унижении эмиграции.
ГЛАВА II
Вторая половина царствования Императора Николая II
В мрачный вечер 17 октября 1905 года, когда над Русской землей сгустились черные тучи, в далеком сибирском городе, где я тогда находился в командировке, у подъезда моего дома меня заключил в свои объятия мой домохозяин – типичный русский либерал – и в радостном экстазе провозгласил:
– Поздравляю с конституцией – получен царский манифест!
–И с гибелью России... – мрачно возразил я.
Прошло с тех пор тридцать лет. Занесенная снегом великая Россия спит тяжелым смертным сном, и в кошмарных грезах ее обитателей мешаются обрывки сказки прошлого с мечтами несбывшегося земного рая, со страшными видениями настоящего, пропитанного кровью, ужасом и смертью. Под тяжелою пятою горячо жданной лучезарной, великой «бескровной революции» стонет русский народ на Родине. Бездомными скитальцами, рассеявшись по чужим землям, вкушают горе побежденных, всюду ненавидимые и всеми унижаемые русские люди.
Выступают из мрака пережитого тени прошлого и длинной вереницею в думах русского человека проходят фигуры, одними признаваемые титанами революции, героями выковывающейся новой жизни, другими – ненавидимые и признаваемые величайшими мерзавцами и мелкими бесами на ленте всемирной истории.
Под грозным молотом большевизма догорает русская либеральная интеллигенция, воспитанная на двух романах крупнейших разрушителей, и у порога гроба лепечет два роковых поставленных ими вопроса: «Что делать?» (роман Чернышевского) и «Кто виноват?» (роман Герцена).
Охваченные безнадежным безумием русские эмигранты под гипнозом своих вождей из «внутренней линии» и отрекшихся от исторических лозунгов русского народа бывших военачальников тупо отвечают: на вопрос «Что делать?» – не предрешать, а на вопрос «Кто виноват?» – большевики.
Падшим людям – а с гибелью Великой Родины все мы падшие -присущ гимн покаяния. Многие твердят о том, что виноваты все мы, и этот клич любят повторять те сошедшие на дно актеры прошлого, на душе которых лежат тяжелые грехи февральской драмы отречения от старого мира и предательства своего Царя.
С октября 1905 года сходят со сцены государственной деятельности сановники и деятели старой России и выступают на арену русской жизни новые люди. По большей части это знакомые русской истории по смутному времени 1612 года «перелеты», – так звали людей, быстро меняющих ориентацию и легко перелетающих из одного лагеря междоусобных борцов в другой. И здесь, как во время Французской революции, в Государственной думе будут будировать бывшие чиновники самодержавной Империи и играющая своими титулами аристократия, быстро пополнявшая в эти дни ряды возникающей кадетской (конституционно-демократической) партии. В течение ближайших лет им придется совершить еще большие метаморфозы, которые доведут их до непредрешенства в эмиграции или до унизительного положения спецов в большевистской России. Многие из перелетов уйдут в ряды парламентских говорунов, а рядом с ними обрисуется порода честолюбцев-карьеристов, быстро эволюционирующая в погоне за министерскими портфелями, так легко добываемыми при парламентском строе. Среди них редко вкрапленными останутся честные и стойкие сановники, преданные Царю и Родине, понимающие безумие происходящего. В награду они в будущем найдут смерть в казематах Петропавловской крепости и в подвалах чека.
Эпоха после 1905 года, с одной стороны характеризуется реакцией против революции только что пережитой, а с другой стороны, это период систематической подготовки к будущей «великой» революции. С этих пор власть попадает в руки премьер-министров, стремящихся перехватить ее от самодержавного Царя, а с другой стороны, весь чиновный аппарат уже не знает, на кого ориентироваться: на исторического Самодержца земли Русской или уже приступающую к разложению государства Российского Думу. Многие из деятелей этой эпохи проходят в моих воспоминаниях в живых образах, ибо судьба сводила меня с ними и в общественной и в личной жизни.
Революция 1905 года коснулась лично и меня, как деятеля, твердо служившего старой Императорской России и разделявшего идеологию ее руководителей. К этому времени я занимал пост директора лучшей в России образцовой правительственной психиатрической окружной больницы на пять губерний в Вильно. В 30 лет я по службе занимал должность пятого класса, имел ученую степень и две всемирные премии за свои научные работы. Новая больница была гордостью Министерства внутренних дел, и на ее открытии была получена поощрительная телеграмма Государя, в которой он пишет, что ему приятно было прочесть отзыв генерал-губернатора князя Святополк-Мирского о новом сооружении. Министр Плеве посещает эту больницу в конце 1903 года и дает о ней блестящий отзыв в Государственном совете, как о правительственной больнице, руководимой непосредственно министерством. За полтора года я получаю два высоких по годам службы ордена. И деятельность моя идет блестяще. Но уже перед самой революцией обнаруживается диссонанс в деятельности, идущей в направлении, указанном министром внутренних дел Плеве, и начинающим выкристаллизовываться течением князя Святополк-Мирского. В одном из разговоров со мною князь, бывший попечителем больницы, капризно заявил мне, что только мои выдающиеся научные заслуги заставляют его мириться с моими служебными шероховатостями, которые ему не нравятся. Наступил 1905 год. В моем деле начались безобразия революции, с которыми я справился. Но скоро оказалось, что новый курс для меня неприемлем, и я оставил свой пост, уйдя с государственной службы сначала на широкое поле свободной профессии, а затем в область ученой деятельности. Столкновение, послужившее причиной моего ухода, как нельзя более характерно. Директором Медицинского департамента был тогда Анреп. Это был тип левого чиновника, сейчас же уловившего новый курс. Он насадил мне в число моих сотрудников и подчиненных целый букет левых партийных работников эсеровского типа и между прочим доктора Аптекмана. Последний – бывший государственный преступник, осужденный по процессу 193-х в конце семидесятых годов как член «Народной воли» и отбывший долгую ссылку в Якутской области, крещеный еврей. С наступлением весны 1905 года он сорвался с нареза и, имея протекцию в лице Анрепа, стал революционировать все учреждение.
Однако я держал курс твердо и не давал делу разваливаться. Тогда Аптекман стал вести себя вызывающе-нахально, чувствуя, что старая Россия валится в бездну.
На одном из заседаний совета врачей, в котором уже господствовали левые течения, Аптекман позволил себе некорректную выходку. Я его остановил словами: «Прошу вас соблюдать правила вежливости».
Он подскочил ко мне с нахальным вопросом: «Ну а что вы со мной сделаете?» Я ответил ему по-русски: «Я тебе, сукин сын, морду набью», и в тот же вечер подал в отставку, так как дело все равно уже было потеряно. Об этом инциденте, пожалуй, не стоило бы упоминать, если бы не последующие события. В виленской лечебнице с моим уходом революция разыгралась как по нотам. Аптекмана арестовали – слишком поздно – и при Столыпине выслали за границу. А вернулся он в Россию в 1917 году в запломбированном вагоне вместе с Лениным. Вот как новые чиновники разрушали Россию.
К последующему периоду моей жизни относятся самые разнообразные встречи – от высших кругов до трущоб революции. Обозревая длинную галерею этих лиц, взгляд мой редко останавливается на деятелях положительного типа. Это эпоха больного общественного мнения, излагаемого прессою и Государственною думою.
Эти влияния вначале сдерживаются государственной властью, победившею революцию. Но силы революции только притаиваются теперь, имея хорошие аппараты для разрушения Империи в форме Государственной думы и новых «свобод». Когда созреет заговор окончательного свержения самодержавия, Россия еще стремительнее низвергнется в пучину гибели и срама. В то время, когда Горький пел своего «Буревестника», родовитый русский князь провозглашал весну свободы и гражданских прав в напевах «доверия». По моему мнению, князь Святополк-Мирский был злым гением старой России. Он расшатал власть сначала в Северо-Западном крае, а потом во всей России, будучи министром внутренних дел. Имея большие связи в земских либеральных кругах, будучи личным другом Витте, он не был ни умен, ни самостоятелен. Государь, который по прошлому княжеского рода не мог ожидать от своего министра поворота в сторону оппозиции, скоро разгадал его и отставил от должности. Но было поздно: вожжи были выпущены из рук и впоследствии министру внутренних дел П. Н. Дурново нелегко было исправить ошибки князя.
На моих глазах в окружении Святополк-Мирского выдвинулось несколько лиц, которых я лично знал и которым суждено было сыграть в ближайшие годы большую роль в надвигающихся событиях. Правителем его канцелярии был Харузин. Это он влиял на князя тогда, сбивая на левый путь и ища популярности. Впоследствии ему пришлось сильно повернуть вправо, и он кончил свою карьеру, будучи потом товарищем министра внутренних дел и сенатором, бесславно и незаметно. Но в это время выдвинулся в окружении князя Святополк-Мирского и Столыпин. При мне он был сначала ковенским предводителем дворянства по назначению, а потом гродненским губернатором, откуда был переведен губернатором в Саратов, а затем назначен министром внутренних дел и премьер-министром. Впервые я услышал о Столыпине очень лестный отзыв от одного из чиновников канцелярии генерал-губернатора, и, поскольку я имел с ним деловые сношения, этот отзыв вполне оправдывался. Это был способный администратор и выдающийся губернатор.
Третье лицо, также выдвинувшееся из этого окружения, был С. П. Белецкий, которого я знал как сослуживца по Вильно. Впоследствии я сошелся с ним и с его семьей близко, как врач, их лечивший, и как хороший знакомый. Это был человек энергичный, умный и дельный, конечно, честолюбивый, которого я лично расцениваю выше, чем это делало общественное мнение того времени.
Витте я встретил лишь однажды в обществе высокопоставленной особы, которую я как врач вез за границу. Это тогда, в 1912 году, был уже дряхлый, озлобленный старик, который вез за рубеж свои мемуары, чтобы потом из глубины могилы сводить свои счеты с русским Императором, не угодившим его вожделениям после совершенной Витте ошибки.
Из плеяды деятелей второй половины царствования я близко видел много лиц. Моя врачебная деятельность и имя известного специалиста открыли мне двери домов некоторых высоких сановников, стоявших у кормила власти. Я встречался с широкими кругами профессуры и общественных деятелей и имел возможность наблюдать развитие российской катастрофы во всех ее деталях.
Я помню Штюрмера, над личностью и мрачною судьбою которого я не раз задумывался. Я работал с ним в Министерстве внутренних дел в одной законосовещательной комиссии под председательством князя Алексея Оболенского, членами которой были такие общественные деятели, как Шипов, Львов, будущий обер-прокурор Синода и герой корниловской эпопеи. И я рад, что видел живые образы этих двух гробокопателей России. Непонятно, как личность честного и стойкого Штюрмера могла навлечь на себя всеобщую исступленную ненависть. Чтобы ее объяснить, надо вспомнить страничку из прошлого. Когда отповедь Государя Тверскому земству вызвала фрондирование группы общественных деятелей в лице Петрункевичей, Родичева, Долгоруковых, в Тверь был назначен председателем губернской управы Штюрмер, и так как это место у левых числилось под бойкотом, он и сделался объектом клевет и ненависти. Впоследствии большевики расправились с ним и расстреляли его. Так гибли верные слуги царские в этот подлый период. Я помню Штюрмера в должности губернатора в Новгороде, и кроме самого лучшего мнения о нем в моих воспоминаниях ничего не осталось. Ни одного конкретного обвинения ему никогда и не предъявлялось. Этого левым не было и нужно.
В 1899-1900 годах я был директором Новгородской губернской психиатрической больницы. Земство там было очень левое. Здесь я имел три встречи. Первая – с М. В. Родзянко. Он был председателем ревизионной комиссии и два года ревизовал больницу и мою деятельность. Больница была хорошая, и два года я получал благодарности губернского земского собрания, выраженные единогласно. М. В. Родзянко бывал у меня на приеме в доме, и я близко его знал. Тогда происходила дифференцировка земцев на правых и левых. По родственным связям Родзянко принадлежал к аристократии и правым. Но он, как тогда говорили, был корректен с левыми, и потому его выбирали в председатели ревизионной комиссии. Ничто тогда не предвещало того курса, который впоследствии принял этот деятель.
Вторая встреча повела к моему сближению с семьей будущего моего пациента и друга митрополита Антония. Членом управы, заведующим делами больницы, которой я был директором, был Александр
Павлович Храповицкий, родной брат митрополита. Меня полюбила его мать Наталья Петровна. Я бывал у них в имении Ватагино, и Храповицкие бывали у меня. Антоний, в котором души не чаяла его мать, тогда был в Москве, и старушка всегда с восторгом говорила мне о своем сыне, не подозревая, что жизнь сведет наши пути и что мне суждено будет принять его последний вздох и заветы верного служения Императорской России. Его брат А. П. Храповицкий был левым деятелем.
Сначала все шло хорошо, но позже я видел, что левая деятельность земцев только губит дело, и, перейдя в правительственную больницу директором, сначала в Винницу, я расстался с левыми земцами без особой к ним любви.
Третья новгородская встреча относится к писателю Глебу Успенскому, который был в числе моих пациентов в больнице. Это был полубог левых земцев, хотя тогда уже он был почти живым трупом. Я его получил совершенно слабоумным. Он пользовался всеми возможными привилегиями, и я имел большие неприятности с ним, ибо левые стремились постоянно его посещать, а другие сетовали на то, что он становится объектом любопытства. Разрушительная деятельность Глеба Успенского в предреволюционный период была громадна. Но еще более тяжелое наследство он оставил России в лице своего сына, который стал ближайшим сотрудником Бориса Савенкова по политическим убийствам и экспроприациям.
В Новгородском земстве был сплошной подбор революционеров в качестве служащих.
Вот та галерея людей, большинство которых играли роль в русских событиях и, конечно, никакой симпатии в моей душе к «новым деятелям» я не имел и не имею.








