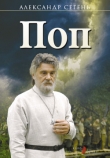Текст книги "Серая мышь"
Автор книги: Николай Омельченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
– Жениться, пожалуй, вам еще рановато,– едва удержался я, чтобы не рассмеяться.
Калина ответила серьезно:
– Почему вам, взрослым, сразу же в голову приходят глупости?
– Так уж мы устроены,– вздохнул я.
– А почему ты не спрашиваешь, кто он?
– Думаю, если ты сочтешь нужным, сама скажешь.
– Этот мальчик индеец. Я была в «Ниагара Фолс» и там с ним познакомилась.
Я молчал.
– Он живет неподалеку от Ниагары, в деревне. Только об этом никому ни слова, пусть это будет нашей тайной.
Вот и все, что в тот раз рассказала мне Калина. Не помню уже, что прервало нашу беседу. Кажется, вошла Джулия, и Калина, замолчав, выбежала играть на улицу. При матери она не хотела говорить об индейском мальчике. Моя Джулия, несмотря на всю ее доброту и то, что выросла она в очень бедной семье, больше всего на свете боится бедности, боится и презирает ее. Всех индейцев считает бездельниками и шантрапой. А то, что они бедны, известно всем. И деревушку ту, где живет мальчик, с которым познакомилась Калина, я тоже знаю: единственная индейская деревенька Чиппуава с последними представителями племени оджибуэев.
Вот так и появилась у нас с Калиной общая тайна. Каждый раз, когда я приезжал на ферму, дочь привычно забиралась ко мне на колени (она еще не могла отвыкнуть от этой детской привычки) и повествовала мне о своем новом друге. А если она забывала или просто была не в настроении, когда мы оставались одни, я сам спрашивал:
– Ну, как там поживает наша тайна?
– Он красивый и смелый,– как-то сказала мне Калина.– Когда мы идем с ним по набережной Ниагары, все смотрят только на него. Он даже полицейских не боится. Один раз к нам подошел полицейский с дубинкой и говорит: «Ты чего тут каждый день шляешься, грязный индейский мальчишка? Здесь гуляют туристы, приличная публика, а ты, поганец, весь пейзаж портишь». А он гордо отвечает: «Осторожно со словами, сэр, а то как бы вам не пришлось пожалеть. С вождем индейцев в дружбе сама королева Англии Елизавета. Вон сколько портретов нашего вождя с ней на витринах и в газетах. Оттиски наших профилей почти на всех ниагарских сувенирах, даже на автомобиле «понтиак» гордый индейский профиль, а не ваш, сэр».
Я видел в газетах эти фотографии – английская королева, «великая белая мать», в строгом белоснежном костюме и индейский вождь в пестром головном уборе из перьев.
– А во что вы играете, чем занимаетесь, когда бываете вместе? – спросил я.
– Мы ходим. Просто ходим и смотрим на людей, на машины, на лотки с сувенирами. А потом останавливаемся и долго любуемся водопадом.
– И вам не надоедает? – улыбнулся я.
– Вовсе нет. «Ниагара-Фолс» никогда не бывает одинаков. Когда пасмурно, он белый, ну, совсем как молоко, будто оно кипит в огромном котле. Когда светит солнце,– над ним широкая радуга, а иногда сразу несколько, одна исчезает, другая появляется. Мы даже загадываем, кто раньше увидит новую. Нам очень весело. А вечером и вовсе красота. Зажигаются разноцветные прожектора, окрашивают водопад, и кажется, что не вода падает вниз, а льется раскаленная лава, даже страшно становится; все полыхает огнем.
– Папа, дай мне три доллара,– как-то попросила Калина.
– Зачем тебе? – удивился я.
– У моего друга день рождения.
– Давай вместе купим ему подарок.
– Нет, он гордый и подарков не берет.
– Зачем же тебе три доллара?
– Мы хотим спуститься на лифте к подножию водопада, это стоит один доллар, он давно мечтает об этом.
Потом Калина рассказывала, как они провели день рождения ее друга.
– Мы встретились у клумбы, знаешь, той, где часы из травы и цветов – циферблат травяной, цифры из цветов, а стрелки настоящие, железные. Поначалу мы всегда долго смотрим на часы. Мой друг сказал однажды, что он видит, как движутся стрелки. А я сколько ни смотрю – не замечаю их движения, вижу только, когда они уже переместились. Но я ему верю. Он никогда не обманывает, опять же потому, что гордый. А еще он никогда не смеется, говорит: смеется лишь тот, кто доволен жизнью...
После этих слов Калина надолго умолкла, мне показалось, что она видит перед собой стрелки, внимательно глядит на них, пытаясь заметить их движение.
– Потом мы слушали колокольный концерт,– продолжала Калина,– там даже звучала мелодия твоей любимой украинской песни «Ой ты, Галю, Галю молодая».– И вдруг Калина спросила: – Это правда, папа, что у тебя когда-то была жена Галя? Ты ее очень любил?
Что-то теплое стиснуло мне сердце, возможно, я даже застонал. Затем глубоко вдохнул в себя воздух, и крепясь, ответил:
– Правда, Калина. Это было еще в той, другой жизни, которую уже никак не вернешь.
Калина сочувственно посмотрела на меня и тихо заметила:
– А все же хорошо иметь две жизни, ой как это интересно!
Я ей не ответил, что она поймет, моя маленькая?..
А Калина продолжала уже о своем:
– Затем мы побывали в Ниагарском музее, видели египетские мумии, им больше двух тысяч лет, а они как живые; видели те бочки, в которых храбрецы летели по струям водопада. Говорят, лишь трое в бочках победили «Ниагара-фолс», и среди них одна девушка. Наконец, спустились на лифте к подножью водопада, там, под дном реки, прорыта пещера. Нам дали резиновые сапоги, непромокаемые плащи, и мы пошли по узким коридорам. Фу, как там мерзко и сыро! По стенам течет, под ногами хлюпает вода. Мы оказались между скалой и главной струей водопада. Стояли и наблюдали этот страшный поток падающей воды. Не понравилось мне там, захотелось наверх, к солнышку. А мой друг долго не мог оторваться от этого зрелища, губы его шевелились, он что-то говорил, но из-за грохота воды ничего не было слышно. Я его оттуда едва вытащила.
Калина замолчала и соскользнула с моих колен.
– А что вы делали дальше?
– Дальше? У нас осталась всего одна монетка в десять центов, мы потратили ее на бинокль на большой чугунной подставке, смотрели на Ниагару и на Радужный мост, по которому ехали туристы на автомобилях из Штатов. Радуга над водопадом в тот день была особенно яркой и широкой, и знаешь, что сказал мне мой друг? Он сказал, что хотел бы слиться с радугой и белыми струями водопада. Мне стало страшно – ведь мой друг никогда ничего не говорит зря, просто так...
Дела не позволили мне приехать на ферму в следующую субботу, попал я туда лишь через две недели, когда уже нужно было забирать Калину домой; начинались занятия в школе. Приехав, я сразу же попросил Калину собираться, хотел успеть вернуться в Торонто до часа пик, чтобы не попадать в дорожные пробки. Мой приятель угостил меня кофе. Мы выпили по чашечке и зашли к Калине, она еще и не думала собираться, сидела, вперив взгляд в одну точку, печальная и отрешенная.
– Что с тобой, дитя мое? – обеспокоился я.
– Я не хочу уезжать домой,– заявила она.
– Что-нибудь случилось?
– Да. Моего друга не стало,– ответила Калина.
– Он уехал?
– Нет, ушел.
– Куда же он ушел и почему ты не собираешься домой? – уже раздраженно спросил я.
– Он ушел в радугу.
Я замолчал, кажется, уже начал понимать, что произошло.
Вмешался мой приятель, объяснив все просто и коротко:
– Этот индейский мальчишка прыгнул в водопад и, конечно же, утонул. Решил покончить с собой. Говорят, дурь в голову пришла...
– Нет, он не покончил с собой, он ушел в радугу,– настаивала на своем Калина.
– Все эти индейцы дебилы и чокнутые, и их дети такие же. Да разве могут они рождаться другими от алкоголиков и наркоманов? А государство им еще помощь оказывает, поэтому они и работать не хотят,– рассердился фермер.
Тут я не выдержал и резко заметил:
– Ну и помощь – пять долларов в месяц!
– Не бойся, с голоду они не подыхают. А больше платить им и незачем – пропьют.
– Жалко мальчика,– сказал я.
– Не надо его жалеть,– возразила Калина,– он не хотел бы, чтобы его жалели.
– Но я все же не пойму причины, почему ты хочешь остаться – спросил я, обнял Калину, заглянул ей в глаза.
– Он обещал через несколько дней появиться в радуге.
– Это из области фантастики,– осторожно заметил я и вздохнул.
– Мой друг никогда не обманывал.
Калина заплакала. Я усадил ее на колени, целовал и успокаивал. Уже дома она мне рассказала:
– Знаешь, он, перед тем, как уйти, произнес целый монолог, до этого он никогда так длинно не говорил, а тут взял меня за руку и промолвил: «Вот смотри. Это «Ниагара-Фолс», величайший водопад. И вокруг него, здесь, где мы стоим, и там, за Ниагарой, в Штатах, когда-то была наша земля, богатейшая и величайшая в мире страна. Леса, поля, реки, где мои предки свободно ловили рыбу, охотились, сражались с врагом и пели песни. Все это у нас забрали, теперь даже полицейский гонит меня с моей земли, обзывает бродягой, поганцем, смущающим культурную публику. Я не хочу быть с ними рядом, хочу соединиться с природой, уйти в нее, как ушли мои предки, чтобы никогда не вернуться. Воды «Ниагара-Фолс» – единственное место, куда еще не ступала нога белого человека. Я вольюсь в радугу». И он пошел. Я видела, как он ступил в радугу, струи понесли его... Перед этим он пообещал мне, что пройдет несколько дней, и я увижу его в радуге...
Мы мчались по одной из лучших канадских трасс – Дороге королевы Елизаветы, мчались, обгоняя другие машины. Калина гонит вовсю, и я сдерживаю ее:
– Убавь скорость, куда мы так летим?
Мы подъехали к обширной зеленой поляне, заставленной машинами, разукрашенной флагами, плакатами и цветными толпами людей. Здесь начался церемониальный парад молодежи. Играл знаменитый духовой оркестр «Батурин»; оркестранты, одетые в форму, как солдаты, старались изо всех сил. Калину знали многие, и, когда она вышла из машины, раздаривая всем свою очаровательную улыбку, ее тут же окружили, обнимали, целовали.
Ко мне приблизился один из организаторов фестиваля, пожилой, но еще молодящийся мужчина, в пестрой, сияющей всеми колерами рубашке, пожал руку.
– Очень отрадно, что и вы, пан Курчак, прибыли сюда,– сказал он.– Фестиваль – важное и красочное мероприятие, благодаря фестивалям мы информируем народы Канады о своей культуре, о наших украинских обычаях. Я участвовал уже в фестивалях в Манитобе и Альберте, теперь имею честь быть одним из организаторов такого смотра в Бимсвилле.
– Всегда радостно глядеть на веселую, беззаботную молодежь,– сказал я.
– А на счастливых стариков – вдвое радостнее! – рассмеялся тот и добавил, дружески грозя мне пальцем: – А пана Курчака мы видим не так-то уж и часто.
– Стареем,– вздохнул я.
– Оставьте, я видел в Институте святого Владимира ваши картины, в них много задора и молодости. Но скажу вам откровенно: маловато идейности, патриотизма. Все пейзажи да пейзажи, вы бы добавили в них еще что-нибудь.
– Например? – спросил я с настороженностью.
– Ну, об этом бывшему пану референту лучше знать! – разводя руками, ретировался тот. Забыл уже его имя и фамилию. Я действительно не очень часто бываю на подобных мероприятиях.
8.
Выпал первый снег. На фоне черных стволов деревьев он казался необыкновенно белым. Школьников трудно было загнать в помещение, они играли в снежки, толкали друг друга в сугробы; стоял такой крик и визг, что нашей уборщице, старой хромой мадьярке, пришлось выйти во двор и изо всех сил размахивать тяжелым медным колокольцем, звон которого был, наверное, слышен и в Ковеле. Свободной рукой она хватала самых непослушных за шиворот и с бранью толкала к школьному крыльцу.
Учителя тоже не прочь были порезвиться. После полудня, когда из классов улетучились детские голоса, на школьное подворье веселой ватагой вывалили учителя; кто-то в кого-то метнул снежком, кто-то взвизгнул, и пошла кутерьма, пока всех не остановила завуч Вахромеева,– проходили люди и бросали укоризненные взгляды: ну, мол, и учителя! Мы ведь тоже были молоды, самой старшей из нас, казавшейся мне старухой, завучу Наталье Григорьевне Вахромеевой, не исполнилось еще и тридцати. Тот день из прошлого, те люди помнятся мне так, будто все это было только вчера. Пожурив учителей, дабы те укротили свой пыл, Наталья Григорьевна тут же сама слепила снежок и покатила его по белой земле, снег быстро налипал на него, м круглел, увеличивался, тяжелел, под ним образовалась черная дорожка, и стало трудно его катить. Тогда подошел кто-то из учителей, стал помогать, катили вместе, смеясь и балагуря, и уже не обращали внимания на тех, кто проходил мимо школы. Звонче всех смеялась Вахромеева. Мне надолго запомнился ее смех, может быть, потому, что у этой строгой, взыскательной женщины он был чисто девичий – высокий и заливистый, счастливый и беззаботный. Она же и предложила вылепить снежную бабу. Все дружно поддержали ее, вновь покатились по снегу торопливые белые катыхи, даже мы с Галей выбежали на подворье. Галя принесла из дому недогрызенную морковку (она в То время постоянно грызла морковь, ей, беременной, необходимы были витамины), из этого огрызка сделали бабе симпатичный нос, брови изготовили из угольков, глаза, щеки и рот вылепили из ягод калины, которую принесла из своей комнатушки Вахромеева, большая любительница калины. Симпатичная получилась баба, особенно после того, как наша уборщица дала ей в руки свою старую, из веток краснотала метлу. Долго потом стоял этот снеговик на нашем подворье...
А поздним вечером, когда мы уже спали, ко мне в окно постучался Юрко.
– Что еще? – сонно и недовольно спросил я. Открывать ему не хотелось, думал, что тот выпивши, иначе так поздно не пришел бы.
– Разговор есть, отопри, Улас,– сказал Юрко, голос его был трезв и взволнован.
Я накинул пальто, вышел на веранду, снял крючок.
– Нужна твоя помощь,– сказал Юрко,– пан Бошик захворали.
– Я же не доктор! – вырвалось у меня недоброжелательное. Больше месяца я не видел пана Бошика и уже стал забывать о нем.
– Та доктор есть, приходил уже два раза. И маты моя лечила пана референта, та им не лучше, воспаление легких. Они были на той стороне, а когда назад переходили кордон, пограничники их загнали в болото, там они и простудились.– Юрко и так говорил тихо, а тут и вовсе перешел на шепот.– Они сейчас у меня, а час назад в село приехали москали, зашли с председателем сельсовета в наш дом и сказали, что завтра утром приедет какая-то важная комиссия, у вас, мол, хороший дом, просим пустить пожить недельку. Отказать, сам знаешь, нельзя. Вот и порешили мы пана к тебе...
– Но у меня же только одна комната...
– И чулан есть, он теплый, дверь в комнату выходит, та и не видно ее.
Оказывается, Юрко хорошо знал дом бывшего пана, побывав у меня, заметил, что дверь в чулан, который нам был не нужен, Галя завесила ковриком и приставила к нему деревянный диванчик, стоявший раньше на веранде.
Пана Бошика привезли на телеге, колеса ее скрипели в морозной ночи на всю округу. А может, это мне только показалось. Он был закутан в два кожуха, очень слаб, идти сам не мог, и Юрко перенес его на руках. От пана Бошика неприятно несло вонючим козьим жиром, которым натирали его в доме Дзяйло. Потом этот запах долго не улетучивался из нашей комнаты. Галине приходилось разогревать козий жир, а растирали мы пана Бошика с ней вместе. Лучше ему не становилось, температура держалась высокая, из чулана доносился частый сухой тихий кашель.
За то время, что мы провели с Галей у постели пана Бошика в качестве сиделок и исцелителей, я обнаружил в ней еще одно прекрасное качество: она умела прилежно и терпеливо ухаживать за больным, будто всю жизнь только этим и занималась, обладала тем обостренным чувством милосердия, от которого, собственно, и пошло название медицинских сестер.
Во время кризиса пришел доктор, поляк, который навещал пана Бошика еще у Дзяйло. На весь район в те времена у нас было всего два доктора, и оба поляки. Этого звали пан Сцыба. Бошик был без сознания и бредил.
– Ему теперь может помочь лишь одно лекарство,– сказал доктор.– Сульфидин.
Сульфидин тогда у нас только появился, и его было трудно достать. Но Галя без раздумий сказала:
– У меня есть, мне дала его мама, когда я еще училась в университете.
Почему-то запомнилось, что когда через сутки пан Бошик пришел в себя и увидел у своей постели нас троих, услыхал наш разговор, то не то пошутил, не то серьезно сказал:
– Неужели я попал в польский госпиталь?
Мы вначале не поняли его слов, а потом сообразили, в чем дело. Пан Сцыба говорил по-польски, мы с Галей тоже разговаривали с ним на его родном языке, вот и получилось, что все трое у постели пана Бошика говорили по-польски.
– Я слышу только польскую речь,– тут же объяснил нам пан Бошик и почему-то этим всех нас смутил.
– Я поляк,– с гордостью произнес пан Сцыба.
– А у меня мама полька,—с улыбкой заметила Галя.
– Как вы себя чувствуете? – спросил я.
– Спасибо, вроде выживаю. Все это благодаря вам, доктор, и вам, мои друзья. Такое не забывается.
Когда пан Бошик стал выздоравливать, мы с ним много говорили, правда, говорил, в основном, он, а мне, признаться, было интересно его слушать, как и в недавнее студенческое время. Также как и тогда, не все я принимал, но многое меня волновало. Пан Бошик требовал, чтобы я постоянно снабжал его новостями. А были они для него не очень радостными. С приходом Советов в Западной Украине появились школы с украинским языком обучения, открывались вузы, новые больницы и поликлиники, театры, кинозалы, клубы – все это стало доступным для рабочих и крестьян, чего при польских панах, конечно же, не было. Национализировались заводы и фабрики, отдавалась крестьянам панская земля. Масса безработных, которые при польской власти жили в нищете, получили работу. Пан Бошик, слушая об этом, менялся в лице и прерывисто, сухо покашливая, говорил, стараясь не сбиться на крик, ведь могли услышать соседи по дому:
– Все это большевистская агитация! Все это временно! А потом погонят людей, как стадо, в колхозы, и тогда все поймут, какое это освобождение. Поляки были оккупантами, и эти новые «освободители» – тоже оккупанты. Да, в средних школах ввели украинский язык обучения, за который так долго боролись украинцы, но условия советской действительности очень скоро дадут о себе знать! Я объездил всю Львовщину, Тернопольщину, Ровенщину, Волынь и во всем хорошо разобрался. Правда будет на нашей стороне, победит наша правда! Уже арестовывают зажиточных селян – гордость нашей нации, высылают интеллигенцию – мозг нашей нации, вместо святой церкви насильно вводят коммунистическое воспитание, а вместо дефензивы появилось НКВД, которое арестовывает всех, кто имеет хоть малейшее отношение к ОУН, к нашему национальному возрождению. Даже школьников не жалеют, ты испытал это при поляках на своей собственной шкуре. Изменились, Улас, лишь оккупанты – были поляки, стали Советы. Скоро наш народ в этом убедится! А там еще и немец придет.
– Но согласитесь, пан Бошик,– мягко замечал я,– в то время я еще умел так говорить,– согласитесь, что при Советах стало намного лучше во всех отношениях, и в национальном вопросе они нас не притесняют, способствуют всеми новыми мероприятиями развивать национальную культуру. А то, что они объединяют наши земли в одну Украину, воссоединенную с русскими и другими национальностями, отнюдь не мешает нам, наоборот...
– О, ты же культурный, интеллигентный человек, а не понимаешь самых простых вещей, элементарной политики России. Ты серьезно произносишь такие слова, как «воссоединение», «непритеснение». Может, еще и немцев нашими друзьями объявишь. А я-то предложил нашему проводу ввести тебя в референтуру, назначить политическим воспитателем! – Пан Бошик даже приподнялся; я подмостил под его исхудавшую спину подушку, помог удобнее усесться. Наступил новый приступ кашля. Наконец он устало откинулся на подушку, закрыл глаза и, отдышавшись, уже спокойным, но жестким голосом проговорил:
– И те и другие – наши враги, но Советы опаснее. И если Германия пойдет на Россию войной, мы будем на стороне Германии, будем ее союзниками. Наши вожди уже ведут переговоры с немцами, но ты никому не должен говорить об этом. Я тебе доверяю, потому что верю тебе, верю, что из тебя выйдет настоящий борец за национальное возрождение. Во всяком случае, сегодня говорить об этом опасно, но у нас есть еще завтра.
Когда пан Бошик засыпал, я уходил из провонявшегося козьим жиром чулана к сонной Гале, она просыпалась, и мы подолгу говорили с ней о будущем, о том, кто у нас родится: мальчик или девочка. Будущее представлялось нам светлым и радужным. От чистой, аккуратно подбеленной Галей печки по комнате плыло уютное тепло, застывало мокрыми каплями на стеклах окон; иногда одна из капель падала на деревянный пол. Это был единственный звук, нарушавший наш покой. Тишина стояла такая, что слышалось, как за окном шуршали, падая на ветки яблонь, снежинки.
Новый год мы встречали всем нашим дружным учительским коллективом. Юрко Дзяйло принес нам из лесу пышную елку, ее украсили и поставили в самой большой Комнате, которая служила школьным залом. Верхушку ёлки убирала Сима Бронштейн. Она стояла на табуретке, то и дело поднимаясь на цыпочки, чтобы привязать к ветке сверкающий шар или шишку, вместо с ее руками тянулось вверх и платье, оголяя ноги, стройные, словно выточенные, в тонких шелковых чулках. Войдя в зал, я бы, может, и не заметил этого, но у двери с шапкой в руках стоял Юрко. Его гладко выбритое лицо было бледно, пальцы сдавливали шапку, словно горло врага. Он неотрывно глядел на Симу.
Моя Галя уже была тяжела нашим первенцем, и в ту новогоднюю ночь на учительской вечеринке мы только один раз станцевали с ней медленное танго, мотив его запомнился мне на всю жизнь – в Канаде его не играют, когда же из-за океана радио порой доносит этот мотив, меня будто охватывает тяжкой и вместе с тем сладкой волной далекого прошлого; передо мной встает Галя – я держу ее руку в своей, обнимаю уже слегка располневшие плечи; несмотря на свое положение, она танцует легко, движения ее плавны, а звук патефона так нежен, что у меня на щеках выступают горячие ручейки слез.
В тот новогодний вечер я танцевал со всеми подряд. У нас был дружный интернациональный коллектив: украинцы, русские, евреи, мадьяры, поляки. И все знали украинский язык, сами без подсказки учили его; даже русачка Вахромеева, по-волжски окающая, через полгода уже свободно разговаривала по-украински, ей никак не давались лишь слова «паляныця» и «пацюк»—она произносила их смешно и трогательно– «паланица», «пацук».
Пан Бошик частенько поучал меня как можно шире пропагандировать украинский язык, лучший язык в мире, но делать это надо, мол, осторожно, а то могут быть неприятности. Я не осторожничал, никакого криминала в пропаганде своего родного языка не усматривал. Не говорил только, что он лучший в мире, так как считал и до сих пор считаю глупыми спесивцами тех, кто выше других языков ставит свой. Ни «лучших», ни «худших» языков не бывает, есть лишь трудно усваиваемые и более легкие. Чем дольше я живу на свете, тем больше в этом убеждаюсь,– жизнь заставила меня изучить полдюжины Языков, начиная со славянских и кончая германо-романскими, а с тех пор, как у нас в доме поселилась Да-нян, беру у нее с внучкой еще и уроки китайского; когда мы втроем, стараемся говорить по-китайски.
Где-то под утро к нам в зальцу ввалился Юрко со своим приятелем. Оба раскрасневшиеся, под хорошим хмельком. Их угостили водкой и шампанским. Приятель, уронив голову на стол, тут же уснул. А Юрко, не умевший танцевать по-городскому, отплясывал под вальсы и фокстроты народные танцы. Это всем так понравилось, что кое-кто последовал его примеру. Первой в круг вышла Сима, взяла за руку Юрка, поначалу он оторопел, а затем вдруг пустился в пляс, все лишь смотрели да хлопали в ладоши. Не уступала ему и Сима. Она плясала не хуже его, и повисла у Юрка на руке. Он осторожно проводил ее к дивану, так они рядом и сидели, пока все, усталые и немножко хмельные, не стали расходиться. Юрко вышел с Симой, проводил ее до порога. Думаю, в ту новогоднюю ночь не было на земле человека, счастливее Юрка. Разве что только мы с Галей.
9.
Моя старшая дочь Джемма, художница, в нашей семье, пожалуй, самая не художественная натура. Нет ничего у нее от Джулии, и мало что взяла она и от меня, пожалуй, лишь способности к рисованию. Внешне Джемма похожа на моего отца – высокая, стройная; бледное, даже пепельного оттенка лицо (Джулия все боялась, что у Джеммы малокровие, но она вполне здорова), темно-серые, холодноватые, как осенние озерца, глаза. Она сдержанна в проявлении чувств, воспитала в себе волю и характер. Таким был и мой отец. Внутри же у нее, как и у ее деда, скрыт неуемный темперамент, как и его, Джемму обуревает постоянная тяга к властности, лидерству. В ее профессии это в чем-то мешает, а в чем-то помогает. Неукротимое желание быть первой, обойти соперников рождает поспешность, побуждает постоянно гнаться за модой, что, как ни парадоксально, порой положительно сказывается на творчестве художника – заказчиков и не очень серьезных ценителей нередко подкупает мгновенная реакция на конъюнктуру.
Говорят, характер с годами меняется. Насколько я заметил, это случается ближе к старости, благодаря определенному прозрению, усталости, болезням, равнодушию; некоторые все это, вместе взятое, называют мудростью. Пока же человек здоров, активен, у него в характере много от того, что отложилось с детства. Так и у Джеммы. Ее поступки нередко удивляли нас, порой приводили в отчаяние. Запомнился один случай. Мы отдыхали неподалеку от Торонто, на берегу залива,– поехать с семьей на море у нас не было средств. Залив был широкий, песчаный берег малолюдный, но и тут нашлась ватага детей, они быстро познакомились с моими, разделились на старших и младших, младшие барахтались в воде, таскали из залива мокрый песок, строили крепости, старшие держались более сдержанно, лежали на песке, важничали, но вдруг берег огласился их дружным хохотом. Громко смеясь, они стояли полукругом и смотрели на песок. Меня одолело любопытство, я подошел к ним и тут же все понял. В компании было три девочки и всего один мальчик. Одна из девочек, с довольно смазливой рожицей и неплохой фигуркой, норовила привлечь его внимание, а может, и сердце, насмешничала над подругами, строила пареньку глазки, словом, бросила весь свой еще не очень богатый арсенал женских чар, чтобы завоевать мужчину. Победа уже, казалось, была близка, но тут после очередного выпада той девчонки моя Джемма поднялась и нарисовала на песке зарвавшуюся соперницу. Это был шарж: в каждом шарже всегда есть доля преувеличения. И Джемма глазом художника заметила то, чего не увидели другие,– у девочки был слегка крючковатый нос и непропорционально большие уши. Как ни странно, именно это и делало ее мордашку симпатичной. В шарже Джемма подчеркнула эти детали, и девчонка казалась отвратительной карикатурой. Все смеялись, а ее душили слезы. Наконец она не сдержалась и выкрикнула:
– Если бы я умела рисовать!..
Окинув мою дочь завистливым взглядом, она вбежала в воду, нырнула и долго не появлялась на поверхности. Выплыла далеко от берега. Она была прекрасной пловчихой и демонстрировала все стили: кроль, баттерфляй, а затем, мастерски перевернувшись, как пловцы в бассейне, когда доплывают до стенки, возвращалась к берегу неторопливым брассом. Остальные тоже бросились в воду, все, кроме Джеммы, плавали отлично, лишь моя дочь – «по-собачьи». Это тут же заметили, и теперь насмешки адресовались Джемме. Даже предмет их раздора, мальчик, видимо, не очень воспитанный, буквально издевался над Джеммой. Я уже хотел было позвать ее и увести домой, как вдруг услыхал:
– Да какие вы пловцы, если не можете одолеть этот залив? А ну, кто за мной?
И поплыла, как обычно, «по-собачьи». Поначалу я даже не поверил, что Джемма решится на такое,– залив был достаточно широкий и местами очень глубокий, стояли буйки, за которые заплывать запрещалось. Но вот Джемма уже прошла буи, легла на спину, отдыхая – этому ее научила Джулия,– и поплыла дальше. Остальные поплыли было за ней, затем повернули к берегу, не решились. Меня охватил ужас, панически кричала Джулия, звала ее назад, но Джемма продолжала плыть. Я с отчаянием смотрел по сторонам, искал спасателей, хотя бы какую-нибудь лодку, и увидел неподалеку за кустами небольшую яхту с примостившемся на корме рыболовом. Подбежал, стал умолять поплыть за моей сумасбродной дочерью, предлагал доллары. Последнее помогло. Догнали мы ее, когда она уже пересекла середину залива и снова отдыхала на спине, лицо ее было бледно.
– Сейчас же в лодку! – закричал я и нагнулся, чтобы вытащить ее из воды.
Но Джемма разжав посиневшие губы, жестко ответила:
– Только дотронься,– нырну и никогда не вынырну!
И я поверил ей, Джемма поплыла дальше, а мы двинулись за ней, так все же было спокойнее; случись с ней что-нибудь, мы – рядом. Она переплыла залив, упала на песок и обессиленно застыла. А меня душили слезы, я даже не понимал, отчего они, то ли от охватившего меня бешенства, то ли от радости.
Когда Джемма была подростком, она занималась буквально всем: участвовала в танцевальных ансамблях, в капелле бандуристок, была активисткой украинской молодежной организации, закончила курсы украинознания. Ее постоянно обхаживали деятели ОУН, одно время националисты намеревались сделать ее одним из вожаков Молодежной украинской националистической организации. Но такая перспектива ее не устраивала, в конце концов в ней победил художник. Джемма ожидала славы, понимала незаурядность своих способностей.
Одна из националистических газет писала о ней: «Джемма как личность – это казак, а не дивчина, хотя со своей внешностью может принимать участие в конкурсе красоты. Она по-девичьи нежна и по-казацки горда и смела. У нее кровь предков – казаков, дед Джеммы был воякой армии УНР, потому и Джемма – современная петлюровка, продолжающая жизнь украинской нации. Она родилась в Канаде, но какой прекрасный у нее украинский язык! Отец может гордиться такой дочерью, и наша нация горда ею!»
Прочитав это, я усмехнулся. Я действительно горжусь своей дочерью, но совсем по иной причине. Конечно же, Джемма – не петлюровка, просто она слишком активная натура, постоянно требующая своего проявления. А украинскому языку обучил ее я, у меня только на нее и хватило времени. Тарасу и Калине я уделял меньше времени.
Недавно в галерее Канадско-Украинской фундации искусств на Блуре Джемма устроила свою выставку.
В основном, там были иконы, и только несколько картин. Джемма – не Калина, которой удается вытащить из дому лишь меня или Джулию, она вывезла на Блур нас всех, такая уж у нее неуемная натура, никто и не подумал ей отказать; даже Тарас и Да-нян не осмелились перечить, оставили Жунь-Юнь на попечение Лукерьи и отправились вместе с нами.