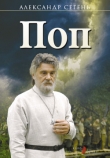Текст книги "Серая мышь"
Автор книги: Николай Омельченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
– В школе мою дочь дразнят красной шлюхой, сына не приняли в бейсбольную команду, а у меня под домом постоянно шатаются какие-то типы и злобно таращат на меня глаза; иногда остановится машина, а то и две, прямо у двора и те же подонки расстреливают глазами мои окна. Вчера прямо среди бела дня над моей головой пролетел камень и стукнулся в забор. Я оглянулся – никого, поднял круглый голыш – таких у нас поблизости нет. Значит, привезли откуда-то. А если привезли, то конечно же, не один: у нас народ запасливый...
Я тоже стал замечать у своего дома потрепанного вида «шевроле». Появлялся автомобиль в то время, когда я шел на работу, медленно ехал за мной до остановки трамвая, затем резко срывался с места и сворачивал в соседнюю улочку. Я не выдержал и в очередной раз двинулся назад и пошел к нему, деваться ему было некуда, он тут же ринулся вперед и мне не стоило труда разглядеть очень знакомое лицо, это был кто-то из моих старых сподвижников, а точнее, из бывших молодчиков Петра Стаха. Я стал остерегаться: таким убить человека ничего не стоит.
– Журнал издавать мне нельзя, учить детей – тоже нельзя, осталось одно – рисовать и заливать смолой аккумуляторы,– с горькой иронией сказал я Вапнярскому.
Он был в те дни очень занят, посмотрел как бы сквозь меня, потом до него наконец дошло, что перед ним я, Улас Курчак, его ученик, единомышленник и в какой-то мере друг; он посмотрел на меня внимательно, обнял и сказал:
– Устал я, Улас, давай-ка пройдемся куда-нибудь в бар, да выпьем по коктейлю.
Мы вышли из Дома УНО и, как это случалось нередко, зашли в дешевенький португальский отель, на первом этаже которого был пивной бар и можно было заказать пару порций недорогого канадского виски. Выпив, Вапнярский оживился, стал, как обычно, говорить о своих делах и о себе, о том, что трудно цементировать им, объединять в единую силу все националистические организации, соперничающие между собой и ненавидящие друг друга, а потом начал ругать американских политических руководителей за непостоянность и нерешительность в действиях против мирового коммунизма.
– Они телились до тех пор, пока не утратили монополию на ядерное оружие,– говорил Богдан Вапнярский,– упустили время для свержения существующего строя в социалистических странах военным путем. Все их доктрины потерпели провал. Они бросались от одного ошибочного лозунга – сдерживания – к другому ошибочному лозунгу – освобождения от коммунизма – и не добились ни того, ни другого; забрели в тупик в борьбе с коммунизмом, который с каждым годом растет и ширится на всех континентах. Так говорю не только я, Богдан Вапнярский, опытный борец против коммунизма, об этом говорят и пишут многие политики Запада. Теперь истеблишмент передовых стран свободного мира пытается снова разрабатывать новые формы борьбы; и опять все та же нерешительность, медлительность, осторожность, точно все позабыли, что риск – это один из законов настоящей смелой игры.– Вапнярский заказывал все новые и новые порции виски, и уже не разводил их содовой, а запивал пивом, которое стояло нетронутым, так как у меня не было желания прикасаться к нему. В такие минуты, когда Вапнярский начинал провозглашать свои длинные монологи, мне было чисто по-человечески жаль его, этой зря растрачиваемой энергии, таланта. Отхлебывая виски, он подолгу держал его во рту, затем мгновенно глотал эту отвратительную жидкость, полузакрывал глаза и продолжал:
– Большая надежда была на приход к власти в Штатах демократов во главе с президентом Джоном Кеннеди. В его книге «Стратегия мира» много правдивого о том, как подорвать единство коммунистического лагеря, как его ликвидировать, но опять-таки он предлагает слишком долгий процесс, нашей с тобой жизни не хватит, чтобы увидеть концовку всего этого. Однако порочно в этой книге то, что вместо жесткого давления, настоящих угроз он предлагает делать ставку на идеологические средства. Вот послушай, что он пишет.– Вапнярский достал из кармана книгу в тонком лоснящемся, будто покрытом лаком переплете и стал читать: – «Мы должны сейчас медленно и осторожно... выращивать семена свободы в любых трещинах в железном занавесе».– Он сердито бросил книгу на стол.– Представляешь, президент могущественнейшей в мире страны предлагает растянуть эрозию коммунизма до бесконечности, вместо того, чтобы действовать решительно, по-военному. Между прочим, президент позабыл о нас, националистах, о той силе, какую мы представляем. Не только украинцы, но и русские эмигранты, латвийские и литовские, словацкие, мадьяры и многие другие,– такая сила! И все люто ненавидят коммунизм. А ведь некоторые политики понимают, что значим мы для борьбы с мировым коммунизмом. Один мой хороший приятель и политический единомышленник, страстный антикоммунист любит часто повторять: уже давно приспела пора любыми способами низвергать коммунизм в любом виде, в каком он только нам известен, и тем более то гнездо, где он постоянно зарождается. Для этого Соединенным Штатам следует конструктивно сотрудничать с зарождающимися силами национализма и либерализма, которые смогут в свое время повести за собой страны, находящиеся сейчас под коммунистическим правлением.
Вапнярский снова заказал виски, некоторое время пил молча, все больше пьянея. Когда-то он мог выпить много и быть при этом трезвее других, пивших с ним на равных, даже таких, как Юрко; теперь же я все чаще замечал, что Богдан быстро хмелеет. Он вдруг что-то вспомнил и снова ожил, достал из бокового кармана пиджака ошметок листка, вырванного то ли из книги, то ли из газеты.
– Но есть на нашем континенте и другие элементы,– расправляя листок на мокрой от пива столешнице, медленно заговорил Вапнярский.– Есть такие, что иногда их принимаешь за своих, а они бьют в спину... Вот некий Кеннан пишет: «В нашей стране есть крикливые и влиятельные элементы, которые не только хотят войны с Россией, но и имеют четкое представление, ради чего ее нужно вести. Я имею в виду беженцев и эмигрантов, особенно недавних, из национальных республик Советского Союза и некоторых восточноевропейских стран. Их идея, которой они страстно придерживаются, проста – Соединенные Штаты должны ради выгоды этих людей воевать с русским народом, чтобы разрушить традиционное русское государство, а они установят свои режимы на разных «освобожденных» территориях...»
Вапнярский сложил листок и сунул его в карман, видимо, он ему был еще нужен, не для меня же он его хранил, посмотрел рассеянно и сказал со вздохом:
– Вот так, мой друже Улас! Борьба – дело сложное и бесконечное.
Я переспросил удивленно:
– Бесполезное?
Вапнярскому это показалось издевкой.
– Я сказал: бесконечное! – стукнул он кулаком по столу, но, тут же успокоившись, тихо заговорил:– Ты-то, вижу, уже во всем изуверился,– жена, дети, мечта стать учителем... Кстати, как у тебя дела на новом поприще? – В глаза его мигнула ехидца, и я понял, что он не хуже меня знает о моих делах.
– Чего спрашиваешь? Плохо! Тебе же все известно. Мне хотелось поговорить с тобой об этом.
– Понимаешь, Улас, ты и без меня знаешь, что здесь ничего не делается даром, тем более, что ты по своей наивности весь вымазался дерьмом. Я-то тебе верю, а вот другие... Теперь для того, чтобы как-то выгородить себя, надо что-то совершить, кому-то оказать какую-нибудь, хоть небольшую, услугу. И тебе помогут. Есть у меня один человек, мой хороший приятель. Он сейчас в Торонто. Могу вас свести. Не сегодня, конечно, сейчас я немного не в форме, надо идти спать. Но завтра – пожалуйста.
Встретились мы с тем человеком, о котором говорил Вапнярский, через несколько дней. У Вапнярского всегда обещание «завтра» затягивалось надолго, если, конечно, дело не касалось лично его или же его интересов. В человеке том сразу же узнал американца – и по произношению, и по манере вести себя. Он заговорил со мной, как со старым знакомым, хлопал меня по плечу, громко и добродушно хохотал, хвалил мои картины, которые видел то ли у кого-то в доме, то ли в какой-то частной галерее; кстати, похвалил и мою статью, за которую меня все наши обливали грязью. Затем добавил:
– Вы своих соотечественников не принимайте очень серьезно. Я давно имею с ними дело, изучаю психологию украинцев, и, должен вам признаться, вы, конечно, не обижайтесь, но более странных и противоречивых людей я не встречал. До этого имел дело с мадьярами и китайцами. Те едины во всем. Каждое движение, каждая психологическая синкопа точна в своем проявлении, и в политическом отношении тоже почти все едины. А если уж противоречия,– то резкие антиподы: или красные, или их непримиримые враги. А у вас – бог ты мой! Сами же вы и выдумали притчу: где два украинца, там уже партия.– Он весело рассмеялся, откинулся на кресло, крутнулся в нем и поставил чашечку с кофе себе на грудь в белоснежнейшей рубашке, не забыв при этом откинуть в сторону красный, такой же новенький, как и все на нем, галстук.
Я тоскливо оглядывал веранду богатой виллы, куда он меня привез после того, как Вапнярский нас познакомил. Даже теперь, прожив уже столько лет в Торонто; зная город и его окрестности, я не могу определить, где находилась та вилла и кому принадлежала. Помню лишь, что она располагалась милях в сорока-пятидесяти на север от Торонто. На столе стояли коньяки, виски, «Смирновская», какие-то вина в причудливых метровых бутылках, но мой новый знакомый предпочитал кофе; это было пока что единственным, в чем мы с ним сходились. Закурив сигарету, он продолжал:
– И каждая партия враждует с другими. Ну, это уж не мое дело, да и не об этом я собираюсь говорить с вами. Для того деликатного дела, ради которого я вас пригласил, ваша статья будет вам на пользу. Там все знают.– Мой новый знакомый, американский социолог, как представил его мне Вапнярский, Джон Фишелл (так он назвался, но я уверен, что и его профессия, и имя были вымышлены) ткнул указательным пальцем куда-то вперед и повторил: – Там все знают: и о том, что вы солидарны с красными относительно политики УПА, и что вас обливают за это грязью, и, наверное, даже то, что вы не можете устроиться на любимую работу. Откровенно признаюсь: для нас лучше было бы, чтобы вы покамест оставались рабочим, как они говорят – «гегемоном». А учительство от вас не уйдет. Когда вы вернетесь, мы найдем для вас место.
– Простите,– не очень вежливо перебил я Фишелла,– мне не совсем понятно, кому это «нам» и откуда я должен вернуться.
Лицо Фишелла сделалось серьезным, его серьезность показалась мне даже чрезмерной, это произошло, наверное, потому, что уж слишком резок был переход от эдакой панибратской игривости к теме, которую мнимый социолог хотел со мной обсудить.
– Господин Вапнярский,– заговорил Фишелл уже другим, деловым тоном,– обратился ко мне с двумя просьбами и просил меня, как старого и хорошего его приятеля, вам помочь. Я дал согласие. К счастью, оба эти вопроса взаимосвязаны. Первое – помочь через наши компетентные каналы отыскать следы вашей первой семьи, и второе – с этой же целью организовать вам бесплатную поездку в Европу. И то и другое в наших силах.
Меня охватило такое волнение, что я уже с трудом понимал, о чем он говорил. В памяти снова всплыло то, что стало забываться. В том, что мы расстались с Галей и сыном, я считал виноватым только себя, это меня мучило всю мою жизнь и до конца дней моих останется незаживающей раной. После разговоров с Вапнярским и с Юрком я не верил, что они живы, но вот этот случайный, чего-то хотевший от меня человек снова зародил во мне сомнение в том, в чем я уже глубоко уверился; и опять помутился разум, я едва не терял сознание.
– Вы верите, что моя семья жива? – спросил я.
– По некоторым данным нам известно, что среди погибших они не числятся. Вы готовы ехать? С аккумуляторным заводом мы все уладим.
– Почему вы именно мне оказываете такую честь? Насколько я понимаю, это делается не только из жалости и сочувствия ко мне.
– Безусловно.– Фишелл несколько замялся, стал тушить о крохотную хрустальную пепельницу сигарету, поглядывая на меня с несколько заискивающей улыбкой, и продолжил: – Вы, я вижу, прямой и понятливый человек. Так вот, буду с вами откровенным. Мы хотим, чтобы вы, молодой рабочий приятной интеллигентной наружности, талантливый художник, что будет способствовать вашему сближению с людьми,– мы хотели бы ввести вас в состав делегации, которая едет на Всемирный фестиваль. Вы поедете туда в обществе таких же, как и вы, парней; ваш шеф, который будет возглавлять делегацию, все о вас знает, он поможет вам найти следы пребывания вашей семьи в Вене, ну, а ели они поведут дальше, на восток, мы вам поможем пробраться и туда. Паспорт и все нужные бумаги для вас будут готовы. Но дело, конечно же, не только в документах, вы и сами должны быть готовы к поездке. В течение месяца вас будут привозить на эту виллу и кое-чему подучивать. Не беспокойтесь, вас не будут обучать, как убивать людей или отравливать колодцы.– Фишелл вдруг снова расхохотался и добавил, тут же погасив смех и улыбку: – О моем предложении вы должны хорошенько подумать, даю вам на это три дня. Достаточно?
– Вполне,– сказал я.
Фишелл пожал мне руку, и тот же длинный коричневый «крайслер», который доставил меня на виллу, отвез домой. Я не стал обдумывать предложение три дня; уже по дороге, вспоминая весь наш разговор, твердо решил не встревать ни в какие авантюры, я уже однажды был шпионом в партизанском отряде и помнил, чем все это кончилось. Гадкими казались мне все эти люди, пытавшиеся сварганить свои дела на моем горе, на моих страданиях, на том, что я считал для себя святым. Им на все это наплевать. Но как мог втянуть меня в такую авантюру Вапнярский?
Из дому я направился прямо к нему. У храма святого Владимира встретил Юрка Дзяйло. Поздоровались, Юрко искренне обрадовался мне. Я машинально поинтересовался, как он живет.
– Живу в общении с богом, это сейчас главное в моей жизни.
– Стараешься теперь и мухи не обидеть, а говорить всегда только сущую правду? – с нескрываемой издевкой спросил я.
Он не понял издевки и лишь скорбно закивал головой.
– А мне только что один из вершителей человеческих судеб сказал: нигде, ни в каких документах мировой канцелярии не зафиксировано, что мои Галя и Тарас мертвы. И хочет, чтобы я поехал по их следам, возможно, я их найду. Что ты на это скажешь, новоиспеченный правдолюбец?
– Скажу то, что и говорил,– печально изрек Юрко.– Твоих нет в живых. Тебя хотят послать шпионом, тебя продают, чтобы кому-то в карман посыпались доллары.
– А ты откуда это знаешь?
– Знаю. Мне тоже предлагали, но я отказался. Сказал, поезжайте сами, у вас, наверное, грехов поменьше. А мне надо еще долго жить, чтобы отмолить у бога прощение.
– Тебе это предлагал Богдан?
– Нет, его приятели из ЦРУ. Организации нужны деньги, а торговать ей нечем, кроме нас.
Я знал об этом и без Юрка, но разговор с ним, который стал таким смиренным и правдивым, охладил мой пыл, и я пришел к Вапнярскому совершенно успокоенный, да и обстановка в его доме была такая мирная и домашняя, что резких высказываний в адрес хозяина я делать просто не посмел. Богдан и Лукерья сидели в мягких креслах и смотрели телевизор. Лукерья угостила меня маковыми коржиками и молоком, как у нее на Украине. На стенах комнаты висели в золоченых рамах репродукции украинских художников, была среди них и одна моя копия с картины Васильковского. Низенький столик, на который Лукерья поставила два стакана молока и тарелку с домашними коржиками, был накрыт полотняной, вышитой украинским орнаментом скатеркой. В то время Богдан и Лукерья еще не были обручены, но дело уже шло к тому, и Лукерья считала себя не только хозяйкой дома, но и пыталась оказывать кое-какое влияние на свободолюбивого старого холостяка Вапнярского, пробовала, как она выражалась, «перевоспитывать Богдана для его же пользы». Я попал к ним как раз на «молочный ужин».
– Ну и дурные же вы, мужики,– говорила Лукерья,– пили бы вместо виски молоко и жили бы до ста лет.– Она обняла Богдана, присела на край его кресла и подала ему стакан молока. Богдан выпил его залпом, отломил кусочек коржика, бросил в рот, пожевал и, вопросительно поглядев на меня, спросил:
– Ну, что у тебя? Все прошло нормально?
– Нет,– ответил я.
Богдан резко поднялся.
– Пошли в кабинет.
– Хотя бы вечером о делах не говорили,– с укоризной заметила Лукерья, прошла следом за нами в кабинет, открыла настенный бар и выгребла оттуда несколько бутылок со спиртным.
– У меня гость – с досадой произнес Вапнярский.
– Твой гость не пьет, а у тебя с сегодняшнего дня начинается молочный месяц.
Я сразу же рассказал ему о том, чем закончилась наша беседа с Фишеллом.
– Не пойму: зачем ты втравливаешь меня в это? – спросил я у Вапнярского.
– Для твоего же блага. Ты хочешь стать учителем, а это единственный путь. Тебе помогут.
– Но ведь меня посылают как шпиона. Это верная смерть. Первой семьи я лишился, теперь моя вторая семья потеряет меня. Ты об этом подумал или тебе безразлична судьба твоих товарищей?
– О нет, Улас, далеко не безразлична,– ответил Богдан и в его голосе я не уловил нотки неискренности.– Шпион? Это звучит слишком громко. Главное – надо было дать согласие. Я думал, ты поступишь благоразумнее. Остальное бы я устроил сам. От тебя требовалась всего лишь малая информация.– Богдан подошел к шкафу с книгами, выдвинул один из томиков, достал плоскую бутылочку коньяка, отвернул золотую головку, выпил все до дна и повторил: – Всего лишь небольшая информация. Кто ее будет проверять? Надо им что-нибудь сунуть, понимаешь? Любые сведения! Для нас это – большой плюс, причастность к работе людей, которые желают нам добра, которые сегодня являются нашими союзниками. Других союзников у нас нет. Улас,– Вапнярский умоляюще сложил на груди руки, что было совершенно не свойственно ему.– Не отказывайся, прошу тебя. Ну, что тебе это стоит? Ты поедешь туда, никто тебя там не узнает. Дашь какие-то сведения. Сегодня все годится, лишь бы ты давал сведения, это самое главное, за это платят деньги. И ты станешь учителем...
– А как моя семья? Что будет с ней, если со мной что-то случится? Кто ей поможет, как они будут жить? – закричал я.
– Не горячись, Улас...
– И еще одно,– уже спокойнее продолжал я,– скажи мне, кто из вас говорит правду? Живы мои или нет?
– Их нет в живых,– твердо сказал Вапнярский.
– Кто их убил?
– Разве кто-нибудь знает правду? – вновь с философской велеречивостью изрек Вапнярский.
– И все же...
– Какая разница, Улас,– тем же тоном продолжал Вапнярский.– Что значит смерть двух близких тебе людей по сравнению со страшными концлагерями и гибелью пятидесяти миллионов человек? – скорбно произнес Вапнярский.
– Да, но это мои родные, это люди, дороже которых никого у меня не было! Тебе никогда этого не понять.
Богдан обнял меня, успокаивая.
– Их больше нет, Улас. Они были в той, твоей первой жизни. А теперь у тебя новая семья. И делай все так, чтобы она была здорова и счастлива. Бог с тобой.
29.
Джемма снова собиралась в туристическую поездку на Украину. При встрече со мной она была то задумчиво грустна, то необычно для нее возбуждена. За несколько дней до поездки пригласила меня на выставку миниатюр Василия Кричевского-сына. Джемма очень любила этого художника. Любовь, я бы сказал, даже какое-то ревностное отношение к нему было настолько сильно, что Джемма, не написавшая хотя бы маленького отзыва о своих товарищах-художниках, вдруг разразилась большой монографией о Василии Кричевском, упомянув в ней и о его знаменитом отце, братьях и других отпрысках этой семьи талантливых мастеров, сыгравших определенную роль в формировании украинского изобразительного искусства двадцатого столетия, особенно здесь, среди эмигрантов.
Выставку устроили в Эдмонтоне в середине марта. Мы прилетели туда с Джеммой, сняли номера в недорогом отеле и сразу же отправились в галерею, где состоялся уже посмертный вернисаж произведений Василия Кричевского. Художник умер 16 июня 1978 года, а последний день выставки, 18 марта, совпал с днем его рождения – 18 марта 1901 года. Я и раньше бывал на его выставках, видел репродукции картин Василия Кричевского в различных иллюстрированных журналах. В Эдмонте было представлено около ста его репродукций, на сей раз миниатюр, исполненных акварелью, цветными карандашами и тушью. Тематика их разнообразна – тут и пейзажи Слобожанщины, писанные по памяти, реминисценции юных лет, крымские горы и Черное море и рядом – пейзажи Калифорнии. Исполнены они с большим мастерством, во всяком случае, мне так кажется. Эти миниатюры Василия Кричевского по размеру гораздо меньше тех, которые мы привыкли видеть при его жизни. Писал он их совершенно больным, когда уже не мог работать на мольберте, рисовал преимущественно в постели. Обо всем этом мне вполголоса рассказывала Джемма.
– Но и среди этих произведений,– шептала Джемма,– есть настоящие жемчужины искусства. Вот хотя бы эта хатка с мальвами, упирающимися в стреху, или река под горою.
– Это Псел,– уточнил я.
– Откуда ты знаешь? – удивилась Джемма.
– Читал.
– Обычно человек на смертном одре поддается апатии, а Кричевский работал с утра до вечера, до последней минуты думал о искусстве, только им и жил.
– Я завидую ему,– сказал я тихо.– О таких людях следует постоянно помнить и учиться у них.
– Да,– согласилась со мной Джемма,– он прожил большую и сложную жизнь. Известно ли тебе, что Кричевский преподавал в художественно-индустриальной школе в Киеве, проявил себя в кинематографии, оформив шестнадцать фильмов, в том числе и знаменитую «Землю» Довженко?
– Об этом я прочитал в твоей монографии.
– Его произведения реалистичны с некоторыми нотками импрессионизма, но это вряд ли кто замечает, он чисто украинский реалист,– продолжала объяснять Джемма.– Да и не мог он быть другим. Прежде всего, конечно, это талант, сформировавшийся в украинской среде под влиянием своего отца Василия Кричевского, я, между прочим, видела дом, где он жил, и мемориальную доску на нем. Его дядя Федор – тоже художник, профессор. Поэтому-то его пейзажи совершенно оригинальны, резко отличаются от пейзажей западноевропейских и американских мастеров...
За нашей спиной раздался недовольный голос:
– И еще, панове, вы не сказали главного, того, что пан Василий Крический в своем творчестве диаметрально противоположен соцреализму московской продукции.
Мы обернулись. За нами стоял длинный и худой человек с гладко выбритым лицом; ни я, ни Джемма его не знали.
– Как вы смеете вмешиваться в наш разговор! – резко заметила Джемма.
Я тихонько прижал ее руку.
– Василий Кричевский – несравненный мастер неба и облаков,– продолжала Джемма, не обращая внимания на незнакомца, словно не замечая его.– Его сочные, нежные, жизнерадостные кодеры, виртуозно исполненные светотени, его пейзажи —вне конкуренции. И все же что-то помешало ему стать в ряды первых пейзажистов мира. Он никогда никого не представлял, словно был безродным.
– Почему «словно»?– возразил я.– Так оно и было.
Джемма, по всей видимости, не поняла меня, а объяснять ей почему-то не хотелось. Слушая ее, я с печалью думал о том, что, живи на Украине, он, безусловно, имел бы мировое признание, потому что представлял бы великую страну и не был бы, как заметила Джемма, «безродным».
А Джемма продолжала:
– Он был удивительно постоянен в своем творчестве, не искал модных «измов», не стилизовал природы хитромудрыми приемами, чтобы блеснуть оригинальностью; наоборот – был с природой в тесных контактах, мог найти, разглядеть в ней самое яркое и оригинальное, украсить рисунок самобытностью своего таланта.– Джемма, сама того не замечая, повторяла мысли и слова из своей монографии, а я смотрел на эти миниатюры, написанные по памяти, и думал: как же надо было любить свою родину, свою Слобожанщину, чтобы в последние, предсмертные дни своей жизни изобразить ее по памяти так, как не всякий мастер напишет и с натуры. И вспомнились мне строки из его биографии, как он еще в юные годы вместе с братом Николаем проведывал свою бабушку Параску Кричевскую в селе Ворожба, на Слобожанщине, в одном из очаровательнейших уголков Украины, где на реке Псел еще стояли водяные мельницы, а на околице доживали свой век старинные казацкие хаты. Юноши часто бывали и в Лебедине и в окрестных селах, все это сохранилось в сердце художника до конца его дней. Многое из того прошлого теперь перед нами, за тысячи километров от родины, в галерее «Оксфорд»…
Выходя из галереи, мы неожиданно встретили Юрка Дзяйло.
– Уж не на выставку ли? – удивился я.
– На какую еще выставку? – приняв мои слова за насмешку, обиженно спросил Юрко.
– Здесь вернисаж Кричевского,– сказала Джемма.
– Не знаю такого,– смешался Юрко; вряд ли он знал и значение самого слова «вернисаж»,
– У тебя тут дела? – спросил я.
– Да вот приехал узнать, как устроиться в богословскую студию.
– Смотри, еще станешь архиепископом, а то и самим владыкой,– усмехнулся я.
– Владыкой, может, я не буду, грехов слишком много, а священником желаю стать. Хочу посвятить остаток своей жизни богу и святой церкви.
Обратно мы летели вместе. Джемма села в кресле у выхода, где она могла курить, не докучая табачным дымом нам с Юрком. Мы сидели в креслах рядом.
– Учителем тебя так и не взяли? – спросил у меня Юрко.
– Нет.
– Значит, не поддался на их уговоры.
– Не поддался.
– Ну и правильно сделал.
Стюардесса принесла нам кофе и пакетики с орехами. Юрко грыз орехи, запивал их кофе и задумчиво говорил:
– Меня ведь тоже уговаривали и наши, и еще кое-кто... Наши говорили, мол, с американцами ссориться не стоит, они единственная сила, способная освободить Украину от коммунистов. Освободят и отдадут ее нам, националистам. А моя задача – хорошо поработать на Украине, собирать военную и экономическую информацию, в которой нуждался наш провод. Меня должны были обучить тайнописи, шифрам, связываться по радио с радиостанциями, которые ведут передачи на украинском языке...
В последние дни марта мы провожали Джемму на Украину. Все что-то ей заказывали: Дя-нян – деревянные ложки и шкатулку, Калина – духи «Красная Москва» и ноты современных советских композиторов, Джулия сунула бумажку с записями семян каких-то цветов, а я попросил зайти на рынок и купить белых грибов – они так пахнут нашими волынскими лесами, а в Канаде белые грибы не растут.
Мы стояли на ветру, по-мартовски сырому и холодному, до тех пор, пока лайнер не взлетел, сделал над аэродромом крутой разворот и лег курсом на Монреаль. Все были оживлены, только мне было грустно, словно я предчувствовал что-то плохое...
30.
Из всех моих детей Вапнярский любил только Джемму; любил он ее за талант и, конечно же, прежде всего, за то, что она хорошо знала украинский язык, тянулась ко всему украинскому и высоко чтила украинскую культуру.
– Такие, как твоя Джемма,– это надежда нашей нации,– говорил он и тут же непременно добавлял: – Эх, ей бы еще нашу идеологическую позицию! Тут уж твоя промашка. Воспитывал других, а своих не воспитал.
– Не один я такой; каждый второй из тех, с кем моим детям приходилось иметь дело,– воспитатели не хуже меня. А МУНО [Молодежное украинское националистическое объединение], в котором они состояли половину своей сознательной жизни?
– А-а-а,– досадливо протянул Вапнярский,– что это МУНО! Оно только и способно побегать с лозунгами да покричать у входа в концертные залы, когда приезжает какой-нибудь ансамбль из Края. Поорут, повизжат, а потом бросают свои бумажные лозунги в урны и, сломя голову, несутся слушать тех, против кого только что выступали.
Вапнярский был прав, я и сам не однажды наблюдал такое. Иногда случались эксцессы и посерьезнее: то бросят петарду на сцену во время выступления литераторов с Украины, то грозятся физической расправой. Однако не редки случаи, когда украинская молодежь пытается познакомиться с участниками ансамбля, приглашает их домой и, позабыв наставления таких, как Вапнярский, не ведет с ними пропагандистских бесед, а просит петь украинские песни, рассказывать о Крае. Они, рожденные в Канаде, имели об Украине очень приблизительное представление; угощали гостей обедом, который обычно длился далеко за полночь, а потом на отцовском авто, с трезубцем на заднем стекле, развозили их по отелям. Мои дети ни в каких эксцессах против украинцев, приезжавших из Края, участия не принимали, домой к себе один или два раза приглашала не артистов, а молодых художников только Джемма. Она звонила и мне, чтобы я пришел, мне очень хотелось пойти, но так и не решился – все казалось, что я там встречу Володю Франько, хотя такого быть не могло – я ведь сам закопал его...
Мою красавицу Калину Богдан Вапнярский не замечал, а вот к Тарасу питал глубочайшую неприязнь, если не сказать больше; тот платил ему тем же, и оба не скрывали своих чувств. Вапнярский приходил ко мне лишь в то время, когда Тараса не было дома, иначе тут же возникали споры и острые стычки. А началось все с того, что однажды Вапнярский упрекнул Тараса: почему тот разговаривает с ним и со мной по-английски? Тарас нередко говорил со мной и по-украински, но разговаривал плохо, с акцентом; он и теперь иногда обращается ко мне по-украински, чтобы сделать мне приятное. А вот при Вапнярском он нарочито, даже если я заговаривал с ним по-украински, отвечал по-английски или по-итальянски. Это бесило Вапнярского. В один из таких моментов он и сказал Тарасу:
– Стыдно породившему тебя отцу, который обращается к тебе на родном языке, отвечать по-английски. Неужели у тебя не нашлось времени, не появилось желания выучить украинский язык? Где, в конце концов, твоя национальная гордость?
– Я наполовину итальянец,– спокойно ответил Тарас,– и почему-то моя мать, итальянка, никогда не упрекает меня в том, что я не разговариваю с ней по-итальянски, а вы постоянно только об этом и твердите.– И вдруг он заговорил сердито, с вызовом: – Есть, между прочим, вещи гораздо важнее языка, от которых зависит и наша работа, и семья, и, простите за громкие слова, судьба всего человечества. А вы своей мышиной возней только путаетесь под ногами у порядочных людей и мешаете им думать. А думать есть над чем: в мире накоплено более пятидесяти тысяч ядерных боеголовок, их взрывная сила равна трем тоннам тротила на каждого, живущего на нашей грешной земле. А вы считаете меня чуть ли не врагом за то, что я плохо знаю язык своего отца. Да неужели вы, культурный и образованный человек, никогда не задумывались над тем, что недалеко то время, когда не будет ни украинского, ни итальянского, ни английского. Кибернетики изобретут нечто новое, вроде морзянки или какого-нибудь высокочастотного писка, как, например, у дельфинов, и этот язык будет понятен каждому не только на нашей планете, но и во всей вселенной. Так что надо не болтать, а работать, развивать технику, познавать вселенную!