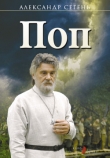Текст книги "Серая мышь"
Автор книги: Николай Омельченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Выставка помещалась на втором этаже здания.
В начале просмотра стены зала были увешаны огромными фотографиями храмов Украины с подписями: все это, мол, разрушили коммунисты.
Дальше висели написанные маслом иконы Джеммы.
Ее интерес к религиозной тематике возник после поездок в Италию и на Украину, знакомства с памятниками древней культуры, живописью храмов и церквей. Открывал выставку какой-то длинноволосый, тонколицый молодой человек, внешностью похожий на иконописного Иисуса Христа.
Он говорил:
– Первые христиане часто повторяли слова апостола Иоанна: «Не люби мир, ни вещей в мире. Кто любит мир, в том нет любви к его Создателю». Они считали, что искусство – это язычество и часть грешного мира. Однако уже со второго столетия начало развиваться и распространяться по всему миру христианское искусство. В то же время появился труд «Апостольские традиции Гипполита», где было сказано, что христианин может быть скульптором или художником, если не творит идолов.
– Как только придешь на культурное мероприятие к вашим украинцам, непременно услышишь о богах или об идолах. Думаю, что и Джемма написала свои иконы под этим влиянием,– шепнул мне Тарас.
– Во-первых,– украинцы не «ваши», а наши – сказал я сердито.– А во-вторых, посмотри внимательно на иконы,– уже мягче продолжал я,– в них нет и следа религиозности.
– И правда,– согласился со мной Тарас, когда мы стали осматривать выставку.– Мне нравится то, что лица на иконах не традиционно-библейские, а вполне современные, вот, например, лицо нашей Калины, даже выражение ее – озорное, кажется, сейчас брызнет смехом.– Он оглянулся на Калину, она шла за нами, но сейчас лицо у нее было строгое, сосредоточенное и даже печальное, как на похоронах,– признак серьезного настроения. Я смотрел на лица моих детей, жены и невестки. По всему было видно, что выставка им всем нравится. Мне она тоже нравилась, особенно иконы. Тарас прав: это лишь по форме иконы, а лица на них вполне современны; радовали глаз приятные светлые легкие краски, они воспринимались как вызов иконописным колерам, какими пользовались обычно богомазы, работавшие в традиционном стиле.
К Джемме подходили знакомые, приятели и критики, целовали, поздравляли; все было, как обычно; одни делали это искренне, другие – сдержанно, иные затаили свои мысли, чтобы вылить их потом в колких статьях и заметках.
После выставки Джемма пригласила нас и еще нескольких своих близких друзей к себе домой. Первоначально она собиралась устроить в ресторане ужин в честь вернисажа, но затем передумала – не хотела огорчать меня и Джулию, зная, что мы противники дорогих ресторанов, а дочь и в этом была верна себе – дешевых ресторанов не признавала. Джемма снимала квартиру на втором этаже коттеджа на Юниверсити– стрит, в фешенебельном районе Торонто, здесь размещались и квартира, и мастерская; не очень уютно, но зато крайне престижно,– и сам район, и роскошный коттедж. Джемма совершенно лишена тяги к уюту. По ее мастерской об этом судить было нельзя, она похожа на большинство современных мастерских художников, вокруг висели и стояли картины, рисунки, мольберты, коробки с красками, в больших и малых вазах – букеты. Гостиная, или как ее называет Джемма,– будуар, заставлена дорогой, хотя и разностильной мебелью под старину, а частью и умело реставрированной старинной, Джемма полушутя утверждала, что, например, эти обитые вышитым атласом изящные креслица, в которые мы уселись, помнят еще мадам де Помпадур. Стены завешаны украинскими рушниками и безделушками из дерева, на паркетном полу – дорогой ковер с украинским орнаментом. Среди нескольких современных картин, развешанных на стенах, между рушниками, бросалась в глаза привезенная Джеммой из Италии мастерски сделанная копия фрагмента из «Тайной вечери» Леонардо да Винчи – Христос и Иуда. Фреска сразу же приковала к себе внимание всех, кто вошел в гостиную.
– Вот видишь,– с грустным вздохом сказала мне Джемма,– ты как-то говорил, что не все талантливое распознается и признается сразу. Может быть, для талантливого и нужно время, как, скажем, для Поля Гогена, но гениальное видно сразу. Когда Леонардо да Винчи закончил свою роспись «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане, все – и прихожане, и критики, и художники, и праведники, и грешники сразу же восхитились этим произведением и единогласно провозгласили его шедевром. Шедевром оно осталось и по сегодняшний день. Его популярность во всем цивилизованном мире не становится меньше, наоборот, растет и как бы каждый раз возрождается. На нем воспитывались целые поколения художников.
Джулия, Калина и Да-нян накрывали на стол, делали бутерброды. Виски, коньяка и всяких вин в баре у Джеммы, как у каждой современной женщины, в изобилии, так что за столом вскоре стало шумно, разговор шел о Джемминых работах, за них поднимались тосты, их хвалили. Когда веселье несколько спало и усталые гости уже подумывали расходиться по домам, Джемма вдруг снова заговорила о росписи Леонардо да Винчи.
– К сожалению,– сказала она,– роспись начала портиться после того, как художник ее закончил. Ее знают, в основном, по множеству копий. За последние четыреста лет желание обновить, освежить оригинал только вредило ему. Лишь недавно по рисункам, сохранившимся в королевском музее в замке Виндсор, удалось восстановить оригинал.
– Я слыхал, что фирма «Оливетти Канада лимитид», та, что делает пишущие машинки, дает деньги, чтобы перевезти гигантскую фотокопию этой картины для показа ее у нас в Торонто, в Галерее Искусств.
– Да, к пятисотлетию прибытия да Винчи в Милан, где начался необычайно продуктивный период творчества мастера.
Гости и все, кроме Джулии и Да-нян, разговаривали по-украински, даже Тарас, хотя говорил он ужасно плохо, но ему хотелось угодить Джемме. Мне кажется, что Тарас побаивается ее и малость завидует. Завидует не ее таланту, нет, а умению держаться независимо, такая она у нас с детства.
В конце вечера меня порадовала наша невестка Да-нян, она любит подносить неожиданные сюрпризы друзьям и близким.
Чтобы привлечь к себе внимание, Да-нян вдруг схватилась за голову, изобразила на лице гримасу ужаса и воскликнула:
– Ну как же я могла забыть?!
Да-нян быстро поднялась, метнулась в коридор, где на вешалке дамы оставили свои сумки, и вернулась с торжественной улыбкой, неся в руках небольшой томик.
– Вам, отец, как самому старшему среди нас,– протянула она его мне.
– Что это? – спросил я, разглядывая на обложке тисненые иероглифы. Открыл томик, и меня словно обдало приятным теплом. На меня смотрело дорогое лицо Тараса Григорьевича Шевченко.– Шевченко на китайском языке! Думал ли когда-нибудь об этом наш великий поэт? – воскликнул я.– Спасибо, тебе, дочь, большое спасибо.– Я обнял невестку и растроганно поцеловал ее.
– Как это тебе удалось? – спросила Джемма.
– Я прочла в газете, что в Шанхае вышел том Тараса Шевченко, написала своим, они достали и выслали. Я только сегодня получила бандероль, но в спешке забыла вам дома сказать об этом.
Конечно же, Да-нян схитрила, не могла она о таком забыть даже в спешке! Просто моя невестка очень любит эффект, неожиданность. Так и произошло сейчас. Мы восхищаемся, а она с ласковой подобострастностью заглядывает нам в глаза, мило улыбается, ее симпатичное личико с раскосыми маслинными глазами всегда сияет улыбкой.
– Переведи мне, что вошло в этот том,– прошу я ее.
– Здесь восемьдесят стихотворений и поэма «Гайдамаки».
Мы снова и снова брали в руки этот том, листали, рассматривали его. Он был украшен автопортретами Шевченко, автографом его «Заповита» и полутора десятками иллюстраций.
Джемма не любила никому ни в чем уступать, и поэтому, когда страсти улеглись вокруг подарка Да-нян, вынула из стопки картин, стоявших у стены, небольшое полотно с лесным пейзажем Волыни. Она начала писать его во время поездки на Украину, а заканчивала здесь. Я знал о нем. Джемма, по всей видимости, готовила его мне как подарок на именины. Не будь сегодня этого тома, Джемма не показала бы свой пейзаж. Но как же тут утерпеть! И вот во второй раз в этот день я ощутил прилив счастья. Как редки в нашей жизни такие минуты! Пейзаж прекрасен: край леса, сквозь деревья виднеется коричневатая хатенка, в такой мы с Галей ночевали когда-то по дороге из Варшавы в Ковель... Придя домой, я вначале повесил эту картину в гостиной на самом видном месте. А потом перенес в кабинет. Кому она нужна в гостиной! А мне она дорога. Смотрю на нее и шепчу, как молитву: «Где ты, моя Волынь, в убранстве лесов, с белыми березами? Где вы, мои Галя и Тарас?» Той земли мне уже не видать во веки веков. Но все же нет-нет да и затеплится надежда: а вдруг когда-нибудь еще увижусь с вами, моя жена и мой сын?! О, если бы существовала та загробная жизнь, которую нам обещают святые отцы!
10.
Пан Бошик исчезал так же внезапно, как и появлялся. Ночью за ним зашел Юрко, и они ушли. Мы были очень рады; все время, когда он скрывался у нас, мы жили как на иголках. Галя, добрая и наивная душа, сокрушалась, что пан Бошик даже куска хлеба на дорогу не взял, но я понял, что уходил он не очень-то далеко.
В следующий раз Бошик появился у нас весной. Его днем открыто привезли на телеге, и был он какой-то необычайно важный, напыщенный. Поселился пан Бошик у Дзяйло, зашел во время перемены к нам в школу, прямо в учительскую, сделал вид, будто ни меня, ни Галю не знает, показал мне и Вахромеевой удостоверение инспектора облоно. А оставшись в моем крохотном кабинете со мной наедине, обнял меня и озорно усмехнулся, даже игриво подмигнул.
– Видал, какую карьеру я сделал за это короткое время! Не какой-нибудь учитель или директор, а инспектор! Приехал проверять, как в глубинке поставлена внешкольная работа.
Я вынул тетрадку с нашими планами, хотел позвать Вахромееву, у нее тоже кое-что имелось, но Бошик махнул рукой.
– Пустое, считай, я всю вашу писанину уже проверил, мне нужно другое. Ты как-то говорил, что учителя выходят с учениками на природу, в поле, лес, дают там уроки или устраивают походы. Бывает такое?
– Бывает. Уроки природоведения, ботаники. По этим предметам у нас молоденькие учительницы.– Я улыбнулся и добавил: – С ними вам будет приятно прогуляться.
– А с тобой приятнее вдвойне,– серьезно заметил Бошик.– Мне нужно, чтобы ты вывел детей в поход не один, а два-три раза. И я с тобой пойду. Это возможно?
– Директор ходит в походы редко, но для такого гостя...– Я развел руками в знак полного понимания, хотя, честно говоря, ничего не понимал до тех пор, пока мы не отправились в этот не очень далекий поход. Маршрут наметил сам пан Бошик. Оказалось, что все походы совершались в сторону воинских частей и скрытого в лесу аэродрома.
– Любознательным детям здесь интереснее,– усмехался пан Бошик (забыл сказать, что теперь он имел другую фамилию – Гребенюк). Детям действительно было интересно, они выбегали на поле к самолетам, подходили близко к зенитным орудиям, за ними следовали мы с инспектором, а часовые, добродушные молодые красноармейцы, доверчиво усмехались и не очень строго окрикивали:
– Эй, братва, сюда нельзя!
Или:
– Товарищи учителя, немедленно уводите отсюда своих мальцов, разве не видите, что здесь запретзона?
Мы все видели, оттаскивали ребят, ставили их в строй и шли дальше. Пан Бошик отставал от нас, что-то помечал в своем блокнотике. Я, конечно, понимал, что все это значило, хотя делал вид, будто ничего не замечаю. Ждал, когда пан Бошик сам мне все объяснит. Поведал он мне об этом после того, как объехал наш и два соседних района и собирался возвращаться в Луцк. Вечером меня пригласил к себе Юрко.
– Товарищ Гребенюк хотят с вами повечерять,– сказал он.
– Пойдем, Галя,– обратился я к жене. Мы всегда в гости ходили вместе.– Нет,– бесцеремонно заявил Юрко,– товарищ Гребенюк просил, чтобы ты приходил один.
Галя в тот вечер, может, и не пошла бы со мной – она укладывала спать Тарасика, а бабку, которая приходила к нам нянчить сына, она в тот вечер не приглашала. Но я заметил, что слова Юрка обидели и унизили Галю, даже не так слова, как тон, каким они были произнесены. Юрко это понял и произнес с успокоительной ухмылкой:– Ты не обижайся, Галю. Меня там тоже не будет. Товарищ Гребенюк с твоим Уласом будут обсуждать школьные вопросы, у них есть свои секреты.
Юрко с отцом все же какое-то время посидели за столом, выпили водки, закусили; пан Бошик благодарил их за гостеприимство, слегка охмелевший, он даже поцеловал руку хозяйке, матери Юрка, смутившейся и почти в испуге отдернувшей руку,– не привыкла, чтобы паны вели себя так с ней, простолюдинкой. Вынося из светлицы посуду, она тут же исчезла.
– Мы с тобой, Улас, сделали большую работу для блага и свободы будущей украинской державы: собрали сведения, которые очень помогут нам и нашим союзникам, когда начнется война. А война неизбежна.
– Кто же наши союзники? – спросил я, не придав значения словам Бошика о войне, о ней часто говорили, но не верилось, что она так близка.
– Кто бы они ни были, это не важно,– уклончиво ответил пан Бошик.– Главное, что это будут враги наших врагов, и мы должны всемерно поддерживать их.
И еще в тот же вечер он рассказал мне, что в Холме прошло совещание узкого круга националистических руководителей, на котором одним из основных был вопрос о создании вооруженных сил ОУН. Предлагалось взять на учет всех годных к военной службе оуновцев и провести с ними учения.
– Союзники обеспечивают нас продовольствием, оружием, боеприпасами и всем необходимым. Короче, будем создавать боевые отряды. Их подготовку согласились вести опытные петлюровские воины, бывшие офицеры Франца-Иосифа, царя Николая, Вильгельма,– все, кто пострадал от большевиков и люто их ненавидит. В настоящее время вся агентура кропотливо изучает сильные и слабые стороны Красной Армии, ее морально-политический уровень. Когда все начнется, мы должны организовать вооруженные выступления в тылу советских войск. Сейчас готовятся политические указания о деятельности ОУН в войне. С первых же дней вести пропаганду среди войск Советов, в основном среди украинцев, организовать подрывные группы на производствах, предприятиях, в административных органах, на транспорте и, по возможности, саботаж. Не будем брезговать и диверсиями по отношению к командирам и политруководителям, в войне с врагом все средства хороши.
Пан Бошик откинулся на спинку деревянного дивана, заложил руки за голову, зажмурил глаза и мечтательно продолжал:
– Хорошо бы к приходу союзнических армий очистить от большевиков хоть часть территории здесь на западе, выйти навстречу союзникам с хлебом-солью и заявить, что ОУН уже кое-что сделала для общей победы, взяла власть в свои руки, навела порядок и теперь заявляет, что хочет вместе с союзнической армией и дальше воевать против Москвы. Эх, если бы за нами пошли народные массы! Трудно с нашим народом, особенно теперь, когда большевистская пропаганда за каких-то полтора года сумела настроить его на свой лад.– Пан Бошик навалился грудью на стол, ударил кулаком по столешнице, его серые глаза налились сталью: – Все будем ломать, формой власти станет у нас политически-милитаристическая диктатура ОУН, создадим специальные суды, которые будут беспощадно карать всех врагов. Вот ты, Улас, считаешься интеллигентом, но ты интеллигент особый, сформировавшийся под влиянием националистических идей. Я верю, такие, как ты, станут со временем настоящими борцами за украинскую державу. Но скажу тебе откровенно: в нашей борьбе интеллигенция сильно навредила. И поэтому я поддерживаю мысль Бандеры о том, что большую часть современной украинской интеллигенции следует просто уничтожить или изолировать. Не дай бог допустить ее к власти, будет то же, что уже однажды произошло в украинской истории...
– Что же произошло? – спросил я, когда пауза затянулась.
Пан Бошик горько усмехнулся, налил себе полстакана водки, хотел было плеснуть и мне, но я накрыл свой стакан ладонью, я пил только в крайних случаях и то рюмку, две, до сих пор не понимаю, какое удовольствие находят люди в этом зелье. А пан Бошик выпил и переспросил:
– Что произошло? Да произошло непоправимое! К власти допустили интеллигенцию, разных там Винниченко и Грушевских. Тебе, конечно, известно из нашей истории, что во время первой мировой войны в Германии была подготовлена дивизия синежупанников, а в Австрии – дивизия серожупанников, и оба эти формирования весной восемнадцатого года прибыли в Киев. Это была боеспособная, национально вышколенная армия. К тому же гетман, тогда еще генерал русской армии Павел Скоропадский, украинизировал целый корпус в русской армии. Но нашим социалистам– украинцам, которые в то время руководили политической жизнью на Украине, господам Винниченко и Грушевскому армия была не нужна, потому что они, как и большинство интеллигентов, были пацифистами, не признавали войны, они нуждались лишь в милиции для поддержания порядка в стране. Да и Павел Скоропадский, мол, русский генерал, к тому же из помещиков. Что из этого вышло, тебе известно. А финские националисты не побоялись того, что генерал Маннергейм тоже был русским генералом и тоже далеко не пролетарского происхождения, и доверили ему судьбу финского народа.
Пан Бошик налил себе еще полстакана и выпил, не закусывая. Он опьянел и вдруг расплакался. В тот вечер я впервые видел, как плачет пан Бошик.
11.
После каждой встречи я проникался все большим уважением к пану Бошику, верой в его слова. Эта вера утвердилась во мне после того, как немцы напали на Советы. Теперь я понимал, что это и есть те союзники, о которых он говорил; с тревогой и какой-то беспечной, присущей молодости радостью ждал я, что вот-вот появится и сам Бошик и многое из того, что он предсказывал, о чем мечтал, наконец-то исполнится. Кое-что уже становилось явью. Когда прогромыхала орудийными громами где-то неподалеку от нашего села война, те, кто был не в ладах с Советской властью, вышли встречать немцев.
Дежурившие на взгорье дороги Юрко Дзяйло со своими дружками замахали руками и огласили пьяными голосами всю округу:
– Едут! Едут!
На дорогу вышли старший Дзяйло, отец Юрка, несколько местных прихвостней и поп, отец Стефан. Дзяйло-старший выталкивал вперед себя свою племянницу в украинском национальном костюме, с хлебом и солонкой на белом вышитом рушнике. Лицо ее было бледно от страха и волнения. Сзади нее стоял отец Стефан с крестом в руках. У края дороги пугливо жалась толпа людей. Оставляя за собой длинный серый хвост пыли, к селу быстро приближалась черная легковушка, новенький бронеавтомобиль и десятка полтора мотоциклистов. Сбавив скорость, колонна остановилась, из легковушки вышли трое немецких офицеров, дивчина с поклоном протянула им рушник с пышной белой паляницей и солонкой на ней, а стоявший рядом Дзяйло, тоже поклонившись, сказал, что украинский народ и все жители села рады приходу немецкой армии, освободительницы от большевистского ига. На лицах людей я не заметил особой радости, скорее – настороженное любопытство, смешанное со страхом. Никто из них не знал, с какой целью пришли сюда эти чужие люди в зеленых мундирах, с пулеметами и автоматами, но я уверен, что в душе каждого жила переданная с материнским молоком неприязнь к завоевателям, кто бы они ни были, откуда бы и с какой миссией не явились.
Дзяйло-старшего немцы назначили старостой, а Юрко стал начальником полиции. Поначалу полицию возглавил какой-то чужак, Крамаренко, бывший интендант Красной Армии, добровольно сдавшийся в плен и чем– то услуживший немцам. Он был украинцем из восточных областей, жил до войны в каком-то маленьком городке и говорил на суржике, мешая русские и украинские слова. Кичился тем, что его отца упекли в Сибирь чекисты, а он ярый ненавистник большевиков и Советской власти.
– Но тебя большевики не очень-то обидели,– как-то по пьянке сказал ему Юрко, который ходил у него в заместителях,– командирские кубари повесили.
Говорят, за эти слова Крамаренко едва не убил Юрка, даже пистолет выхватил, но Юрко глянул на него таким тяжелым взглядом, что тот сразу же остыл. Дружки Юрка, ставшие, как и он, полицаями, тоже похватались за свои карабины. Скорее всего, поэтому Юрко и остался жив. Крамаренко был жесток и мстителен и, конечно, не простил бы Юрку этой выходки, но вскоре начальника полиции нашли мертвым в хате, где он жил. Засов двери был открыт, значит, Крамаренко впустил к себе кого-то из знакомых или близких. Ран на теле не оказалось, лишь на шее синело полукружье от удавки.
– Туда ему и дорога, катюге,– сказал мне Юрко.– Ты бы видел, как он над твоей Вахромеевой знущался. Что тот москаль. Да он, видно, и был москалем, потому что, когда тыкал ее ножом, матерился по-русски. Свой своего,– злорадно хохотнул Юрко,– все они, москали, самоеды.
– А мы разве не такие? – вспомнил я свою добрую помощницу, никому никогда не причинившую зла Наталью Григорьевну и проникся к Юрку обычной неприязнью.
– А что мы? – насторожился Юрко.
– И мы своих же, да как еще люто и жестоко.
– Ты про кого это?
– Про семью Мирчука.
Яков Мирчук был у нас секретарем сельсовета, из бедняков. Родители его – не пьяницы и не гуляки, а всеми уважаемые люди; бедность у них была от малоземелья и многодетности – девять ртов кормили старые Мирчуки и всех, как говорится, вывели в люди – дети жили в городе, выучились, стали фельдшерами, агрономами, учителями. Младший Яков, как и полагалось, остался в отцовском доме охранять родительскую старость. Отец за полгода до войны умер, осталась мать– старушка, ходившая за детьми Якова,– жена его Настя работала поначалу дояркой в недавно образовавшемся колхозе, а последнее время заведовала фермой и дома почти не бывала, как и сам Яков. За несколько дней до войны Якова пригласили в область на курсы, там его и застала война. Почему он не успел вернуться в село до того, как пришли немцы, мне до сих пор неизвестно. Крамаренко, Юрко и другие полицаи дожидались, что Яков объявится, а когда поняли, что его не будет, ворвались ночью в хату Мирчуков, вывели за село мать Якова, его жену и троих детей, самому старшему еще и семи не было, и там же, в яру всех застрелили и закопали. Соседи Мирчуков слыхали, как, узнав куда их ведут, причитали и плакали женщины, умоляли полицаев пощадить хотя бы детей.
– Жена Якова с большевиками якшалась,– зло бросил Юрко,– и на моего батька доносила. У меня с ней были свои счеты. А Мирчучиху и детей не я порешил, то все Крамаренко.
– А ведь трое хлопчиков были украинцами, и неизвестно, кем бы они еще стали...
– Ну, потекли интеллигентские слюни,– неприязненно сказал Юрко.– Тебя вот назначили политическим воспитателем, а ты не помнишь самого простого, но главного указа нашего провода; ликвидировать надо не только чужеземных врагов, но и своих, которые стали изменниками нации. Это отродье вырастет и мстить будет, никогда не стать им настоящими украинцами.
В моем дневнике сохранилась запись о последней встрече с Вахромеевой.
...За день до начала войны Наталья Григорьевна повезла наших школьников во Львов на экскурсию, хотела ознакомить детей с архитектурой и музеями древнего украинского города. Наши ученики впервые ехали на такую экскурсию, все мы волновались за них и за сопровождающих – шутка ли, не с двумя-тремя ехать, а с целым классом шаловливых ребят, никогда не видевших большого города. Я заранее написал своему знакомому директору школы, чтобы он похлопотал в гороно об устройстве в его школе общежития для наших детей, и вскоре получил ответ, что все готово,– выделена классная комната, занесены матрацы, договорено с соседней столовой, приезжайте. Возглавить эту экскурсию мы доверили самой опытной из нас, Наталье Григорьевне. В помощники ей дали пионервожатую из нашей же школы. Там и застала их война, но домой они не спешили, видимо, Вахромеевой не верилось, что немцы так скоро войдут во Львов, а затем оккупируют Украину. Слишком сильна была ее вера в непобедимость Красной Армии, так уж Наталья Григорьевна была воспитана, и это погубило ее... Война стремительно охватила все вокруг, и попасть с детьми на поезд
Вахромеева не смогла. Шли домой пешком следом за немецкой армадой. Видели повешенных и расстрелянных. Пионервожатая знала, что Вахромеева коммунистка, и не раз предлагала ей остаться где-нибудь, где ее не знают, не возвращаться в село, обещала сама довести детей, но Наталья Григорьевна и слушать не хотела. «За детей отвечаю я». То же самое сказала она мне, когда я ее спросил, зачем она, коммунистка, вернулась: могла бы не дойти хоть километр до села. «Не могла,– ответила она,– я должна была вернуть детей их родителям живыми и невредимыми». Это она сказала уже после, когда пришла ко мне за советом, как ей быть дальше.
– Немедленно уходите,– посоветовали мы с Галей. Собрали ей кое-что в дорогу, я дал ей адреса своих знакомых в дальних селах и в Ковеле. Она оставила мне адрес своей матери и сестры. «На всякий случай, если что случится...»
Случилось! О том, что она вернулась, узнало сразу же все село – на экскурсию ездили братья и дети полицаев. В моем доме ее, видимо, брать не посмели. Как только стемнело, я проводил ее до окраины села. Было тихо, так мирно пахло травами, полем, еще не паханной в этом году землей, которую так полюбила Вахромеева. А у яра ее уже ждали...
Тревожное то было время, злое и жестокое. Но разный люд почему-то тянулся именно в наши места, наверное, дальше было еще хуже. Нас немцы посещали редко, бывали только проездом; властвовали у нас полицаи; сами рядили и судили, сами же вешали и стреляли. Человек мог и не совершить никакого преступления ни против немцев, ни против оуновцев, к которым принадлежали все полицаи во главе с Дзяйло. Карали не только за то, что человек был против нового порядка, не поддерживал украинских националистов и их идеологию, а за то, что он был другой национальности – поляк, еврей, русский. Интеллигентов тоже не щадили. В те дни к нам дошла страшная весть о том, что во Львове было уничтожено более трехсот видных профессоров, академиков, писателей, большинство из них были поляками. В нашем селе поляков пока не трогали. Правда, в одну из польских семей приехал родственник, бежавший из каких-то краев. Его в тот же день вытащили из хаты – помнится, он был в клетчатых брюках, в старомодной бархатной жилетке и шляпе,– и повели к яру. Его родичи кричали, что он не коммунист, а бывший провизор, но Юрко приказал им замолчать, а провизора так огрел кулаком по голове, что тот потерял сознание и до яра его тащили под руки двое дюжих полицаев.
Повторяю: и все же люди тянулись в наши села, им думалось, что здесь сытнее и безопаснее. Небольшими группами пришли к нам и осели военнопленные, которых почему-то отпустили, они пристали в приймы; некоторых из них полицаи отобрали и увели в яр,– то были русские и один еврей.
Нежданно-негаданно вернулась в село Сима Бронштейн, уехавшая накануне войны на каникулы к родителям. Явилась сразу же ко мне, непричесанная, исхудавшая.
– Мне бы помыться... Согрейте, пожалуйста, воды, у меня нет сил,– сказала она и, покачиваясь от усталости, пошла к себе.
Галя согрела воду, понесла к ней в комнатушку ведра. И тут же вернулась, стала жарить яичницу, вздыхая и покачивая головой. Наконец проговорила:
– Семью ее и всех родственников расстреляли, ей удалось бежать.
Мне вспомнился ее тихий добрый отец, за бесценок продававший нам книги, и на душе стало горько.
Отоспавшись, Сима до полуночи рассказывала нам о тех ужасах, которые она насмотрелась, о гибели своей семьи. А в полночь пришел Юрко. Не здороваясь, уселся на лавке, долго молчал, глядя себе под ноги, потом поднял тяжелый взгляд на Симу и спросил озадаченно:
– Ты зачем вернулась?
– А куда мне деваться? – Сима глядела на Юрка карими глазами, в которых застыли слезы: от этого ее глаза казались еще большими, губы подрагивали, она изо всех сил старалась не расплакаться, она была гордой девушкой, но все же не сдержалась, расплакалась, беззвучно, прикусывая губу и пытаясь унять судорогу на лице. Было мучительно глядеть на нее. Первым не выдержал Юрко, поднялся, достал из кармана полицейских галифе мятый платок, подошел к Симе и вытер ей лицо.
– Хватит,– глухо сказал он.– Собирай вещи и пойдем.
– Куда? – спросили мы с Галей в один голос. В селе уже давно всем было известно, что Юрко и Сима тайно встречались, на людях они виду не подавали все из-за тех же предрассудков – Юрко боялся осуждения оуновской братии, а Сима – учительских пересудов. Да и кто мог понять этот более чем странный альянс малограмотного селюка-украинца и воспитанной в интеллигентной семье образованной еврейской девушки. Галя, которая ближе всех сошлась с Симой, однажды мне сказала, что у них настоящая любовь. Но я лично не верил, что Юрко может любить еврейку.
– Собирайся,– торопил ее Юрко.
– Куда? – снова спросил я. Судьба Симы была мне не безразличной.
– Тебе скажи, а ты еще заложишь. Знаешь, что бывает тем, кто прячет евреев? – Юрко говорил с серьезностью.
Я готов был ударить его. Но Юрко грустно, чисто по-детски, улыбнулся и сказал, протягивая мне руку:
– Да нет, Улас, я верю тебе. Мы с тобой за одно большое дело, а если когда в чем-то малом отступимся, да простит нас бог. Я спрячу Симу так, что никто не найдет ее аж до лучших времен.
Я расстроганно ответил:
– Верю тебе, Юрко, знаю, что ты слово держать умеешь.
Мы крепко пожали друг другу руки, кажется, это было в первый и последний раз.
Жена моя была женщиной набожной, искренне верила в бога, постоянно ходила в церковь, я всегда встречал ее, домой мы шли вместе, многие женщины ей завидовали – я был единственным мужчиной в селе, который встречал у церкви свою жену; правда, это было уже при немцах, при Советах она в церковь ходила не часто, таясь от других учителей. На этот раз я встречал ее после заутрени, уже подошел к церковной ограде, как на паперть из дверей выскочила в слезах Галя. Увидев меня, она и вовсе расплакалась. Я обнял ее, прижал к себе.
– Что случилось? – недоумевал я.
– Поп придавал анафеме Советскую власть и безбожников-большевиков, говорил, что скоро им всем конец. Потом показал на меня пальцем и закричал: «А вот ее муж – тоже безбожник и коммунист, его надо было посадить или повесить...»
На следующий день я подстерег попа на пустынной улочке, подошел к нему, взял одной рукой за бороду, а другой за крест и сказал ему то, что мог бы сказать только Юрко или его дружки, да еще тряхнул пару раз так, что у него внутри екнуло. Отбежав от меня, поп стал грозиться: