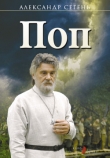Текст книги "Серая мышь"
Автор книги: Николай Омельченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– Некоторые из мельниковцев обещали написать, но до сих пор молчат, хотя многие повстанцы очутились за границей, и в Канаде, и в Штатах. Не буду скрывать правды, получил я несколько писем, компрометирующих УПА, не только от пана Курчака, но и от других; однако они ни в коей мере не отображают подлинных событий тех лет.– Маланюк переставил свой стул почти вплотную к моему, перенес чашку с кофе и теперь, уже дыша мне прямо в лицо, несколько даже спокойнее, подобострастно сказал: – Я бы, пан Курчак, не искал встречи с вами, но в вашем письме есть разумный совет. Вы писали, что «Летопись УПА» вам не нравится, лучше уж написать «Летопись Волыни». И это натолкнуло меня на новую идею. Договорившись с председателями товариществ волынян в Виннипеге и Германии, мы решили написать воспоминания под общим заголовком «Летопись Волыни». И снова получил только два никудышних опуса.– Маланюк резко поднялся, стукнул пухленьким кулачком по столу и возвысил голос: – Неужели мои земляки, участники нашей борьбы на Волыни, настолько равнодушны к этому великому событию! Неужели бывшие воины УПА со стороны мельниковцев, которые очутились в свободном мире, не желают запечатлеть для истории героические повстанческие подвиги на Волыни?! – Маланюк сел, откинулся на спинку стула, крутя в руках пустую чашку, и озабоченно продолжал: – Обидно за вас, мельниковцев, други мои, бандеровцы пишут, а вы только хнычете и жалуетесь, что они подчинили себе УПА. Вас ведь было там не меньше и сделали вы для нашей общей победы не меньше. Наслушался я также упреков, будто в «Летописи УПА» неправильно освещены многие события на Волыни и виноваты в этом опять-таки бандеровцы. Что же вы молчите, не напишете? – Он опять уставился на меня.– Почему вы, пан Курчак, молчите, кому же, как не вам, образованному человеку, прошедшему через все, писать об этом? Кстати, в одном из томов «Летописи УПА» не раз упоминается и ваш учитель пан Вапнярский-Бошик, у которого было много и других псевдонимов. А вы, человек, до конца бывший с ним рядом, можно сказать, его друг, так и не написали о нем. О, пан Вапнярский был могучий человек, природный вождь и командир! В мельниковском ОУН таких людей – считанные единицы. История его недооценила; в последние годы его стали забывать. Пан Курчак,– уже просяще заговорил Маланюк,– напишите, пожалуйста, воспоминания о нашем незаурядном командире Вапнярском, с которым в свое время и мне приходилось не раз ходить в бой.
– Я уже пишу,– вздохнул я, а сам подумал: знал бы ты, о чем и как я пишу! Но пишу правду, ту единственную, непредвзятую, объективную правду, которая не всем и не всегда нравится; но я пишу все это для себя и для самых близких мне людей, перед которыми лгать не дозволено.
Прибежала плачущая Юнь, лицо у нее было в пыли, один глаз зажмурен. Ее держала за руку девчушка, которая с ней играла. Она испуганно сказала: какие-то хулиганы мальчишки сыпанули ей в лицо песком. Я понес внучку к умывальнику, чтобы промыть глаз. Рядом со мной оказался второй волынянин из Австралии – высокий и большелицый.
– Я вам помогу, пан Курчак,– предложил он.
– Спасибо. Вы ее держите, а я буду мыть,– согласился я и мельком возглянул на земляка. У него хоть и было старческое изношенное лицо, но глаза сияли какой-то детской чистотой, если бы только не беспредельная грусть в них. Его звали Семен Моква.
Юнь вырывалась и плакала. Успокаивая ее, Семен негромко засвистел, вибрируя губами, получился довольно необычный звук, отчего Юнь сразу же перестала плакать и с любопытством уставилась на незнакомца.
– Ну, вот и все,– довольным голосом сказал Семен,– так я когда-то успокаивал своего сына.
Перед тем, как вернуться на веранду, Семен сказал мне довольно робко:
– Я создал в Австралии, неподалеку от Мельбурна, небольшой музей «Оксана», он назван в честь моей матери. У меня там нет шедевров, нет выдающихся полотен, я собираю картины самодеятельных художников-украинцев, которых судьба забросила далеко от родины. Сюжеты картин обязательно должны быть навеяны Украиной. Мне говорили, что такие полотна есть у вас. Здесь они не пользуются большим спросом, так что я у вас их куплю; конечно, если вы будете так добры и щедры, что дорого за них не возьмете, я ведь человек небогатый.
Семен Моква мне понравился; вовсе не тем, что хотел приобрести мои картины,– я уже говорил о том, что их у меня и раньше покупали,– понравился он мне своей непохожестью на других, особенно на его спутника по вояжу в Канаду пана Маланюка. Было в Семене что-то и от усталого, побитого жизнью, но не ставшего злым и недобрым старика, что-то робкое и наивное, заискивающе-грустное, такое бывает у обиженных детей, еще не понявших, кто и за что их обидел.
– Думаю, нам с внучкой здесь больше незачем оставаться, обидели и ее, и меня,– усмехнувшись, сказал я Семену.– Если у вас с нашими соотечественниками нет никаких дел, мы можем уйти хоть сию минуту. Дома я один, а когда вернется жена, она нам не помешает, она у меня из таких,– хвастливо заявил я.
– О, это такая редкость,– печально промолвил Семен.
– Мастерская у меня тоже в доме, я ведь, как вы изволили выразиться, самодеятельный художник, хотя когда-то немного этому мастерству обучался.
Когда мы вышли на Блур, Семен остановился у старенького двухэтажного коттеджа и, замявшись, спросил:
– Пан Курчак не будет возражать, если я захвачу с собой бутылочку виски?
– Но для этого надо ехать очень далеко, у нас тут, кроме кока-колы, минеральной и пива, ничего не продается.
– У меня всегда есть запас,– смущенно сказал Семен и кивнул на коттедж.– Я остановился у знакомых пана Маланюка, отели в Торонто мне не по карману. Я лишь на минутку.– Он нажал кнопку у приземистых дверей подъезда, они открылись и тут же мягко, бесшумно, словно полы пальто, запахнулись.
Не успел я напоить соком Юнь, как Семен навис над нами своей высокой нескладной фигурой, сунул моей внучке австралийскую коробочку с леденцами, украшенную ярко-оранжевым кенгуру, и мы двинулись в сторону моей улицы.
Дома я прежде всего накормил Юнь, уложил ее спать, включив ей телевизор, затем, приготовив бутерброды и кофе, пригласил Семена в свой кабинет-мастерскую.
– У-у-у, это я покупаю сразу,– едва переступив порог комнаты и увидев мой портрет Шевченко и подаренную мне Джеммой картину, загорелся гость.
– Пусть пан Моква меня извинит,– ответил я,– но эти картины я не могу уступить. Пейзаж – подарок дочери, а портрет Кобзаря я писал для себя; он уже много лет висит на этой стене, и я не представляю себе мой дом без него. Но у меня есть еще один портрет, чуть потемнее, когда-то еще по молодости и по наивности я вздумал написать Тараса как икону, а когда написал, то подумал: а как бы отнесся к этому сам Шевченко? Думаю, не одобрил бы. Для меня он бог, но сам Тарас не очень-то жаловал разные божества и не хотел бы, чтобы из него делали икону.
Я нашел это полотно и показал Семену: картина ему понравилась.
– У меня уже есть два портрета Шевченко,– сказал он,– но это будет самый лучший. Пан Курчак, дорого за него возьмет?
Я вздохнул.
– Признаться, мне с ним не хотелось бы расставаться, все же память о моей молодости, но...
И я стал рассуждать вслух, высказывая то, о чем постоянно думал, не стесняясь этого понравившегося мне человека:
– Кому он будет нужен после того, как меня не станет? Будет валяться где-нибудь в пыли или продан по дешевке. Я вам дарю этот портрет, пан Моква.
– О, что вы, это так щедро! – Семен вдруг, словно вспомнил, что у него в боковом кармане пиджака бутылка виски, быстро вынул ее и стал отвинчивать пробку. Руки у него дрожали. Я подумал, что это от волнения, но когда он налил мне и себе и, сказав «за вас и за вашу щедрость», поспешно выпил, забыв даже спросить содовой, я понял, что виски для Семена – одна из главных целей в жизни, он, видимо, уже давно пристрастился к нему, оттого и лицо у него такое, и какой-то виноватый, робкий вид. Он поставил рюмку, зажмурил глаза и повторил: – Это очень щедро, спасибо вам. Я повешу этот портрет на самом видном месте.– Налил себе еще и спохватился, увидев мою нетронутую рюмку.– А вы?
– Спасибо, я не пью,– ответил я.
– В таком случае...– Семен с сожалением поставил рюмку на стол.
– Я, пан Моква, когда-то хорошо выпивал,– солгал я,– а теперь нельзя. Но друзья мои уже привыкли к тому, что я трезвенник, и пьют, сидя со мной, сами. Мне хотелось бы и вас с сегодняшнего дня причислить к моим друзьям, так что не стесняйтесь, пейте, пожалуйста.
Семен не заставил себя долго уговаривать, пил, смотрел мои картины. Ему все нравилось. Между делом мы расспрашивали друг о друге. Оказалось,– для меня это было совершенно неожиданным,– что Семен моложе меня почти на десять лет, выглядел он, конечно, намного старше своего возраста. Рассказывал довольно неохотно об Австралии, о ее душистых эвкалиптах и прочем, и тут я, спохватившись, спросил его о музее – как я мог не поинтересоваться этим с самого начала! – почему он назвал в честь матери «Оксаной»? Семен долго молчал, пил, хмелея, бугристое лицо его наливалось тугой, как раскаленное железо, краской, а глаза становились все печальнее. Наконец он рассказал мне свою историю. Я ее записал, вот она.
...Семена забрали в Германию на работы из Кременецкого района; был он хилым пареньком, но роста высокого, поэтому и выглядел старше своих лет, вот и загребли его еще несовершеннолетним. Мать в слезы, к полиции, в комендатуру – ни в какую! Смеялись – в дороге доспеет! «Возьмите лучше меня, я молодая и сильная»,– говорила мать. Забрали и ее, взяли обоих. В Германии их определили к бауэру, они были рады – хоть и рабы, но вместе. Относились хозяева к ним, как и к рабочей скотине, разве что скотину лучше кормили да она меньше работала, но все же как-то жили, с голоду не умерли и вконец не надорвались. Через два года пришли американцы, мать и сын попали в лагерь для перемещенных лиц, а там началась агитация: всех, кто работал на немцев, сошлют в Сибирь, кто же останется здесь, обещали отправить в свободный мир, где, по словам агитаторов, земной рай и благодать. Некоторые поверили, в их числе были Семен и его мать Оксана. Так, после тяжелого плавания через океан, они очутились в Австралии, в чужой, но прекрасной стране, где призрачно синеют покрытые маревом вечной зелени горы, где чист и прозрачен воздух, напоенный теплым дыханием океана, где всегда улыбчивы и приветливы люди, нет голода и, главное, никогда не было войн. Здесь вы будете счастливы, сказали им в Австралии, как счастлив весь австралийский народ, вы забудете ужасы войны, станете такими же, как и мы, беззаботными и веселыми.
И действительно, Семен и Оксана видели вокруг себя только приятное, никто не оскорблял их, относились к ним приязненно и по-доброму. Это наполнило душу Оксаны чувством благодарности и радости, наконец-то она обрела покой, которого до этого не знала, покой для себя и для своего сына Семена, из-за которого, собственно, и попала сюда. И по ночам, молясь богу, она благодарила его за это.
Затем пришлось изучать английский язык в лагере для эмигрантов, проходить медицинские комиссии, где определяли, кого и на какую работу направить. Семена и ребят, что помоложе, назначили в Квинсленд рубить сахарный тростник, а Оксану послали в Мельбурн в дом для престарелых – присматривать за немощными стариками. И тут Оксану охватил страх: как же это их разлучают, ведь она и на каторгу в Германию ехала только затем, чтобы быть вместе с сыном, не бросать его одного, а теперь, когда все так хорошо, снова эта насильственная разлука. Сколько она обегала разных чиновников, умоляя не разлучать ее с сыном, просила и ее послать в Квинсленд, согласна была на любую работу, но ни просьбы, ни слезы не смягчили сердца чиновников.
Жестокое решение разлучить ее с сыном внезапно оборвало душевное равновесие Оксаны, установившееся в первые дни пребывания в Австралии, ее снова охватила печаль, предчувствие какой-то большой беды. Радость Семена от того, что он едет на работу, где двойная плата, что он заработает много денег и скоро вернется к маме, в Мельбурн, где они купят себе домик, не уменьшало Оксаниного горя и страха, потому что мать словно чувствовала, что это не к добру. И когда сына увозил автобус, единственного родного, самого дорогого ей человека в этом далеком чужом мире, Оксана горько рыдала.
В Мельбурне ее встретили работодатели и патронесса дома престарелых, встретили приветливо, патронесса даже посадила Оксану в свою машину, а по приезде на место предоставила ей чистенькую комнату на двоих, познакомила с сослуживцами, которые тоже были вежливы и доброжелательны. Все произвело хорошее впечатление, за исключением одного – вида пациентов и запаха в палатах, который с первых же часов стал преследовать Оксану, устрашал ее смертельным смрадом и разложением. На следующий день она в качестве помощницы медицинской сестры пришла в палату, где должна была работать. Там было шестьдесят пять мужчин, на всех них – одна медсестра и две помощницы. Нужно было снимать одеяла и мыть пациентов. От вида их гниющих от пролежней тел Оксана потеряла сознание. Когда на свежем воздухе она пришла в себя, то категорически заявила, что этой работы выполнять не может, пусть ей дают какую угодно, самую трудную, но только не эту работу. Но напрасны были ее слезы и просьба; ей показали контракт, который она подписала,– два года работать там, куда ее назначат. Заступиться за нее было некому, единственный ее сын был от нее далеко. И Оксана смирилась. Проходили дни, месяцы, Оксана стала привыкать к этим несчастным людям, страдальцам и мученикам. Обмывала мертвых, ходила за полуживыми, иногда сама на больничной тележке отвозила в морг трупы.
Как-то у одного пациента случился сердечный приступ, медсестра, вместо того, чтобы дать ему укол или какие-нибудь спасительные таблетки, позвала священника. Оксана спросила: почему медсестра не стала помогать больному, и та ответила – он пришел сюда умирать, что на его место стоит очередь из сотни желающих попасть в это заведение. Так Оксана перестала верить милым улыбкам и патронессы, и сослуживцев. Обо всем этом она написала Семену подробное письмо. Сын, как всегда, ответил нескоро. Семен стал писать ей все реже и реже, он уже имел девушку и собирался на ней жениться. На его возвращение в Мельбурн было мало надежды. Оксана все ждала, что сын вызовет ее на свадьбу, а там она найдет себе работу и будет рядом с ним. Но этого не произошло. Семен вдруг сообщил, что уже женат, родители жены купили им в кредит дом, и молодожены счастливы. Так внезапно разбились Оксанины мечты приобрести свой собственный домик и жить вместе с сыном. Из писем она поняла, что он не хочет, чтобы мать приезжала даже в гости, сын стыдился матери.
Оксана была гордой женщиной; после такого унижения она очень изменилась, никому больше не говорила, что у нее есть сын, который ждет ее, замкнулась в себе и с тех пор никто не видел, чтобы она улыбалась. В свободное от работы время Оксана уединялась и в слезах выливала свое горе.
Вскоре ее контракт кончился; она оставила тяжелую работу в доме для престарелых и поступила на фабрику, сняла комнату в доме одинокой вдовы. Переписка с сыном прекратилась. Лишь как-то Семен сообщил, что стал отцом, а она бабушкой – у него родился сын. Но в письме даже не было и намека, чтобы Оксана приехала на крестины и посмотрела на своего внука. Теперь она окончательно убедилась в том, что потеряла сына безвозвратно. Она стала часто ходить в церковь, молилась за Семена и за внука, прося у бога для них здоровья и долгих лет жизни. Сама же все больше сдавала, худела, переживая свое горе. Все это видела ее хозяйка. Как-то она сказала Оксане:
– Перестань себя изводить! Ты имеешь одного сына, который живет со своей семьей далеко отсюда, а у меня трое женатых детей в Мельбурне, и они не приходят меня проведать, лишь присылают к праздникам поздравительные открытки; они сердятся на меня за то, что я не захотела продать свой дом и поделить между ними деньги, а сама пойти доживать свой век в доме для престарелых. Были у меня дети, мы с мужем столько трудились, чтобы вывести их в люди, а теперь они торопятся отправить меня в богадельню или же на кладбище. Есть у меня дети и нет у меня детей. Говорят, что все повторяется,– нашим детям отомстят за нас наши внуки. Я верю, что так оно и будет.
Оксана часто задумывалась над словами хозяйки. Что все-таки стало причиной отчуждения сына? А потом, наблюдая за жизнью других австралийцев, поняла, что семейная мораль и этика у них совершенно отличается от морали украинцев. Это сказалось и на поведении ее сына. Свои мысли она изложила в своем последнем письме Семену. Однажды хозяйка заметила, что вот уже третий день Оксана не выходит из комнаты. Вызвала полицию, выломали дверь и увидели Оксану мертвой.
Семен получил полицейское уведомление о смерти матери, показал его жене, но та решительно заявила:
– Чего нюни распустил! Умерла, значит, надо немедленно ехать, а то полиция все приберет к рукам.
Им открыла хозяйка, у которой жила Оксана, узнав, кто они, она окинула их недобрым взглядом, коротко бросила:
– Идите в полицию!
В полиции им показали вещи покойной и банковую книжку, где после отчисления на похороны осталось около четырехсот фунтов. Открыли чемодан покойницы, сверху лежал портрет Семена, на нем надпись: «Сын мой, все тебе прощаю». И только тогда Семен разрыдался, все повторял и повторял на родном языке слова, которых никто из присутствующих не мог понять:
– Лучше бы ты меня прокляла!..
Семен заплакал, я поначалу подумал было, что это пьяные слезы, но вдруг увидел – Моква трезв, наверное, так отрезвляюще на него подействовало то, о чем он сейчас рассказал. Он снова выпил и замолчал.
Молчание для меня было болезненно тягостным, я не вытерпел и спросил:
– Что же было дальше? И как возник музей?
Семен опять слегка захмелел.
– Что было дальше? Дальше все повторилось, как и у меня с матерью... Бог наказал меня и не дал нам счастья. Сын нам радости не принес, он любил деньги, но не желал ни учиться, ни работать; в девятнадцать лет поступил в наемные войска, стал командос и погиб на каких-то островах, усмиряя туземцев. Жена не вынесла горя и вскоре умерла. Позже я перевез прах матери и захоронил урну рядом с ними, теперь они все вместе, я и себе купил там место. Остался один, и у меня появилась масса свободного времени. Остались и сбережения – матери, жены, мои, кое-что получил и за сына. Все думал, какой бы памятник поставить матери, перед которой моя вина, как вечная рана,– никогда не заживала. И решил поменять свой дом на меньший, прибавить эти деньги к тем, которые у меня были, и построить дом для бедных; мать не возражала бы против такого решения – она мечтала о своем домике. Так я и сделал, назвал этот приют в память о матери «Оксаной». Желающих жить в нем нашлось немало; принимал я туда в основном стариков и убогих. Но вскоре они превратили новенький дом в настоящий хлев, даже зайти туда было страшно – старики постоянно ссорились, кому из них убирать. Не мне же, в конце концов, вывозить после них грязь. Жила там одна украинка, древняя бабуся с Полтавщины. Она уже сама не помнила, как очутилась в Австралии, но язык свой не забыла, вышивала на полотне и шелке украинские узоры с петушками, вешала рушники на окна и просила, чтобы, когда она умрет, рушники так и остались, как память о ней. И тут у меня и родилась мысль – собирать в этот домик все, что связано с Украиной. Я даже решился съездить туристом на свою родину; никого из тех, кого я помнил, в живых уже не застал, привез оттуда сувениры и недорогие пейзажи, коврики, книжки и комок родной земли с того места, где стояла хата, в которой я родился. Когда вернулся в Австралию, в Квинсленд, мой дом пришел в еще большее запустение; к тому же вызвали меня в полицию и сказали, что за время моего отсутствия там произошла драка и едва не случился пожар. Тогда я и решил расстаться со своими бесплатными жильцами, вычистил дом, отремонтировал его, развесил на стенах сувениры, рушники и дал объявление в нашу газету о том, что музей «Оксана» принимает и покупает старинные украинские вещи. Немного людей откликнулось, но все же смотришь – и придет кто-нибудь, посмотрит экспонаты и что-нибудь подбросит. Я уже договорился с местным украинским товариществом, что после моей смерти все завещаю им, пусть «Оксана» продолжает жить и здравствовать,– закончил свой рассказ Семен и вновь стал осматривать мои картины.
Я сказал ему:
– Пан Моква, все что вы отберете, я дарю вашей «Оксане».
– Бесплатно? – даже растерялся Семен.
– А разве дарят за деньги?
18.
Вернувшись из соседней боевки, я застал у себя в землянке Петра Стаха.
– Я жду тебя,– сказал он.– Поехали.
– Куда? И чего это ты мне приказываешь? – резко ответил я; был усталый, голодный, поэтому не мог сдержать раздражения, тем более что к Петру относился все с большей неприязнью.
– Никто тебе не приказывает, я просто предлагаю, не хочешь, не надо,– спокойно проговорил Стах и усмехнулся.– Есть тут, правда, кое-что не очень приятное, но полезное для тебя.
– Вечно у тебя неприятное,– проворчал я.– Дай с дороги хоть умыться да что-нибудь в рот взять.
Я умылся, вынул свою пахнувшую хлебом торбу, отломил от паляницы краюшку, натер ее чесноком, нарезал сала, кивнул Петру:
– Присаживайся к столу.
Петро отложил на топчан мою брошюру, которую просматривал, ожидая меня:
– Благодарствую, только от стола, а чарку б выпил.
– Возьми там, в миснике,– кивнул я на стенку у входа; этот полуобгоревший мисник принесли мне ребята, нашли где-то на пепелище,– как-никак – все же домашняя мебель, где можно хранить ложки и миски, туда свободно становились и бутылки, которые тоже приносили мне хлопцы, а потом сами же их и выпивали.
Петро достал бутылку и стакан, налил, протянул стакан в мою сторону, как бы чокаясь со мной, и я по его глазам заметил, что он уже выпил до этого, причем – выпил хорошо, да и не мог он обедать не выпивши, это было бы неестественно, в боевках пили все, таких как я, насчитывались единицы.
– Ну, будь,– поспешно сказал он и опрокинул стакан; закурил немецкую сигарету; лицо его подобрело. Он курил и глядел на меня так, точно хотел в чем-то открыться мне и не решался. Наконец проговорил:
– А может, тебе не надо ехать? Лучше потом узнаешь.
– Что там еще такое? – встревоженно подхватился я с места.– Не с моими ли что-нибудь случилось?
– А кто это «твои»? – На лице Стаха снова проступила обычная, не покидавшая его никогда злоба, он даже повысил голос: – Кто это «твои»?
– Галя и сын! – выкрикнул я.– Чего томишь, чего тянешь, говори, что с ними!
Петро пьяно рассмеялся.
– Только-то и твоих. Да с ними ничего, с ними все нормально; тех твоих оберегают и наши, и поляки. Я о другом. Ну, поехали, за тем я и пришел,– решительно поднялся Стах.
У землянки уже стояла запряженная в линейку смирная Стахова кобыла – белая, в рыжеватых яблоках; он ездил на ней и верхом, и в упряжке. Встретивший нас в центре лагеря Вапнярский, кивнул мне, здороваясь, и тут же отвел глаза; не спросил, куда мы едем, наверное, знал; не спросил я об этом и у Стаха, хоть и терзался от недоброго предчувствия.
Ехали мы узкой, с едва проступавшей колеей лесной дорогой в сторону нашего села. Километров пять не доезжая, свернули из чащобы влево, где открылась поляна с картофельным огородом, аккуратными грядками, яблоневым садом и добротным деревянным домом под черепичной крышей; все говорило о том, что здесь живет крепкий рачительный хозяин. Я тут никогда раньше не был, но догадался – дом этот лесника Омельяна Вострия, которого я знал как человека серьезного, строго оберегавшего лес и безоглядно следовавшего всем законам и распоряжениям начальства. Жил он один, жена умерла, а дети работали где-то в Луцке.
– Хороший хозяин, и сад у него лучший из тех, какие мне приходилось видеть в наших местах,– подавляя в себе сосущее предчувствие чего-то злого и жестокого (а что еще можно было ожидать от Стаха и его эсбистов?) сказал я.– Говорят, у него на грушах растут какие-то необычные плоды.
– Про груши – то правда,– прыснул неожиданно смехом Петро.– Сейчас увидишь этот плод.
Пока мы подъезжали, я рассмотрел лишь около десятка вояк, сидевших прямо на земле в тени под хатой.
– А вот тебе и груша,– ткнул куда-то в сторону кнутовищем Петро.
Я вгляделся, увидел высокую грушу, положившую тяжелые ветки на крышу дома, что-то в ней действительно было необычное, что-то висело, большое и белое. И вдруг я словно прозрел – на груше висел Омельян Вострий, белобородый, белолицый, в нижнем белье и с большими белыми ступнями, неестественно вытянувшимися вниз, до самой земли.
– За что его? – спросил я.
– А сейчас узнаешь...
Стах подмигнул хлопцам, неохотно поднявшимися при нашем появлении. Они почему-то посмотрели на меня с наглостью и, толкнув плечом дверь, пропустили вперед. Первым я увидел Юрка; он лежал на доливке, связанный ременными вожжами, словно наспех неумело опутанный ими от плеч до огромных гулливеровских сапог; лицо в кровоподтеках. Когда мы вошли, он дернулся и, выкрикивая матерные ругательства, забился в бессильной злобе. Я не мог оторвать от него взгляда и ничего не понимал.
– Да ты не на него гляди, на красавца, а туда вон, туда,– кивком показал мне Петро на деревянный пол за печью.
Там, на крестьянских нарах, где было зачато и родилось не одно поколение, я поначалу увидел какое-то окровавленное тряпье, потом на нем резко вдруг выделившееся женское тело, тоже все в крови, бесстыже оголенное, в ошметках короткой рубашки. Глаза женщины были широко раскрыты, губы шевелились, будто бы она что-то беззвучно говорила. С трудом я узнал в ней Симу Бронштейн.
– Зачем же вы ее так? – только и смог выговорить я.
– Это мои хлопцы решили твоей жидовке отпустить последнее удовольствие на этом свете, да видишь, с усердия и долгого воздержания перестарались. Дзяйло хоть и здоровый, но в деле оказался мужиком негодным, в девках она у него оставалась, а теперь все как надо, исправили,– весело говорил Петро.– Прямо при нем, у него на глазах, чтоб поучился!..
За спиной у меня раздался гогот. Я обернулся, у порога стояло несколько хлопцев Стаха, двое из них были из нашего села, приятели Юрка; они еще недавно ходили в школу, привыкли к учителям относиться с уважением, не раз почтительно кланялись, встретив на улице Симу Бронштейн, учившую их сестер и братьев. Откуда же у этих селюков такая дремучая жестокость? Думал ли я в те минуты об этом – не знаю, скорее всего, ни о чем не думал, пронизанный болью увиденного и чувствуя неимоверный стыд за этих стоящих у порога хлопцев, которых и людьми недостойно назвать.
– Ну, а ты жить хочешь? – Петро ткнул сапогом в лицо Юрка.– Или и тебя повесить рядом с Омельяном? Закон для всех один: за укрывательство жидов – смерть. Но мы ценим твои старые заслуги. Повторяю: жить хочешь?
– Хочу,– хрипло выдохнул Юрко.
– Развяжи его,– приказал Петро.– Верните ему оружие, пусть пристрелит ее, чтоб не мучилась, хватит с нее и с него тоже.
Уже во дворе, куда мы вышли со Стахом, я услышал тугой короткий выстрел; тут же из дома показался Юрко; тяжело, точно на ногах у него были гири, он подошел к Стаху, медленно стал поднимать руку с немецким кольтом. Мне показалось, что он сейчас пальнет в Петра,– а может, не казалось, а так мне хотелось? – но Юрко отдавал пистолет Стаху.
– Да это же твой, береги его, дурачок, он еще тебе пригодится для москалей и большевиков.– Сказано это было почти по-отцовски, ласково. Петро поправил свою шапку, еще больше оттопырив уши,– этим жестом он выражал свою решительность и непреклонность,– и сказал с обычной жестокостью: – Так вот, хлопцы, наш пан куренной Вапнярский за провину прогнал от себя своего бывшего телохранителя Юрка Дзяйло и отдал его на суд нам. Мы даруем ему жизнь и берем к себе на перевоспитание. Согласны?
– Согласны,– дружно ответили хлопцы.
До сих пор не могу понять: почему после всего, что сделали с ним и его любовью, Юрко не ушел от нас, наоборот, со временем еще больше привязался, стал одним из самых жестоких эсбистов, сохранил преданность Вапнярскому? Что это – трусость? Нет, Юрко не был трусом. Просто, как мне думается, ему некуда было идти, связала нас одна веревочка, и таких, как он, было немало. Много позже он мне признался: Сима была для него самым чистым и святым в его грешной жестокой жизни, но ее растоптали, и после этого он уже никого не щадил.
Как же все-таки была обнаружена у лесника Сима, которая прожила у него почти два года? Заподозрил Юрка Вапнярский. Правда, куренной не мог даже предположить, что, отлучаясь, тот ходил на свидание к Симе. Вапнярский с помощью Стаха установил, что к себе в село Юрко не ходит, и, главное,– никого с собой не берет, что было особенно небезопасно: лес уже кишел советскими партизанами. Потому и возникла мысль – а не к партизанам ли он ходит? Проследили и установили: ходит он к леснику, целые часы у него проводит,сидит в доме даже тогда, когда Омельян порается в саду или в огороде. Стали следить за домом, устраивали засады: может, партизанские связные навещают лесника? Нет, к Омельяну никто, кроме Юрка, не приходил, да и сам Омельян со своего хозяйства отлучался лишь для обхода леса, где тоже ни с кем не встречался. Пытались поговорить с Омельяном, оказалось, ничего подозрительного в том, что Дзяйло ходит к нему, нет; они родичи по матери, в отряде Юрку бывает скучно, а тут пасека, хозяйство, Юрко тянется к этому, вот иногда и захаживает, помогает старику. Как-то совершенно случайно зашел к Омельяну сам Вапнярский, проезжавший мимо лесничьей усадьбы. Тот, как говорится, не знал, куда посадить дорогого гостя, поставил на стол штоф с домашней водкой на меду и на калине, прочие напитки и яства, которыми и Юрка не потчевал. Собравшись уходить, Вапнярский вдруг увидел на подоконнике томик стихов Гейне со свежей закладкой – полоской из недельной давности газеты.
– Пан Омельян любит поэзию? – спросил Вапнярский у полуграмотного старика. Тот поморгал глазами, побледнел, тупо уставился на книгу.
– Может, Юрко читает?
Старик подавленно молчал.
– Ты хоть знаешь, на каком языке эта книга и кто ее написал.
– Нет,– сознался старик.
– Она написана по-немецки, пан Омельян,– сказал Вапнярский.
И тут хозяина осенило,– вспомнил, что год тому назад у него останавливался эсесовский офицер со своей свитой; офицер спал в хате, а его солдаты во дворе на сене. Омельян и рассказал об этом, как ему думалось, спасительном случае: