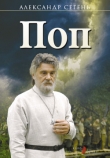Текст книги "Серая мышь"
Автор книги: Николай Омельченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Я, как бывший мельниковец, никогда не любил эту бандеровскую газету и ее писак и обычно не очень вежливо отшивал их, когда они пытались как-то вмешиваться в мою жизнь, но не хотелось в то прекрасное солнечное утро в самом начале путешествия портить себе настроение резким ответом, поэтому я обернулся и кивнул:
– Улас Курчак.
Пан Цюра, глубоко вдыхая воздух, вытирал платком мокрые глаза на еще не старом, но покрытом густой сетью морщин лице.
– Извините,– сказал он,– нервы уже не выдерживают, как услыхал на разных языках это дружное «до свидания», так и в слезы. Можно же жить в дружбе и согласии! Канада – великая страна. Ее демократия, ее отношения к национальностям может служить примером для всех стран и правительств мира. Сколько наций – и все равны.
– Нет, пожалуй, не все. Индейцы-то в резервациях. Что может быть позорнее этого.
– Ну, знаете, вы словно лишь вчера приехали сюда... Их же нельзя пускать в город в порядочное общество – работать не хотят, все пьяницы!
– В Штатах не меньше наций, чем у нас,– вмешалась в наш разговор Калина.
– Но там негры, негры! Штаты не могут решить негритянскую проблему. А как ее решить? Тоже бездельники, тоже не хотят ни работать, ни учиться, а жить стремятся сладко,– сладко есть, сладко пить, любить красивых женщин. Среди них самая высокая преступность: все они воры и гангстеры. Нет, их с другими уравнивать нельзя, вредная нация,– тараторил пан Цюра.– Вот и выходит, что только у нас, в Канаде, нации равны и свободны.
– А еще в Советском Союзе,– произнес я, подмигнув заговорщицки Калине и сдерживая смех от предвкушения бешенства, которое сейчас разразится у меня за спиной.
– А-а-а, теперь я вспомнил, где я о вас слышал, пан Курчак! Вы же красный! Сначала были с нами, потом водились с мельниковцами, а теперь – с красными! – на весь автобус кричал пан Цюра. На него оглядывались, посматривали и на нас, но сразу же успокаивались, видя, что мы с Калиной улыбаемся; о чем кричал этот человечек с морщинистым лицом присутствующие не понимали, кроме нас, тут никто не знал украинского языка.– Вспомнил, вспомнил, вы были другом пана Вапнярского, он, говорят, тоже под конец жизни стал красным и поэтому плохо кончил!
– Пан Цюра, наверное, забыл, что он в туристском автобусе, а не у себя в газете,– заметил я, не в силах удержать нового прилива смеха. Смеялся я оттого, что этот бандеровец назвал Вапнярского-Бошика красным. Услышал бы его покойный Богдан, царствие ему небесное!
Пан Цюра умолк, а мы с Калиной говорили о своих делах и вскоре позабыли о нем. Мы ехали в направлении Гамильтона. Впереди нашего автобуса, скорее для престижности такой необычной экскурсии, двигалась полицейская машина с приветливым полицейским; она должна была нас сопровождать до самого конца поездки. Вскоре мы подкатили к воротам королевского ботанического городка, раскинувшегося на двух тысячах акрах между Гамильтоном и Ниагара-Фолс; вышли из автобуса, разбрелись в разные стороны. Мы с Калиной направились к цветникам, клумбам с редкостными цветами; они нас интересовали больше всего другого благодаря нашей Джулии. Рядом в овраге росли какие-то необычные деревья. Мы с Калиной осматривали цветы и деревья и поначалу не заметили, что пан Цюра неотступно следует за нами. На деревьях мы увидели птиц, которых я раньше не встречал в Канаде; одна села на ветку прямо у нас над головой – величиной с нашу сороку, серенькая, с полосками белых перьев, с коротким хвостом, короткой толстой шеей, большой головой и сильным объемистым клювом.
– Что это за птица? – спросил я.
И тут почувствовал, что за спиной у меня стоит Цюра.
– Меня мало интересует, что это за птица,– с угрозой в голосе сказал пан Цюра,– меня больше интересует, что ты за птица и как попал на столь респектабельную экскурсию, куда отбирали лучших представителей прессы различных национальностей.
– Как попал? – небрежно усмехнулся я.– Через самого министра, моя дочь,– кивнул я на Калину,– замужем за его племянником.
Калина посмотрела на меня с шутливой укоризной и закрыла рот рукой, чтобы сдержать смех. Цюра тут же заткнулся, а я снова спросил:
– Что же все-таки это за птица?
– Австралийская кукабара,– с неожиданной угодливостью подсказал мне пан Цюра. И стал объяснять: – В Австралии кукабары охраняются законом, потому что они вылавливают змей. Когда кукабара убьет змею, она вешает ее на ветку и начинает жутко смеяться, ее смех похож на человеческий; на эти звуки слетаются другие кукабары и все вместе смеются над своей жертвой, а потом съедают ее.
Мне не хотелось прерывать пана Цюру, сказать ему, что я об этом читал, когда тот еще пешком под стол ходил; не прерывал потому, что был уверен, ежели такой человек стал, пусть и помимо твоей воли, твоим спутником, то рано или поздно его придется прерывать.
Это случилось, как только мы сели в автобус и двинулись дальше. Пан Цюра заговорил:
– Вы не сердитесь на меня, пан Курчак, я не могу не сказать вам, что слыхал о вас и много хорошего, а то, что вы ершисты, так это у вас какая-то фронда завелась, вы из тех людей, которые всегда против всех и, чтобы им ни сказали, тут же возражают. Это от нигилизма, оттого, что вы от одной веры отошли, а к другой не пристали. Вот вас и каламутит. И национальную политику москалей вы хвалите все из-за той же фронды. А я вам тихо скажу слова, с которыми вы в душе все же согласны: москали не меняются, какую политику они вели сотни лет тому назад, такую ведут и по сию пору; кто бы у них не приходил к власти – царь, Керенский, Деникин, меньшевики, большевики – политика к другим нациям всегда оставалась одна и та же: закабалять и угнетать!
– Пан Цюра, помолчите, пожалуйста, давайте лучше полюбуемся пейзажем, от него отдыхают глаза.
– Простите, простите,– угодливо проговорил наш настырный спутник и замолчал.
Мы остановились в центре Гамильтона. Тут же перед нами выросла симпатичная девушка-экскурсовод и стала заученно рассказывать о достопримечательностях города, о строительстве городской ратуши, о том, что в Гамильтоне семь больниц, двести пятьдесят церквей: итальянских, чешских, польских, украинских и других, а итальянцев в Гамильтоне больше, чем на острове Корсика. Здесь семьдесят две общины разных национальностей.
– И каждая живет своей национальной жизнью,– не утерпел и подсказал ей стоявший рядом с нами пан Цюра.– Никто не навязывает им ни своего языка, ни своей культуры, никто их не угнетает.
– Да, да,– согласно закивала экскурсовод, а пан Цюра многозначительно посмотрел на меня.
– В 1883 году,– говорила экскурсовод,– великий купец Джордж Гамильтон купил 300 акров земли, говорят, буквально за центы, поделил их на части, чтобы продать по дешевке бедным военным поселенцам под строительство домов.
– Станет купец продавать по дешевке,– скептически заметил я.
Пан Цюра услышал мои слова и согласился со мной:
– Конечно не станет, по три шкуры, наверное, драл.– И сразу же перевел разговор на другое.– А московские купцы с завоеванными народами разве не то же проделывали?
Я бросил на пана Цюру сердитый взгляд, но он сделал вид, что не заметил, и продолжал:
– А попробовали бы вы восстать, освободиться от их насильной опеки! Тот, кто пытался это сделать, познал самые нечеловеческие страдания, какие только когда-нибудь испытали люди нашей грешной земли. Я могу вам назвать все их преступления за двести-триста лет.
– Погодите, дайте послушать.
Нас завели в небольшую зальцу показать фильм об истории города и перспективах его строительства. Пока все усаживались, пан Цюра, устроившийся у меня за спиной, успел мне рассказать:
– В 1619 году русские напали на якутов, забирали все и всех, не жалели ни женщин, ни детей; в 1662 башкиры восстали против своих угнетателей, так царское правительство послало армию, уничтожали все население...
Потух свет, вспыхнул цветными красками экран, и музыка заглушила громкий шепот пана Цюры.
После фильма местные работники прессы устроили нам легкую закуску. Пана Цюру тут знали, кто-то куда-то утащил его, а когда он вернулся, от него пахло виски, морщинистые щеки зарумянились, и он уже смелее подошел к нашему столику с сэндвичами, банками с соком и кока-колой, проворно проглотил сэндвич, вскрыл банку с кока-колой, воткнул в нее соломинку и молча потягивал напиток. Думалось, что он хоть во время еды успокоится, но, торопливо высосав кока-колу, пан Цюра заговорил:
– Восстание поляков в 1830—1831 годах стоило таких жертв: пять тысяч дворов вывезено на Кавказ, двести пятьдесят студентов забрано в армию, тридцать женщин заключено в монастырь.
Объявили посадку в автобус, мы с Калиной нарочно задержались, надеялись, что пан Цюра пройдет раньше, не тут-то было,– он стоял у двери автобуса, вежливо пропустил нас вперед, и вскоре снова за спиной послышался его голос. Но мы теперь его не слушали.
Ехали к большим сталелитейным заводам Стелко и Дофаско, воздух здесь такой загазованный, что дышать нечем, и как только тут люди работают! Подумалось, вот здесь-то уж наш неотвязный спутник и рта не раскроет, поперхнется. Но нет же! В то время, как многие задавали вопросы старшему администратору завода об условиях для рабочих, а тот отвечал (правда в цеха нас не пригласили), пан Цюра буквально сидел у нас на плечах и без устали говорил:
– Начался захват Средней Азии...
Мы с Калиной уже приспособились не слушать его. А как мы обрадовались, когда попали на винный завод! Нам рассказывали о производстве вин, об их вкусовых качествах и давали пробовать; пан Цюра, хоть и был рядом, но все же молчал, затем предложили повторить дегустацию, на сей раз пить кто сколько хочет, он ушел от нас, непьющих, к таким же, как и сам, любителям спиртного, и оттуда уже доносились шутки и громкий смех.
В Ниагара-Фолс, вооружившись фотоаппаратами, мы сели в лифт и спустились в тоннель к самому водопаду. Нам выдали резиновые сапоги, плащи, прозрачный кусок мануфактуры, чтобы закрыть лицо, и мы пошли коридорами, над которыми низвергалась вода. Глядя друг на друга, мы с Калиной весело смеялись – в таком одеянии и родная мать не узнает, наконец-то пан Цюра нас не найдет! Подплыла туристская лодка, мы сели в нее и поплыли к месту низвержения водопада. Нас осыпали тучи брызг, и мы бы изрядно промокли, если бы не резиновые костюмы. Мы с Калиной уже бывали здесь, и поэтому, наверное, подземный вояж к водопаду на нас особого впечатления не произвел. Ждали вечера, когда Ниагара-Фолс выглядит гораздо живописнее.
Обедали в ресторане, на самой верхотуре башни; огляделись – пана Цюры возле нас не было – и вздохнули облегченно. Вдруг Калина спохватилась:
– О, моя сумка!
– Что? – не понял я.
– Кто-то увел мою сумку; никак, тот тип, он показался мне подозрительным.
– В ней что, военные тайны? – насмешливо спросил я.
– Нет, там более ценное: французские духи и бельгийская помада.
Приветливо улыбнувшись, Калину успокоил официант:
– Вы ее положили на окно?
– Да.
– Сейчас она к вам вернется; наша башня вращается, а столы стоят на месте.
Так и случилось, сумка вместе с подоконником «приехала» обратно, и Калина снова была весела и счастлива. После обеда женщины пошли осматривать лавки и киоски, которых тут хватало; Калина тоже устремилась за ними, а я с оставшимися туристами поехал в отель «Фоксгед Шератон», где нам вручили ключи от комнат, в которых мы могли отдохнуть до вечера.
Ужинали мы в ресторане «Квин Виктория», сели за столик, где уже сидело двое туристов, Пан Цюра увидев, что свободного места возле нас нет, досадливо крякнул и пошел дальше.
Вечерами в Ниагара-Фолс на улицах людей больше, чем днем, а мы приехали в субботу, когда по тротуарам катят целые толпы, и с ними даже нельзя разминуться, особенно у водопада. Ниагарцы не спешат рано ложиться спать, у них вечер – это день. Двенадцать часов ночи для них еще детское время, в такую пору люди только прибывают. И, глядя на эти толпы, веришь рекламе, что водопад ежегодно посещает 18 миллионов туристов. Нам с Калиной было хорошо даже среди такого множества людей. Мы забыли о пане Цюре, но ненадолго, вскоре он появился снова. Мы остановились у каменной ограды, откуда хорошо виден гигантский каскад воды, низвергающийся с огромной высоты, окрашенный разноцветными прожекторами в сказочные цвета, остановились полюбоваться вечерним водопадом и послушать, о чем рассказывала туристам женщина-гид:
– Когда-то индейцы бросали в водопад самую красивую девушку в жертву богу. В память тех красивых девушек назван корабль «Мейд оф ди Мист», который возит туристов под самый водопад, туда, где по преданию, бросали в воду несчастных.
В это время он и появился, мы почувствовали его приближение спиной, обернулись: точно, он, не торопясь, подходил к нам.
– Бросить бы его в водопад,– вздохнула Калина.
– Я бы это сделал с удовольствием,– согласился я.
– Почему-то издревле в жертву приносили только красивых и добрых людей, а злые и уродливые оставались жить и плодиться,– сказала Калина.– Неужели они такие кому-то нужны?
– Еще как нужны! – вздохнул я.
– Вы меня извините, что покинул вас,– приподнял шляпу пан Цюра,– но, оказалось, среди наших экскурсантов присутствует один мой старый недруг – коллега из русской белоэмигрантской газеты Вадим Привалов. Мы с ним всегда спорим, однажды едва не дошло до драки. Заговорил я сейчас с ним на ту же тему, что и с вами. И представьте себе, этот отпрыск мертвой царской империи до сих пор еще мыслит ее категориями. Знаете, что он сказал? Царь Петр I был великий царь для России, но он сделал ошибку, когда завоевывал прибалтийские страны. Он должен был поступить так, как сделал царь Иван с Новгородом: часть людей перебить, часть выселить, а вместо них пригласить людей с Московщины, тогда сегодня не было бы разговоров о каких-то там прибалтийских народах.
– Папа, побежали,– схватила меня за руку Калина, и от своей находчивости задорно расхохоталась; так, держась за руки, мы и бежали, толкаясь, извиняясь, вызывая у встречных изумление и чувство негодования. Но что все это было по сравнению с тем, от чего мы убегали. Признаться, я, старик, не ощутил и одышки, вероятно, победило охватившее нас счастливое чувство избавления.
– Что будем делать, как проведем дальше время?
– Пойдем, папа, спать, я так редко высыпаюсь,– призналась Калина.
– Прекрасная идея!
– А что будем делать завтра?
Пока мы стояли и раздумывали о том, как быть дальше – о, ужас! – нас догнал запыхавшийся пан Цюра, остановился рядом и спросил:
– От кого это вы так сиганули? Аж перепугали меня, я на всякий случай бросился вслед за вами... Так вот, я не договорил: теперь ошибку царя Петра I исправляют современные хозяева Кремля, которые не только выселяют и переселяют, но и уничтожают голодом, рабским трудом в концлагерях народы, и в первую очередь украинцев, ибо Украина является сегодня самой большой угрозой для коммунистической России.
– Бежим! – снова схватила меня за руку Калина.
Теперь он уже нас не догонял, очевидно, все понял и не стал больше приставать.
– Что бы ты хотела делать завтра? – отдышавшись, спросил я Калину.
– Не знаю. А как ты? Мне хорошо ничего не делать, просто побыть с тобой, это ведь так редко выпадает.
Я был тронут ее словами и обнял дочь.
– А не проведать ли нам деревушку поблизости, ферму Кардашей? Его-то уже нет в живых, а вдова еще крепится. Подышим полем и садом, попьем свежего молочка, если у нее еще сохранились коровы.
Ночевали мы в тех же номерах «Фоксгед Шератон». Поутру я тихо разбудил Калину и мы, незамеченные другими экскурсантами, покинули отель, взяли такси и поехали в деревушку. Там нас у покосившихся стареньких ворот встретила Мария Кардаш, еще крепенькая, с розовато-смуглым лицом женщина в обношенном клетчатом, видно, мужнином пиджачишке, поохала, поахала, вспомнив о покойном муже, как он радовался, когда к нему заезжали его городские земляки, и пригласила в дом. Она только что подоила коров и угостила нас парным молоком с домашними хлебцами. Канадская жизнь и нравы еще не выветрили из нее украинского хлебосольства, она принялась чистить овощи, чтобы приготовить борщ, сновала по кухне и огороду, во всем хотела нам угодить. Наконец, когда на широкой газовой плите уже кипело и жарилось, Мария присела к нам, стала расспрашивать нас о жизни и тут же рассказывать о себе, то и дело выбегала на кухню и в огород – все у нее спорилось. Жаловалась на свою жизнь:
– Осталась я одна, дети вылетели из гнезда, живут в городах, никто не хочет работать на земле. Я не обижаюсь на них, но в душе все же попрекаю, что ж это выходит? Наши деды своими руками корчевали землю, поливали ее слезами и потом, все вокруг понастроили и понасажали, а внуки не хотят работать на готовом, бегут, разбегаются, бросают могилы своих предков. Да если бы только это! – горестно вздыхала Мария.– А то вроде бы я совсем чужая для их жен и детей. Раз в год приедут на день-два, женушки их лопочут только по-английски, внуки не знают и слова по-украински...
Я слушал ее и думал: а есть ли семья, в которой не было бы хоть малой печали, причиненной детьми? У меня в этом отношении вроде бы все благополучно, а вот Мария доживала горько и одиноко свой век.
– Выходит, что не надо было жить, рожать и растить детей,– говорила она.– Лучше бы я голодала, а то ведь нет – сыта, не больна, есть дети, внуки, все живут и я живу, а жизни почему-то нет. Почему, Улас?
Мария по деревенской привычке рано ушла спать, а мы с Калиной сидели на скамеечке в саду, она вспоминала о том индейском мальчике, который ушел в воду Ниагара-Фолс. Около полуночи мы отправились в отведенную нам комнату; перины и подушки на старых пружинных кроватях были такие высокие и мягкие, что мы с Калиной сразу же утонули в них; так когда-то спали на Украине. Моей дочери эта постель была до смешного непривычна.
– Ау, папа! – позвала меня она, рассмеялась и под этот смех мгновенно уснула. А ко мне сон не шел, я думал о прошлом, мысли мои были липки, как патока, меня тянуло снова к моим записям, к столу; не позабыл ли я чего, не пропустил ли, понадеявшись только на свои записи? Ведь в них очень многого не было, записывать все в то время значило выносить самому себе смертный приговор; привести в исполнение его мог кто угодно – наши, поляки, советские партизаны, немцы, власовцы, красноармейцы, а позже и американцы. А мне нужно описать еще многое, я ведь еще не дошел и до середины своего рассказа.
После обильного обеда с луком и чесноком захотелось пить; я поднялся, прошел на кухню, достал из холодильника хлебный квас, издавна традиционный напиток в доме Кардашей, с наслаждением утолил жажду и вдруг понял, что не смогу заснуть. Дома в таких случаях я брал первую попавшуюся книгу и читал. В этом доме книг не было. На подоконнике я все же заметил какой-то том в плотной обложке из кожзаменителя, в таких обложках обычно выпускают дешевые библии; но это оказался старый толстый блокнот. На пожелтевших от времени страницах стояли неуверенно написанные столбики цифр, по всей видимости, хозяйка вела в нем какие-то счета. Хотел было положить блокнот на место, но вид бумаги и шариковая ручка, валявшаяся рядом на подоконнике, возбудили у меня острое желание писать. Я вырвал из блокнота десяток листов, уселся за стол и стал излагать на бумаге свои мысли. Чем больше я писал, тем больше мне вспоминалось...
21.
Хотелось начать главу так: я не в силах обо всем рассказать, мой рассказ – всего лишь бледное отражение той жестокости, которую мне довелось увидеть; действительность была несравненно жестче, кровавей и преступней!
Когда я думаю об этом, мне не сразу вспоминаются убийства и казни, прежде всего видится Богдан Вапнярский-Бошик в его бытность куренным. Землянка; несмотря на декабрьский морозец, дверь приоткрыта, за ней слышен его голос – мягкий раскатистый баритон. Задерживаясь у двери, я пытаюсь определить, с кем он там, в землянке, разговаривает и стоит ли мне заходить к нему; наедине со мной Вапнярский благосклоннее ко мне, я бы даже сказал – добрее. Но вдруг понимаю, что он там один. Заглядываю в щель: Вапнярский стоит у большого зеркала, единственного, кажется, на всю нашу армию,– одна рука заложена за спину, другая протянута вперед, голова высоко поднята.
– Други мои! – говорит Вапнярский.– Вельмышановне панство! Всегда помните о достоинствах своей нации, о величии своего народа, помните, что мы, украинцы,– помазанники божьи, родоначальники Древнерусского государства, его культуры и быта! – Вапнярский произносит эти слова торжественно и велеречиво, затем прокашливается – голос его несколько хрипл, мягкий раскатистый баритон вдруг срывается на тенорок и Вапнярский, прокашлявшись, повторяет: – Панове!
К землянке приближаются трое – Стах, Юрко и Славко Говор, единственный в отряде снайпер. Я поспешно толкаю дверь и вхожу, а то еще Стах подумает, что я тут подслушиваю.
– Слава Украине! – провозглашаю я.
– Слава! – хмурится Вапнярский, отворачивается от зеркала и вопросительно смотрит на меня: по какому делу пожаловал? Входят и те трое. Только теперь я замечаю, что у Славка лицо в кровоподтеках, окровавленная рубашка и наполненные страхом глаза.
– Вот, еще один красень,– говорит Стах, поправляя свою шапку и подталкивая вперед Славка.– Во-первых, скрыл, что был в комсомоле...
– И недели не пробыл, за пять дней до начала войны вступил, всё вступали, и я...– торопливо перебивает его Славко с отчаянием в голосе.
Вапнярский сокрушенно кивает массивной головой и скорбно произносит:
– А если все будут избивать родного отца, продавать свой народ – и ты туда же?..
– Не продавал я, на коленях могу поклясться!..
– Во-вторых,– бесстрастным голосом судьи продолжает Стах,– скрыл, что его отец, старший брат и дядя служат в Красной Армии.
– Так разве ж я виноват в этом? – со слезами оправдывается Славко.
– Что же нам делать с этим «Ворошиловским стрелком»? – нетерпеливо спрашивает Петро.
Стах редко приводил к Вапнярскому тех, кто по его мнению начальника службы безопасности заслуживал смерти, обычно он сам решал их судьбу. Но Славко считался особо отличившимся в курене. Как-то наши обстреляли из засады «виллис» с командирами Красной Армии. Машина остановилась, из нее высыпали военные и залегли в кювете. Славко потом не раз рассказывал с веселым бахвальством:
– Смотрю, а у одного красные лампасы! Бог ты мой,– генерал! Не стрелять, хлопцы, кричу я, дайте хорошо прицелиться, я ведь значок «Ворошиловского стрелка» имею! И только – бах! Генерала аж подбросило, больше он уже не двигался.
Тогда Вапнярский перед строем расцеловал Славка. Поэтому Стах и не решился сам выносить ему приговор, а привел Говора сюда.
– Так что? – снова спросил Петро.
Вапнярский в тех случаях, когда к нему приводили на суд, не говорил – «расстрелять» и «повесить». Богдан Вапнярский-Бошик, сидел ли он в тот момент, стоял ли, лежал – весь выпрямлялся, лицо его становилось торжественно-скорбным, а угольно-черные, по-девичьи длинные, будто приклеенные ресницы несколько мгновений неподвижно зависали над серыми глазами и затем резко опускались. Это означало – смертный приговор. Форма исполнения его зависела от настроения и фантазии палачей. Славка удавили. Я видел в щель двери, которая еще не успела закрыться, как Юрко мгновенным, едва заметным движением накинул на шею Славка удавку, и тот и охнуть не успел.
В тот день Вапнярский был не в настроении. Когда Стах хотел уйти следом за Юрком, он остановил его, некоторое время неприязненно, даже с брезгливостью смотрел на своего начальника службы безопасности, а потом, словно вспомнив, зачем задержал его, стал укорять Стаха в том, что последние операции проводятся недостаточно конспиративно и чисто.
– Например? – нахмурился Стах, и его большие уши, оттопыренные шапкой, стали пунцовыми; это был признак крайней сердитости Стаха.
– Например, последняя, в селе Оса. По всей Волыни, как огонь по стрехе, полетел слух, что УПА в селе Оса вырезала шестьдесят дворов.
– Мне как начальнику службы безопасности наша ОУН дала тайное указание об уничтожении всех, в том числе и украинцев, которые даже в самой малой мере проявили отрицательное отношение к ОУН – УПА. Сюда мы зачисляем не только тех, кто в той или иной мере помогал советским и польским партизанам, но и тех, чьи близкие или дальние родичи были в отрядах у Советов или в частях Красной Армии.
– Ты только получил указание, а я один из тех, кто его составлял,– с плохо скрываемым раздражением говорил Вапнярский.– Но мы сделали одно непростительное упущение, в примечании следовало сделать приписку: «Дуракам еще раз напоминаем, что эти акции необходимо проводить при соблюдении крайней конспирации».
– Мы старались так и делать,– подавленно, но все с той же злобой отвечал Петро.– Без криков и паники уводили их из села, собирали в одно место, самих заставляли рыть себе могилу, проводили экзекуцию, после чего сразу же закапывали трупы, чтобы их не хоронили сердобольные людишки. Короче, действовали, строго соблюдая конспирацию.
Вапнярский молча отвернулся; это значило, что разговор закончен. Но Стах не собирался уходить, он заговорил теперь со своей обычной нагловатой усмешкой в голосе, как разговаривал несколько минут тому назад со Славком.
– Есть и распоряжение, о котором ты, друже командир, тоже не можешь не знать: об уничтожении всех ненадежных у нас в отрядах и тех, кто имел с ними какие-нибудь связи...
– У меня есть это письмо; его опять-таки следует исполнять с головой. Надо всегда помнить, что мы делаем историю, и что бы с нами ни случилось, благодарные потомки не должны нас ни за что осуждать.
– Да, да, друже командир, в письме особо подчеркивается, что все надо решать совместно с военными референтами и референтами службы безопасности,– подчеркнул Стах. Он достал из немецкой планшетки, висевшей у него на боку, густо исписанную бумагу и продолжал: – Тщательно проверить все боевые отделы и очистить их от ненадежного элемента. Я уже составил списки; включил в них всех восточников, невзирая на их национальность и функции, которые они у нас выполняли...
– И опять же,– вставил Вапнярский,– в секретной инструкции подчеркивается: «Ликвидацию проводить как можно более конспиративно».
Стах протянул бумагу Вапнярскому.
– Не надо,– поморщился куренной,– я тебе верю и вполне согласен с тобой. После... уничтожишь эти бумажки, они никому не нужны.
Стах согласно кивнул и вышел.
– Человечек такого маленького росточка, а сколько в нем жестокости,– печально изрек Вапнярский.
– Там есть двое из моей школы, бывшие военнопленные, они честно на нас работали,– попытался я вступиться за Лопату и Чепиля.
– Восточники?
– Да, с восточной Украины. Чистокровные украинцы.
– Не лезь, Улас, не в свое дело.
Я хотел разыскать обреченных; особенно жаль было Лопату, который так надеялся на встречу с семьей, надо предупредить его, пока приговоренных не взяли под стражу, можно еще куда-то бежать, но Вапнярский попросил меня остаться. Он достал из шкафа бутылку шнапса, привычно поставил на стол две граненые чарки, а плеснул только в одну, вспомнив, что я не пью. Выпил, отломил от полукруга желтоватой брынзы кусочек, кинул в рот, пожевал, полузакрыв глаза, дожидаясь, пока алкоголь доберется до его мозгов, и успокоенно подобревшим голосом сказал:
– У тебя, Улас, и своих дел будет невпроворот. В том же селе Оса. Стах прошелся по нему огнем и мечем, а ты должен прийти туда со своим умным и добрым словом. Дадим тебе на помощь людей, много не могу, сам знаешь, что большая часть ушла на Ковпака, отряд у нас вместе со штабом небольшой, так вот, надо будет пополнить его добровольцами.– Вапнярский налил теперь уже полную рюмку, выпил, опять отщипнул кусочек брынзы. Жуя, говорил: – О том, что скажу, распространяться не следует, но тебе знать нужно: не за горами тот час, когда мы будем отступать, тут мы не удержимся, Красная Армия давит. Мы вынуждены уходить дальше, в Карпаты. Но надо сделать все, чтобы тут у нас остались свои люди, мы скоро вернемся; необходимо собрать человек семьсот-восемьсот хлопцев и девчат; сейчас, пока наш верх,– делать это нетрудно, кое на кого можно нажать и силой, в том же Оса хорошо помнят, как поступают с теми, кто не с нами. Ну, а остальное, как говорится, дело твоего мастерства; твои слова – сила, они все могут. Вышколить молодежь следует так, чтобы она при встрече с коммунистом или москалем, комсомольцем или просто поляком и жидом шарахалась от них, как от чумы, чтобы их ненавидели, ненавидели, ненавидели! – Вапнярский с такой силой сжал рюмку в руках, что она хрустнула, как яичная скорлупа; из разжатой ладони на пол посыпались осколки и упало несколько капель крови.– Вот так, пан Курчак! – Он подошел к ведру с водой, зачерпнул кружкой из ведра, ополоснул руку, оглядел ее и чисто по-детски прижал к ладони губы, пытаясь унять кровь.– Ты обязан это сделать к концу января сорок четвертого года,– продолжал он.– Штаб назначает тебя комендантом молодежного лагеря, не слагая твоих основных обязанностей.
Выйдя от него, я поспешил отыскать своих подопечных. У землянки, где жил Юрко, увидел толпу смеющихся хлопцев. Оказалось, причиной смеха был Юрко. После казни Славка, с которым Дзяйло был в дружбе, Юрко выпил почти полведра самогона и тут же свалился. Хлопцы выкачали из него самогон и затащили в землянку, чтобы он не замерз. Я несколько успокоился: Юрко отойдет только к вечеру,– и пошел к себе. Мой напарник по землянке со смешком сообщил мне:
– Твоих друзей-восточников и немца повели до буерака, стрелять будут.
Я бросился туда и еще успел увидеть их живыми, но что с того толку! Их было около десятка, уцелевших после боя с немцами, выживших в плену; ради того, чтобы жить, они честно служили нам. Когда я подошел, люди Стаха уже вскинули винтовки. Я поймал, как всегда, тоскливый взгляд Дениса Мефодиевича; в его глазах взблеснула на миг какая-то надежда, но залп им же обученных стрелять молодых хлопцев погасил и эту надежду, и жизнь Дениса Мефодиевича Лопаты, учителя из Ахтырки. Никогда не узнают ни его мать, ни жена, ни сын, где и как он погиб – и как хотел выжить и увидеть их. Может быть, я и не заметил бы Виктора Чепиля, но во время залпа он вдруг присел и затем метнулся с несвойственной человеку прытью за спины уже падающих от залпа людей, побежал по крутой горке буерака к кустам, к леску; из-под ног его летели сухие листья и вырванные каблуками травинки. Вслед ему беспорядочно стреляли и чья-то пуля достала, он упал. Первым около него оказался быстрый и прыткий Петро Стах, выстрелил в упор, но этот выстрел словно придал Чепилю силы, он резко поднялся и снова бросился бежать, потом падал опять, в него стреляли, а он извивался, крутился вьюном, поскуливал от безнадежности и отчаяния, от жажды к жизни, и вдруг как-то сразу умолк и застыл, лежа на боку в позе устремленного вперед бегуна: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...»