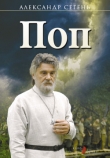Текст книги "Серая мышь"
Автор книги: Николай Омельченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Лагерь было решено расположить в нашем селе. Когда Вапнярский предложил это, у меня сердце опахнуло теплом – наконец-то я буду с Галей и сыном. Но тут же всего пронзило тревогой: а что же дальше, что будет со мной и с Галей, когда придут Советы? Думать об этом пока не хотелось, так уж устроен человек,– живет сегодняшним днем. Напутствуя меня, Богдан Вапнярский, с которым мы в тот день, сами того не ведая, виделись в последний раз перед долгой разлукой, сказал:
– Вчера, друже Улас, прошло, завтра может не наступить, так что живи сегодня.
А я хотел жить и сегодня, и завтра, потому что у меня были Тарас и Галя, и я был им нужен и сегодня и всегда так же, как и они мне. Богдан Вапнярский говорил эти слова, скорее всего, самому себе и своей очередной сожительнице, что сидела с ним рядом за столом; она была в дорогой парчовой спиднице, красных сапожках и вышитой украинским орнаментом тонкополотняной кофточке,– в таких и по сей, день танцуют на сцене украинские народные танцы; на плечи наброшена дорогая котиковая шубка, явно не с ее плеча, реквизированная у кого-то из богатых городских. И пахло от той леди с давно немытыми свалявшимися волосами резкой парфюмерией и самогонкой. Она посмотрела на меня ласковой пьяненькой улыбкой, налила из бутылки целый стакан и милостиво протянула мне. Вапнярский рассмеялся.
– Он непьющий.
– Правда? Впервые встречаю такого мужчину. Вы и к женщинам не благоволите?
– Он однолюб, у него есть жена,– ответил за меня Вапнярский.
– По-моему, это скучно,– усмехнулась она и, посерьезнев, протянула ко мне свой стакан.– И все же вам, как другу Богдана и, по его словам, настоящему борцу за национальное возрождение, придется выпить. Я предлагаю тост за самостийную и неделимую Украину, за близкую и окончательную победу ее народа!
Последние слова она почти прокричала, и я почему-то побоялся, что с ней случится пьяная истерика, это испортило бы наше расставание с Вапнярским-Бошиком, к которому, несмотря ни на что, я крепко привязался. Мы сдвинули с ней стаканы, и я выпил под радостный смех моего старого друга и наставника.
– Ну и могучая же ты у меня женщина, если смогла заставить выпить такого убежденного трезвенника, как Улас Курчак,– смеясь, говорил он.
Самогонка была крепкая, и мне, непьющему, она тут же шибанула в голову. В таких случаях я становлюсь разговорчивым и пытаюсь сказать то, что не решился бы говорить в трезвом виде.
– Вот мы все говорим о возрождении нации, о свободе нашего народа, а сами убиваем... Народ ведь состоит из людей, каждый со своей кровью и плотью... Скольких мы уже отправили на тот свет! Только за последнее время. И все это украинцы, наши братья...
– Ты имеешь в виду восточников? – резко перебил меня Вапнярский.– Они идейно и духовно отличаются от нас точно так же, как – от человекообразной обезьяны. Они все пропитаны духом большевизма, он у них в крови, поэтому их кровь нам, настоящим украинцам, проливать не есть грех.
– А шестьдесят семей в Оса? Всех – от мала до велика. А в соседних районах, а на Тернопольщине!?
Пока это говорил, Вапнярский отхлебывал и отхлебывал из своего стакана, уже не закусывая; это было признаком того, что он пьянел. Наконец, когда из меня вышел весь мой запал и я, как ни была мне противна самогонка, тоже потянулся к стакану, он приблизил ко мне свое лицо, и я видел, что его глаза совершенно трезвы.
– Ты же политический воспитатель, Улас, и должен, как никто, понимать и разъяснять другим: все, что мы делаем, есть борьба, и борьба жестокая, а она не может быть без крови.
– Лес рубят – щепки летят! – вдруг нервно вся передернулась от возбуждения Богданова сожительница.
Вапнярский не обратил на нее внимания и, слегка закинув голову, со своей обычной велеречивостью произнес слова, которые запомнились мне на всю жизнь:
– Мы очистим нашу нацию, прополем от сорняков наше поле. Люди – как трава: чем больше ее косишь, тем она лучше растет.
На следующее утро я приступил к своим новым обязанностям коменданта; для мобилизации молодежи мне дали в помощь пятнадцать стрельцов во главе с роевым. Мобилизация была проведена быстро и без особых страстей – брали, в основном, из семей сочувствующих нам или родичей, служивших в УПА; да и не в Германию же их угоняли, все оставались в своем районе, приходили со своими харчами, и жилось им довольно вольготно – собралось восемьсот человек: пятьсот юношей (целых два куреня, переводя на военный язык) и триста девчат. Девчат я разместил в школьном зале и в классах, а ребят поселил в клубе; каждый притащил из дому постель, и слали все покотом; сами топили печи, сами себе варили и стряпали, а после принятия присяги на верность ОУН и УПА их перевели на военное положение. Теперь царствовала военная дисциплина – за провинность или непослушание предусматривались довольно строгие наказания. Воспитатели и военные инструкторы – их было вместе со мной пять человек – тоже поселились в школе, в комнатах, где жили когда-то учителя. Я составил расписание занятий, предметов было два – политзанятия и военное дело; теория преподавалась в школе и клубе, а из яра, где раньше расстреливали, теперь с утра до вечера доносились одиночные автоматные выстрелы. Очередями не стреляли – экономили патроны, но ходили в тир каждый день. Теперь я был полным хозяином в селе и в округе – польские полицаи при нашем появлении разбежались. С немецкой администрацией нашего дистрикта мы договорились, что сами будем следить за порядком, в ответ немцы потребовали от нас немного: чтобы мы, в случае необходимости, беспрекословно им подчинялись, ничем не препятствовали обеспечению фронта, не взрывали мостов, эшелонов, не убивали немецких функционеров, а при надобности помогали в борьбе против советских партизан. Мы, как и раньше, все это им обещали.
Все вечера я проводил с Галей и Тарасом; он еще плохо говорил, но уже был смышленым и ласковым мальчиком, порой даже казался не по-детски задумчивым: сядет ко мне на колени и смотрит долгим детским взглядом. Может, это он прощался со мной, понимал своим детским чутьем, что видит меня последние вечера. Разумеется, тогда я так не думал, просто любовался им, ласкал его. Ранним утром нас будили близкие канонады, они гремели со всех сторон, и Галя, прижимаясь ко мне, тихо плакала:
– Что же с нами будет, а?
Я молчал, лишь поглаживал Галину головку и целовал ее мокрое от слез лицо. Помню ее слова, сказанные в ту ночь; было тихо, лишь метель шелестела в саду да где-то мирно перелаивались собаки.
– Вчера, перед тем, как стало смеркаться,– сказала Галя,– я вышла с Тарасиком в сад встретить тебя и вдруг вижу в кустах вишняка кровавые пятна. Испугалась, подумала: уж не убили ли кого там? Потом поняла – снегири в снегу устраиваются на ночлег. И так стало радостно, что это лишь снегири, а не пятна крови... Я вот лежу и думаю: ну что человеку нужно для счастья? Совсем немного – на двоих одна постель, теплая печка и рядом в кроватке ребенок. Так нет же, толкутся люди в собственной крови.
Уснули мы под утро. Разбудили меня тяжеловесные звуки пулеметных очередей. Та-та-та, та-та-та – неторопливо, будто на учениях, доносилось из скованного морозцем гулкого утреннего леса. В дверь постучали, по-утреннему хрипловатый перепуганный голос произнес:
– Друже командир, где-то близко стреляют, выйдите послушайте.
Я поднял на ноги своих инструкторов. Протерли глаза, настороженно прислушались к пулеметным очередям, которые методичным огнем прошивали лес, то приближаясь, то отдаляясь.
– А ведь это ковпаковцы,– хмуро проговорил один из них.– Они у нашего села. Значит, зашли с тыла к УПА и гонят ее на регулярные части Красной Армии. Думаю, при сложившейся ситуации вряд ли целесообразно держать лагерь. Придут – этих невинных юнаков перебьют...
Я взглянул на своего военспеца и будто впервые увидел его; жаль, не запомнил его фамилию; было ему уже лет за сорок, я не очень-то присматривался к нему за те немногие дни, которые мы провели вместе, но уже тогда подумал, что он не добровольно пришел в УПА. Слова его были для того времени мудры и смелы, я же предпочитал осторожность, и хотя решение и ответственность за все действия полностью лежали на мне, все же созвал совет преподавателей. Никто не возражал против того, чтобы распустить молодежь по домам. Тем более, что в лесу начали фыркать тяжелые минометы, у нас в курене таких не было. Я зашел в школьный зал, там уже никто не спал.
– Разбегайтесь, девчатки, по домам, и как можно быстрее,– сказал я, а у самого – точно гора с плеч.
Что тут поднялось! Плач, рев от радости; до этого боялись и слезу уронить, а тут кинулись все разом к своим одежкам и обувкам, все поразбросали, в темноте никто не может найти своего; пришлось угомонить их, засветить лампы. А потом пошли к хлопцам; там все было спокойно, даже вопросы задавали, как им действовать дальше. Я ответил, что об этом им сообщат.
Люди в коротких белых полушубках и валенках вышли из лесу где-то в полдень; двигались цепочкой друг за другом, ступая в неглубоком снегу след в след; на груди – непривычные для моего глаза автоматы с деревянным ложем и круглым диском. Мы сразу поняли – ковпаковцы. Галя обняла меня:
– Улас, беги!
Я колебался. Мои-то инструкторы навострили лыжи еще утром, даже не попрощались.
– Куда мне бежать? – прижимая Галю к груди, равнодушно проговорил я.
– Берегом, низом к реке, лед уже крепкий, а там в подлесок, никто не заметит.
– А потом? Я не знаю, где сейчас наши,– говорил я, но меня в те минуты удерживало от бегства и другое – Галя и сын, что будет с ними? Да и вряд ли ковпаковцы знали о моей причастности к УПА, в нашем селе никто не посмеет и рта раскрыть, побоятся, и не было у нас человека, который держал бы зло на меня и на мою Галю.
– Некуда мне бежать,– сказал я.– Поживем, посмотрим, что будет дальше. И вас не могу бросить.
– О нас не беспокойся, мы не пропадем, нас никто не тронет, из каждой хаты есть кто-то в УПА, не будут же Советы женщин за это казнить.
– Думаю, не будут, а там кто их знает.
Мне хотелось верить, что советские партизаны гуманнее наших вояк, поэтому я, наверное, и остался. Вышел в сад, огляделся, вынул свой парабеллум и бросил в густой вишняк, туда, где ночевали снегири; тяжелый парабеллум нырнул в сугроб, почти не оставив следа, но я все же запомнил кустик, у которого он упал. Посмотрел в сторону леса: партизан было много, вдоль опушки двигался длинный санный обоз, он потянулся к соседнему селу, видимо, партизанам было известно, что там, в селе, заготовлен фураж для лошадей УПА; к нам повернули только одни сани и десятка три партизан. Половина из них направилась к школе.
– Наверное, идут на постой,– успокаивающе сказала Галя, когда я вернулся в дом и стал наблюдать за партизанами в окно.– Давай их встретим гостеприимно. Тогда не тронут...
А они и не думали кого-либо трогать, видно, стояли перед ними совсем другие задачи, а в том, кто есть кто, за кого воевал, кого приветил, а кого отослал на тот свет,– пусть разбираются другие, те, кому это положено. Вначале мы с опаской и настороженностью поглядывали на движущихся к нам ковпаковцев, но, когда первые двое остались в доме Дзяйло и хозяева угодливо забегали по двору – из погребника в хату и обратно,– мы успокоились, партизан угощали, и все выглядело вполне мирно. Вскоре они появились и у нас.
– Здесь школа, что ли? – быстрым русским говорком спросил коренастый, с живыми голубыми глазами парень; плечо его полушубка было обгорелое, сморщенное, точно кто-то смял его сильной лапой, валенки черные не то от земли, не то от гари, и лицо усталое, но приветливое. За ним стоял огромный, чем-то похожий на нашего Юрка Дзяйло парень, украинец по выговору, хотя тоже разговаривал по-русски,– меня даже подмывало сказать: ты же, хлопче, на своей земле, а говоришь не по-нашему! Но я сдержался, а как только заговорил по-украински, он тут же перешел на родной язык; спросил, можно ли на ночь стать на постой, помыться, почиститься; потом они двинут дальше, а сюда придут другие. Интересовались, кто мы и где наши учащиеся. Мы уж с Галей рассказали все как есть, всю правду – и про то, как угнали подростков в Германию, и про замученных учителей – Наталью Григорьевну Вахромееву и Симу Бронштейн. Было это, правда, уже вечером, после того, как партизаны помылись и побрились, нагрели воды в котлах на школьной кухне, а Галя сварила им украинский борщ с фасолью, чесноком и солониной из оставшихся лагерных запасов. Во время нашего рассказа о Симе Бронштейн произошло такое, чего и не выдумаешь: дверь вдруг отворилась, и на кухню, где мы сидели, вместе с морозным паром по-медвежьи ввалился Юрко Дзяйло. Мы с Галей опешили, подумали, что он пьян, но Юрко был совершенно трезв. Он знал, что у нас ковпаковцы, но ведь они были и в его хате и никого не тронули. Вот Юрко просто так и зашел ко мне в гости. На всякий случай я решил его подстраховать:
– Уважаемые партизаны, это и есть тот парень, который прятал еврейку.
Юрка это напоминание покоробило, и я тут же добавил :
– Как только он узнал, что вы пришли, так и заявился, а то скрывался в лесу...
Юрко молча кивнул, пряча свой недобрый блеск в глазах, он бы, конечно, с удовольствием отправил этих ребят на тот свет.
Но тот русак с голубыми подвижными глазами вдруг сказал такое, что мне стало не до Юрка.
– Ничего, братцы,– проговорил он со стальным звоном в голосе,– мы их крепко зацепили. Сделали бы это раньше, да было жалко и времени, и патронов на эту падаль.
– Вычесали их из тутешних лесов, как гребешком вшей из головы,– вставил второй хлопец, чем-то похожий на Юрка.
А русак продолжал:
– А разными полицаями и старостами займутся ваши же люди, партизаны. Про ковальковцев слышали?
– А как же,– холодея, ответил я.
– Завтра они будут здесь. Среди них много местных, даже бывший секретарь вашего сельсовета, Яковом зовут.– И он вдруг пропел: «...партизанские отряды занимали города». Слыхали такую песню?
– Слыхали,– мрачно ответил Юрко.– Мы и другие слыхали...
– К вам Коваль захаживал?
– Захаживал. Правда, не он сам, а его хлопцы.
– А Вапнярский со своей бандой?
– Тоже бывал.
– И как тут его принимали?
– Как и всех,– ответил я.
– Значит, вы всех хорошо принимаете? Ну и народ! – с веселой злобой заметил партизан.
– А попробуй прими плохо! – в тон ему ответил Юрко.
– При всех, значится, приспособляетесь жить?
– Народ и должен при всех жить, иначе не быть народу,– вздохнул я.
– Ну и народец! – еще более зло произнес русак.
– А чего ты так на наш народ? – вмешался партизан-украинец.– Народ везде одинаков, куда его ведут, туда он и воротит свои стопы.
– Это так,– согласился Юрко и с каким-то горделивым превосходством взглянул на своего двойника-ковпаковца.
А тот радушно предложил:
– Ты бы к нам в отряд вступал, нам нужны местные люди. Что зря в лесу ховаться? Так бы пользу приносил, одно хорошее дело уже сделал, правда, не уберег ту учительку...
– Не надо об этом! – насупился Юрко.
– Парень ты, видать, сильный и не из трусливых. Мы тебе дело говорим: иди к нам. В лесу ты, видно, одичал, в глаза людям отвык смотреть, везде тебе видятся враги.
Юрко молчал.
– Решайся,– подбадривающе улыбнулся тот.
– Не, батько хворый, маты стара,– отводя в сторону взгляд, наконец произнес Юрко.– Я у них один сын.
– Ну подумай, подумай.– Партизаны поднялись, поблагодарили за хлеб-соль Галю, напряженно молчавшую все это время. Я видел, что разговор наш ей не нравился, казался довольно опасным. Когда партизаны ушли к себе спать, она облегченно вздохнула.
Юрко остался.
– Ты чего пришел? Спятил! – набросилась на него Галя.
– Хотел батька увести, а они тут как тут. Но вижу все хорошо и мирно, так решил и вас проведать. Только не знал, что вы с ними по душам...
– Между прочим, не без пользы. Узнали, что завтра сюда прибудут ковальковцы, значит, нам надо уходить.– Я взглянул на Галю. Она согласно кивнула, глаза наполнились слезами. Подавила тяжелый вздох и твердо произнесла:
Уходить надо вам, я не думаю, что они нас тронут я уже об этом говорила Уласу.
– Отца тронут, еще как! – сказал Юрко.
– Отцу тоже надо уходить,– сказала Галя.
– А мать? Её не так за отца, как за меня заклюют, и не НКВД, так сельские, это они сейчас кроликами смотрят, а как придут Советы, заклюют.– Юрко помолчал и неуверенно произнес, глядя на меня: – Эвакуироваться нашим женщинам пора, завтра будет поздно.
– Куда?– удивился я.
– На запад. Я достану документы, что вы работали у немцев, пойдете вместе с отступающими немецкими обозами.
Я удивился такой прозорливости и практичности этого, как мне всегда казалось, несколько туповатого селюка.
В Видне мой дядя, отцов брат, лавочником. Я для него кое-что передам, поднакопил... С этим и чужой человек примет.
– Правильно, только Видень,– сказал я и посмотрел на Галю, хотел увидеть, как она отреагирует на то что и я поддерживаю эвакуацию в Австрию; там, по неточным данным, находились Галины родители. Оставшиеся в Ковеле родственники получили от них письмо дали нам адрес, Галя написала, но ответа так и не получила,– то ли по вине почты где-то затерялся, то ли помешала охватившая всю Европу война.
– Я там и своих поищу,– как-то неуверенно произнесла Галя.
– Выходить будем, как только уйдут эти,– кивнул Юрко в сторону зала, где спали партизаны.– За ночь соберитесь, когда стукну в окно, чтоб были готовы. Двинемся на санях вслед за ними, в случае чего они нас знают, скажем, едем в гости, а там свернем. Для меня лес – что хата родная, не заблудимся, обойдем чужих, найдем своих, только б жив остался тот человек.
– Это кто же?
– Есть один немчура,– Юрко рассмеялся. Оставили в живых на расплод. Сам Стах пожалел.
– Что-то в лесу сдохло: чего это он стал таким жалостливым?
– Понравился он ему. Стах же художеством занимается, не знал?
– Знал.
Юрко поерзал, огляделся:
– У тебя не найдется чего-нибудь выпить, перенервничал я...
Галя достала из шкафчика бутылку и рюмку.
– О, еще довоенная! – потер руки Юрко.– Только начатая.
– До войны начали, так больше и не притрагивались,– грустно усмехнулась Галя.
– А те что же не выпили? Не нашли? – кивнул Юрко в сторону школьного зала.
– Они не искали и не просили.
– Как и вы – монахи,– хохотнул Юрко и осторожно отодвинул рюмку.– Это для причастия, мне плесни в стакан.
Галя подала стакан и тарелку с капустой, хотела нарезать сало, но Юрко отказался:
– Некогда закусывать и рассиживаться.
Выпил, бросил в рот щепотку капусты, посидел несколько минут молча, затем снова кивнул на стакан. Галя вылила остаток, Юрко допил, доел капусту и утерся рукавом. Я терпеливо ожидал, когда он доскажет то, о чем начал. Юрко это понял, кивнул и уже с хмельной многоречивостью заговорил:
– Так я говорю: понравился тот немчура Стаху, оставили его жить. Ну, конечно, не за красивые глаза и не за то, что он был художником, как и Петро. Художник он оказался особенный, редкий; из-за этого дара он и попал к нам в курень, бежал от своих, те хотели пустить его в расход. Ох и талант! – Юрко с сожалением взглянул на пустую бутылку.– Любую печать намалюет лучше
настоящей! Какие документы может сделать! И Стаху, и мне, и тебе, Улас. Я уж не говорю про твоих и моих – им в первую очередь. У него этих документов и разных удостоверений – целая пачка. Голова! Знал, что когда-нибудь все пригодится. Смеется: «Гитлер капут, а мы с этим жить будем!» И потряхивает пачкой документов. Вот немчура! Как такого не оставить в живых!
Юрко поднялся.
– Ну, собирайтесь, а я пойду торопить своих.
То была у нас с Галей последняя ночь, почти до самого утра мы собирались, все обдумывали, где и как нам лучше встретиться, если вдруг не выгорит вариант Юрка; остановились на церкви святой Варвары,– единственное место, которое мы знали в Вене.
– Каждый день я буду приходить туда молиться,– несколько раз повторила Галя.
Лишь под утро мы уснули, последний раз вместе…
22.
Джулия в нашей семье слывет большой домоседкой; такой она была и в молодости – дальше пригорода Торонто или, в крайнем случае, юга нашей провинции ее, бывало, не вытащишь. Поначалу мне казалось – это от бережливости; отказываясь куда-либо ехать, она обычно говорила: «Дома полно работы, да и на те деньги, которые я потрачу на дорогу, лучше куплю что-нибудь детям». Она у меня из тех немногих канадок, что даже у наших соседей в Штатах за всю жизнь ни разу не побывали. Мне же путешествия не так самому были интересны, как хотелось доставить удовольствие детям; наверное, поэтому Джулия всегда меня отпускала и не очень ворчала: хоть мы работали вдвоем всю жизнь, но едва сводили концы с концами. Как-то подвернулась недорогая поездка в Лос-Анджелес; недорогая потому, что в середине лета в Калифорнию, где в это время стоит тропическая жара и сушь, мало кто из туристов осмеливается ехать, и авиафирмы продают билеты на самолеты дешевле. Меня тоже не очень радовала перспектива путешествия туда в такую пору,– в Лос-Анджелесе от фантастического скопления автомобилей над городом висит ядовитый смог, и людям со слабым здоровьем врачи рекомендуют носить противогазы, но очень уж хотелось, чтобы мои дети не по телевизору, а в натуре видели настоящий «Диснейленд», известный во всем мире сказочный парк для детей.
И вот мы втроем, я, двенадцатилетний Тарас и тринадцатилетняя Джемма, в полдень ступили на это поистине сказочное, раскинувшееся на сотни акров, клубящееся могучей тропической зеленью плато. Откровенно говоря, я пожалел, что с нами не было Калины,– ее мы, как самую маленькую, оставили с Джулией,– она бы все оценила с большим восхищением и восторгом. Тарас и Джемма с детства вырабатывали у себя сдержанность и, даже восторгаясь, не очень-то проявляли свои чувства, больше того – пытались скептически относиться к этой фантастической сказке. Так, когда мы плыли на катере по текущей через тропический лес реке, зеленоватой, пропахшей гниющими водорослями, Джемма сказала:
– Все как-то тяжеловесно, мало тропических красок. У Гогена их куда больше.
– Зелень здесь настоящая,– заметил я, сердясь на то, что эту тринадцатилетнюю девочку мало что удивляет,– наоборот, даже настраивает на скепсис.– И причем здесь Гоген?
– Еще бы; при таком благодатном климате создать видимость джунглей – раз плюнуть!
Справа от нас из воды показалось семейство бегемотов – мама, папа и двое малышей,– они разинули огромные пасти, но, увидев катер с людьми, скрылись под водой.
– Отвратительные чудовища! – брезгливо передернулась Джемма.
– Да они не настоящие,– усмехнулся Тарас.– Все здесь создано усилиями науки, техники и современнейшей электроники. Фантазия конструкторов.
– Откуда тебе это известно? – снова рассердился я.
– Читал,– усмехнулся Тарас.
– А вот крокодилы настоящие,– кивнула на берег Джемма; на коричневом песке уютно подремывали трехметровые толстые крокодилы.
– Ха! То же, что и бегемоты,– возразил Тарас. Но Джемма не сдавалась, у нее еще тогда, в детстве, рождалась привычка – всегда, даже в спорах, брать верх над другими, даже и в тех случаях, когда она не права.
– Настоящие, настоящие! Посмотри, какие у них пасти и зубы, как они сонно зевают, смеживают глаза,– повторяла она и, когда Тарас старался доказать ей обратное, обращаясь за помощью ко мне: – Скажи ему, папа!
Мне не хотелось, чтобы от моих детей так рано уходила вера в сказку, поэтому я уклончиво ответил:
– Пусть кое-что здесь и создано человеком, но все это может вполне конкурировать с самыми совершенными творениями природы. Сейчас вы в этом убедитесь.
Неподалеку от катера в небольшой заводи вдруг вывернулась, сверкнув золотистой чешуей, огромная рыба и так мощно всплеснула, что по всей реке пошли волны; навстречу нам проплыла целая стайка серебристых рыбок; не успели мы ими налюбоваться, как увидели на деревьях резвящихся обезьян, а с противоположной стороны к реке подходило стадо слонов, они степенно вели на водопой свое многочисленное потомство. Теперь уже не верилось, что увиденное нами – творение человеческих рук. Чем дальше мы плыли, тем больше знакомились с обитателями тропического леса. Вот стадо слонов, стоящих в воде, из хоботов фонтанами брызжут струи, а за поворотом реки к берегу навстречу нам мчится табунок сытотелых изящных зебр. В скале широкой пещеры резвятся львята, настороженно поглядывает на наш катер львица. Джунгли наполнены зверями и птицами, все это рычит, поет, живет своей жизнью, вызывает желание дольше побыть среди дисней лен декой природы, и мы совершенно забываем, что это лишь сказка.
Для того, чтобы основательно познакомиться с диснейлендской страной чудес, не хватило б, пожалуй, и нескольких дней. Мы решили посмотреть хотя бы самое основное. Тарас рвался к пиратам – есть в «Диснейленде» и такой уголок. Мы сели в лодку, завернули в огромную пещеру и некоторое время плыли под ее высокими сырыми сводами. Вдруг все вокруг наполнил гром пушек, перед нами открылась старинная крепость, которую осаждали пиратские корабли. Пушки палили с обеих сторон, с шипением, как настоящие, падали в темную воду ядра; в крепости и на кораблях деловито, с криками, суетливо сновали люди, которых трудно отличить от настоящих. Зрелище было настолько захватывающее, что из уст моих детей в пещере не вырвалось ни одного скептического слова. Следующая картина: захватив крепость, пираты устроили пир – из бочек льется вино, всюду царит пьяное веселье, под бодрые песни победители тащат к виселице свою очередную жертву; тут же торгуют печальными красавицами-плен-ницами. Но в конце концов торжествует добро и справедливость, к сожалению, в жизни это случается не так уж часто,– наша лодка проплывает неподалеку от тюрьмы, где отбывают заслуженное наказание морские разбойники.
Потом мы перенеслись в наши дни – летали на космическом корабле, и мои восторженные дети чуть ли не трогали руками настоящие звезды, плавали на подводной лодке и видели в огромном, как на жюльверновском «Наутилусе», иллюминаторе таинственный и красочный подводный мир. А в театре мы слушали концерт американской песни, исполнители – птицы, они поют и разговаривают человеческими голосами, и ты уже всему веришь, даже страшным привидениям, которые обступают тебя со всех сторон, когда ты попадаешь в дом, где они живут.
Чтобы немножко успокоить возбужденных детей, я повел их к небольшой, под старину, железнодорожной станции, и мы прокатились по сказочному городку на старомодном поезде. Снова с наслаждением смотрели на этот удивительный мир, который способен вернуть в детство даже взрослого, снимает бремя забот и горьких раздумий. Никто еще не уходил из страны «Диснейленд», охваченный обидой, злобой или завистью.
Обедали мы в уютной, затененной деревьями закусочной. На десерт дети ели мороженое. Я неторопливо допивал кофе, когда услышал в конце террасы голос, показавшийся мне знакомым. Поначалу я подумал, что он показался мне знакомым потому, что говорили по-украински. Какой-то господин утихомиривал свою дочь, которая довольно шумно резвилась – смеялась, прыгала, даже кувыркнулась через голову – то и дело мелькали ее белокурые, перетянутые голубой лентой волосы и узкие, с широкими помочами штанишки. Девочка явно рассчитывала привлечь к себе внимание моих детей, не зная, что они, несмотря на возраст, к таким фортелям уже давно относились довольно снисходительно.
– Богдана, сейчас же перестань. Я кому говорю! Иди ко мне!
Я не выдержал, обернулся и бесцеремонно стал всматриваться в лицо этого человека. Заметив мое любопытство, он вначале нахмурился, затем подался вперед, поправил шляпу грязно-соломенного цвета, с высокой тульей; на его лице появился не то испуг, не то крайнее изумление, от чего оно побледнело, застыло в неподвижности. Но вот оно дернулось, разверзлись уста:
– Неужели это вы, Улас?
– Я,– уже уверенный в том, что этот человек мне давно близко знаком, но еще не узнав его, без всяких эмоций ответил я, пристально вглядываясь. «Да не Петре Стах ли это?» – словно молнией шарахнуло меня. Голос – его, лицо, фигура – тоже его. Но что-то до неузнаваемости изменило его, хоть с тех пор, когда мы виделись последний раз, прошло всего каких-то полтора десятка лет, за это время человек меняется, но не до такой степени, чтобы его не узнать. И вдруг я понял – усы! Короткие, не в меру пышные усы, торчавшие щеткой. Из-под светлого, в коричневую клетку пиджака выпирал не вязавшийся с худощавым лицом выпяченный живот, такое чрево вырастает от чрезмерной еды, сдобренной пивом или еще более крепкими напитками. Красную рубаху, едва не лопавшуюся на животе, сверху стягивала черная «бабочка», брюки – голубые, немодные, черные штиблеты – все в общем-то дорогое, но безвкусное, слишком яркое для его возраста.
– Теперь вижу – ты! – усмехнулся Стах.– Смотрю и не верю, мне сказали, что ты погиб...
– Да вот не вышло по-твоему...– Я кивнул детям, указав на девочку: идите, мол, поиграйте с ней, а я поговорю с дядей. Мы поднялись и двинулись друг другу навстречу. В это время на террасу вбежала Богдана,
– Ты звал меня, и я пришла. Я же послушная, да? – Она обняла Петра за талию, напрашиваясь на ласку, и посматривала то на меня, то на моих детей, которые еще не успели сойти с террасы.
– Послушная, послушная,– ласково гладил перетянутые голубой лентой волосы и целовал ее в затылок Петро. Эти жесты и движения, так не вязавшиеся с тем, каким я его знал, отцовская нежность снова сделали его непохожим на того, прежнего, с которым я когда-то с радостью расстался.
Мои дети из вежливости пригласили Богдану поиграть, а мы, все еще не веря этой встрече, продолжали рассматривать друг друга.
– Ты совсем не изменился,– сказал наконец Петро.
– Все потому же, что не вышло по-твоему, а то наверняка превратился бы в покойничка,– со сладкой издевкой заметил я.
– Ну, ты уж совсем...– несколько смутившись, обиженно произнес Петро.– В те времена, скажу тебе откровенно, я только к вам двоим и относился с уважением – к Вапнярскому и к тебе...
Мне вдруг перехотелось говорить о прошлом, и я лишь спросил:
– Не знаешь ли ты о судьбе моей Гали и сына?
– Нет, не знаю. Помню только, Юрко Дзяйло говорил мне, что удачно пристроил и своих и твоих в немецкий обоз.
– Мне он об этом говорил тоже.
– Кстати, как он там поживает, как устроился? – спросил Стах.
– Как и все,– нехотя ответил я.– Стал фанатиком, верующим, все грехи замаливает.
Мы уселись за столик, у которого стояли, так сказать, на нейтральной зоне. После некоторого молчания Петро спросил о Вапнярском:
– Чего это ему вздумалось переметнуться к мельниковцам? Они что, ему дали большой пост? По-моему, у вас в Канаде все больше верх берут мельниковцы. Чего это все тянутся к ним?