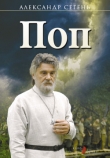Текст книги "Серая мышь"
Автор книги: Николай Омельченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
– А это что за мазня?
– Это подарок сына,– безбожно соврал я. Но разве можно было в той жизни не соврать, не украсть, а случись – и не убить? Иначе бы не выжил...
Этот рисунок я никому никогда не показывал, боялся расспросов; хранил его, как вечный жестокий упрек моей совести.
Постепенно входя в жизнь отряда, я все же не забывал, что в руках Петра Стаха жизнь моей жены и сына и надо выполнить данное мне задание. Как-то ночью меня разбудил низкий гул тяжелого самолета и чей-то крик:
– Добровольцы есть?
Я приподнялся на нарах. Проснулся и Володя, спавший со мной в одной землянке, остальные партизаны то ли не слышали, то ли сделали вид, что спят.
– Куда это? – спросил я у Володи.
– Самолет привез грузы на посадочную площадку, вызывают добровольцев выгружать. У нас не так часто это бывает, обычно грузы сбрасывают.
– Пойдем,– предложил я Володе.
– Спать охота,– зевнул он.
– Тебе, старожилу, тут, я вижу, все уже надоело, а мне с непривычки, да и все равно ведь проснулся.– И я стал одеваться.
– Тогда и я с вами,– неохотно поднялся Володя.
Аэродром – большая поляна с низкой травой и дотлевающими на ней кострами, посадочными знаками,– был расположен в двух километрах на северо-восток от лагеря. Когда наша группа подошла к самолету, груз, почту и медикаменты уже выгружали сами летчики и те, кто подоспел раньше нас. Как мы потом узнали, самолет доставил и несколько комплектов приготовленных специально для партизан подрывных устройств. Командиры, видимо, хотели проверить в деле и новое устройство, и новичка-партизана и послали меня вместе с разведчиками на задание – должен был проследовать немецкий эшелон. Правда, он шел с востока на запад, и никто не знал, что в нем было. Акцию мы совершили – подорвали эшелон; платформы его были забиты металлоломом, в двух последних вагонах везли на работы в Германию девчат. Эшелон ехал медленно, поэтому последние вагоны остались целыми, и узницы отделались лишь ушибами. Когда открыли двери и высыпали девчата из вагонов, аж жутко стало – совсем еще дети, наверное, немцы забирали уже последних. Вокруг стоял такой плач, что ничего не было слышно. Девчат успокоили, хотели строем повести их в лес, но из этого ничего не получилось,– они сбились в одну кучу, как перепуганное в панике стадо, так их и погнали в лес, то решили, заставляли бежать – в любое время могли появиться немцы или каратели. Потом мне рассказывали, что их устроили где-то на перевалочной базе, накормили, оказали кому надо медицинскую помощь, а затем стали отправлять какими-то путями на родину. Партизаны отнеслись к ним с сочувствием и заботой. И я опять невольно сравнил, как бы поступили в таком случае наши хлопцы. Уверен: не стали бы панькаться; «москалих» вернули бы немцам, а кое-кого взяли бы себе в наложницы, после чего вряд ли оставили бы их в живых. До того, как я попал в партизанский отряд, я думал, что советские партизаны не только воюют с немцами, но и много сил отдают борьбе с нами, националистами. Однако уже с первых дней понял, что к нам они относятся даже с каким-то обидным пренебрежением, не считая нас серьезным противником. Они избегали стычек с нами не потому, что боялись нас, просто считали своей главной задачей борьбу с оккупантами. Как-то я осторожно затронул эту тему в разговоре с Яковом Мирчуком.
– По этому поводу есть разъяснение,– сказал он.– Если не лезут, не встревать с ними в драку, хотя они и наши враги; не до них нам сейчас. Об этом тебе лучше расскажет командир, обратись к нему.
При случае я так и сделал, заговорил с ним, ссылаясь якобы на свою ненависть к националистам, убийцам и палачам мирных жителей. Андрей Иванович Коваль отнесся к этому вопросу более серьезно, чем я предполагал. Пригласил меня к себе в землянку, усадил за стол, достал какую-то тетрадь, полистал ее и потом сказал:
– У нас стоял вопрос о выработке единой тактики борьбы партизан и подпольщиков против националистов, особенно после того, как по заданию немецких фашистов их банды активизировали действия против нас. Обратились в Центральный партизанский штаб, к руководству нашей партии. Центральный Комитет КП(б) Украины подошел к решению этого вопроса, руководствуясь высокогуманными и моральными принципами. Вот они.– Коваль нашел нужное место в своей тетради и прочел: – «В нашем отношении к украинским националистическим «партизанским» отрядам,– я вам зачитываю радиограмму ЦК КП(б)У всем командирам партизанских объединений, прервавшись, заметил Коваль,– мы всегда должны помнить и различать: первое, что руководители украинских буржуазных националистов – это немецкие агенты, враги украинского народа; второе, что некоторая часть рядовых участников этих отрядов искренне желает бороться с немецкими оккупантами, но она обманута буржуазными националистами, пролезшими к руководству этими формированиями». Вот так,– закрывая тетрадь, Андрей Иванович окинул меня пристальным взглядом и, подумав, добавил: – Отсюда и делаем выводы, что ЦК КП(б)У ставит перед советскими партизанами задачу – всеми способами разоблачать руководителей националистических формирований как врагов украинского народа, фашистских агентов; не вступать с ними в контакт; не предпринимать вооруженных операций, если националистические формирования не нападают на советские отряды.– Командир положил ладонь на тетрадь и продолжал: – В этой же радиограмме подчеркивается – работу среди украинского населения следует начинать с разъяснения, что только последовательная, непримиримая борьба Красной Армии, наших партизан и всего советского народа против немецко-фашистских оккупантов приведет к разгрому гитлеровской Германии и обеспечит украинскому народу свободу в воссоединенной Украинской Советской Социалистической Республике; что нацисты пришли с целью завоевания Украины и превращения ее в свою империалистическую колонию, а националисты помогают им в этом, копают могилу украинскому народу. Доказывать это надо убедительными фактами фашистских злодеяний на Украине, разъяснять массам, что только коммунистическая партия приведет к окончательному разгрому немецко-фашистских оккупантов.
Я впервые слышал подобные слова и был с ними согласен, хотя не без настороженности подумал, что все это – агитация, обратная той, которую я проводил у себя в отрядах, но тут же осознал сказанное Ковалем: ведь все оно так и есть, ни капли вранья и пропагандистских натяжек. Даже позавидовал: этому бывшему детскому врачу нетрудно быть агитатором, ведь его аргументами есть сама правда. Потом я еще не раз слушал Андрея Ивановича, и меня все больше охватывало чувство безысходности, накатывала тоска, мне все больше нравились окружавшие меня ребята: стойкие, безоглядно преданные своему делу, верящие в то, за что готовы отдать жизнь. Но я пришел к ним оттуда, поэтому, проникнувшись к ним уважением и даже полюбив этих людей, я все же делал свое черное дело, выполнял задание. Посадочная площадка, куда прибыл самолет, была мною зафиксирована, я запомнил еще два ложных аэродрома, больших складов в отряде не было, а если и были, то это являлось такой тайной, что и не все партизаны знали о них. Выведал я еще кое-что, теперь уже не упомню всего. Вапнярский и Стах, конечно же, прежде всего спросят меня о численности отряда, и я решил не говорить им правды. Отряд Коваля был малочисленный, лишь небольшая часть партизанского соединения, но я скажу все наоборот, ведь лазутчик, засланный к нам, даже под пытками не выдал правды, назвал количество партизан в пять раз больше и преувеличил вооружение; так буду говорить и я. Где-то в душе я себя оправдывал – не хочу кровопролития между братьями-украинцами, ведь советские партизаны, как убедил меня Коваль, нападать на нас не намерены, а наши, если дознаются, что их отряд малочисленный и не так уж хорошо вооружен, налетят, перебьют всех, так Вапнярский уже сделал с одним небольшим отрядом.
Пора было уходить, но я вспомнил о рации, долго думал, как ее прихватить с собой и вдруг решил не делать этого, не хотелось, чтобы потом открылось, что я, человек, которому поверили, кого здесь стали уважать, оказался обыкновенным шпионом и подлецом. Лучше уйти из отряда «тишком-нишком», исчезнуть, раствориться. Ждал случая, когда пошлют в разведку,– пойду и не вернусь. Меня уже не раз посылали – выгодный я был разведчик, местный, все знал в округе. Но внезапно случилось непредвиденное – из нашей боевки к партизанам прибежало двое парней. Я увидел, как уже после допроса их кормила наша кухарка. Я убежал в лес, спрятался неподалеку от лагеря, дальше идти не решился,– могли задержать посты. Лагерь был на виду, я сидел и наблюдал, не ищут ли меня. Все было спокойно; перебежчики, насытившись партизанской кашей, пошли в лес оправиться, шли они в мою сторону, и я узнал их – это были те два брата, которых привели люди Стаха посмотреть на повешенного за отказ идти служить в нашу армию. Позже я узнал – их семьи вырезали польские националисты в отместку за жестокость УПА, и братья перешли к партизанам. Вернувшись в лагерь, братья завалились под деревьями. Я понял, что они не знают о моей засылке в отряд, но меня-то хорошо помнили, следовательно, нужно немедленно уходить. Пришел к себе в землянку и стал напряженно думать, как лучше это сделать. Соседи по нарам занимались кто чем, один что-то штопал, другой чистил автомат, трое резались в подкидного. Зашел Володя.
– Улас Тимофеевич,– смущенно проговорил он так, чтобы никто не слышал,– я заканчиваю маслом картину «Прилет на партизанский аэродром самолета». Это мое первое полотно. Хочу, чтобы вы посмотрели, по-моему, там не все у меня похоже...
Я прилег на нары.
– Не могу, Володя, сильно разболелась голова, как-нибудь другим разом.
– Я сбегаю в санпункт, возьму вам пилюль,– заботливо сказал Володя.
– Нет, нет, не надо,– увидев, что тот уже собрался бежать, возразил я.– Она пройдет, а картину я погляжу завтра.– И улыбнулся этому милому талантливому парню.
– Завтра меня не будет,– снова шепотом проговорил Володя.– Ухожу на задание, в разведку – объявился гарнизон немецких карателей.
– Один идешь? – стараясь не выдать своего волнения, спросил я.
– На такие задания ходят в одиночку или по двое, не больше, так легче немцев обмануть. А я хоть и длинный, но выгляжу на много младше своих лет.
– Я бы тоже пошел с тобой,– говорю я,– и не без пользы. Документы о моем директорстве при мне; они выданы в немецком учреждении, так что можно пожаловать прямо в немецкий гарнизон.
– Ух, это было бы здорово! – загорелся Володя.– А то мне приказано найти расположение гарнизона, залечь и наблюдать издали, сколько их, какой у них распорядок дня. А если они расположились где-нибудь за каменным забором, как узнаешь?
– Да-а-а,– неопределенно протянул я; мне хотелось, чтобы он сам попросил меня пойти с собой. Володя будто отгадал мои мысли.
– А что, если бы и вы со мной? Вы ведь в глубокую разведку еще не ходили, а привыкать надо.
Мы говорили об этом тихо, чтобы нас никто в землянке не услышал. Но соседи уже стали прислушиваться, любопытно было, о чем эти двое шепчутся. Поэтому я не ответил, только едва кивнул, закрыв глаза.
– Я сейчас же поговорю с дядей Яковом,– сказал Володя и убежал. О картине он забыл, она не была в то время главной в его жизни, главным была борьба с фашистами. Не знал тогда ни я, ни Володя, что это его первая картина будет и последней.
Командиры согласились, чтобы мы пошли на задание вдвоем. Вышли в полночь, миновали партизанские посты,– там были предупреждены. Я знал расположение постов УПА, и мы без труда обошли их. Всю дорогу думал, как бы избавиться от Володи, расстаться с ним так, чтобы у него не было ни малейшего подозрения о моем дезертирстве; признаться, было стыдно перед парнем. Отстать и раствориться в темноте, исчезнуть в ночном непроглядном лесу? Подозрительно. Больше ничего в голову не приходило. Уже у моего села решился было не на лучший, но все же верный вариант: попросить Володю, чтобы он подождал в лесу, мол, только на минутку забегу домой, чтобы увидеть сына да показаться жене, Володя не одобрил мое намерение.
– Нельзя,– сказал он.– Мы идем на задание. Вначале выполнение его, затем все остальное.
Володю назначили старшим, и я обязан был ему подчиняться. На задание полагалось идти без оружия, для большей безопасности – могли в дороге встретить немцы и обыскать, но у меня был припрятан под мышкой небольшой браунинг, с ним я не расставался, так было спокойнее. Раздобыл я его уже в партизанском отряде, выменял на пайковый табак у одного заядлого курильщика. В обойме было четыре патрона. Я мог сделать два выстрела на другом конце села и что-нибудь крикнуть, вроде «Володя, беги!». Он бы подумал, что меня убили, что я погиб, попал в засаду или что-то еще. Если же при обыске немцы или наши хлопцы обнаружат у меня браунинг – это не пугало, и те, и другие были свои. Но Володя и не соглашался отпустить меня. Он словно что-то заподозрил, дальше шага от меня не отходил и все время повторял:
– Мы сейчас одно целое, нельзя нам никуда врозь, разве что если вы пойдете в гарнизон к немцам. Тогда я вас подожду, это ведь задание. А домой – нет.
Я даже разозлился. И что это я пасую перед этим мальчишкой, моим вчерашним школьником. Вот придем к немцам, шепну какому-нибудь, что он партизанский разведчик, и руки у меня развяжутся. Думал об этом, но, конечно же, так не поступил; это было равносильно тому, чтобы привести его в наш лагерь и сдать прямо в руки Петра Стаха. Вот я и юлил, выдумывал разные уловки, чтобы как-то потеряться, не отдавал Володю врагам.
Еще в отряде командир сказал нам, где примерно должен находиться гарнизон немецких карателей. Точнее о его расположении мы узнали уже на рассвете от старика, пасшего недалеко от убогого хуторка коз. Оказывается, шли мы правильно. Гарнизон разместился в поселке на краю леса. Где-то здесь должен быть патрульный пост. Мы залегли, следя за пустынными улицами. В половине седьмого улицы стали оживать. Из приземистого длинного кирпичного здания, по виду школы, выбегали раздетые до пояса немцы, гонялись, гогоча, друг за другом. Выбежало их не меньше сотни – делали зарядку, а потом мылись; у забора поблескивал новенькими железными тельцами длинный ряд рукомойников. «Значит, немцы пришли сюда надолго»,– отметил я. По ту сторону поселка в низинке виднелись крытые брезентом машины. Мы гадали, что там – танки, броневики, орудия? Вряд ли просто грузовые автомобили, их брезентом не укрывали б. Все это надо было установить и определить численность карателей – ведь часть из них могла вернуться из карательной экспедиции поздно вечером и еще спала.
– Что будем делать? – спросил я у Володи, как у старшего.
– Надо подумать,– важно, подражая кому-то из взрослых, ответил он.– Одно мы уже сделали: нашли их. Как видно, дело тут серьезное, надо как-то пробраться в поселок. Это легче сделать мне – я выгляжу мальчишкой, вряд ли ко мне пристанут.
– А если все же пристанут?
– Скажу, ищу тетку,– усмехнулся Володя.
– Несерьезно,– строго заметил я.– У тебя вся жизнь впереди, жить тебе еще надо, Володя.
– Очень даже надо,– ответил Володя.– Я в роду Франько последний, род свой продолжить должен, так и дядя Яков мне говорил, поэтому я и буду жить.
– Тогда тем более пойду я.
– А если вас сцапают?
– Чего же им цапать меня, если я сам к ним приду, да еще покажу документы – директор школы. Там вон, за машинами, на крыше хаты торчит их флаг, наверное, в той хате что-то вроде штаба. Обойду поселок и прямо туда.
– И что вы им скажете, зачем пришли?
– С жалобой пришел. Скажу, в селе таком-то совсем распоясались поляки, устраивают репрессии против верных и преданных фюреру украинцев.
– У-у-у, вы говорите, как настоящий националист! – усмехнулся Володя.
– А то как же, я и выдам себя за националиста, не за партизана же мне себя выдавать.
Володя даже хохотнул в голос, я прикрыл ему рот рукой. А сам думал только о том, как избавиться от него, чтобы у этого мальчишки не осталось обо мне плохой памяти, а главное – чтобы он вернулся в отряд живой и невредимый.
– Если что со мной случится, иди обратно тем же самым путем, понял? Ни в коем случае не меняй маршрут, не то напорешься на какую-нибудь банду.
– Ничего с вами не случится,– тоном приказа произнес Володя.
– Повторяю: не вздумай идти в поселок, там сразу увидят, что ты чужой, обмануть их будет тебе трудно, это не просто солдаты, а эсэсовские каратели, тебе ясно?
– Ясно,– не очень охотно ответил Володя.
Обойдя поселок и уже собравшись возвращаться в свою боевку, я вдруг засомневался, что Володя послушается меня и, не дождавшись, уйдет в отряд. Да и найдет ли этот мальчик тропинки, где нет постов? Вряд ли, я исходил здесь все пути-дороги, бывая в разных боевках, и меня знают, может, кто из часовых и заметил, как мы шли, но не остановил, подумав, что раз этот хлопчик со мной, значит, он свой. Не знаю, как бы я в конце концов все решил, но в это время из крайней хаты вышла группа польских полицаев, один из них, видимо старший, направился прямо к дому, на крыльце которого висел флаг. Я обмер: если тут польские полицаи, значит каратели готовили акции против украинцев, надо немедленно бросить эту игру в партизанского разведчика, любым путем избавиться от этого мальчишки и немедленно бежать в свою боевку, предупредить Вапнярского, может, он сумеет предотвратить экзекуцию. Вскоре я снова был рядом с Володей; переждав одышку, рассказал ему все, как было, добавив, что ему надо немедленно возвращаться в отряд, а я буду следить, куда они пойдут, а потом сообщу об этом партизанам. Володя некоторое время молчал, затем произнес, несколько конфузясь:
– Приказано в отряд возвратиться вместе.
– Нельзя же так слепо следовать приказу – обстоятельства изменились, теперь нужна инициатива и гибкость,– рассердившись, едва не закричал я.
– Ничего не знаю,– упрямо твердил Володя.– Для меня есть только приказ!
– Ну, пошли.
Не знаю, расслышал ли он угрозу в моем голосе, если и расслышал, то, вероятно, отнес ее за счет того, что я был рассержен на него. Я почти бежал, думая теперь уже не об этом строптивом мальчишке, не отстававшем от меня ни на шаг, а о том, куда сейчас двинут каратели и как помочь тем несчастным людям, над которыми нависла страшная угроза.
Ту полянку, в цветах и солнце, следовало бы обойти,– она далеко просматривалась нашими постами, по ее краю проходила главная лесная дорога, по которой можно было ехать и машиной; но к нашему отряду, да и к советским партизанам так было ближе, и я, одержимый единственной мыслью – быстрее известить своих о готовящейся акции, рискнул пойти по ней. Володя не отставал; мы миновали поляну и, входя в лес, я уже благодарил бога, что нас не обнаружили, пронесло. Но в это время на густо поросшем сосняком взгорке, где у дороги наши обычно устраивали засаду, появился целый рой вооруженных хлопцев. Они стояли и спокойно ждали, пока мы пойдем.
– Тикать надо, бандиты! – схватил меня за руку Володя.
Мы метнулись в чащобу, сзади раздался голос:
– Улас, свои!
Не знаю, услышал ли эти слова Володя, вряд ли, не до того ему было. За нами погнались, крича, чтобы мы остановились. Мы снова выбежали на какую-то травянистую полянку, там было несколько конных, впереди – в своей неизменной шапке Петро Стах. Мы нырнули в кусты, но теперь я уже понял: нам не убежать, и закричал, что мочи:
– Стой!!!
Володя словно споткнулся, замер, не оглядываясь. Я выхватил браунинг, который уже давно переложил в карман, и торопливо, спеша, чтобы Володя не оглянулся, выстрелил в упор, целясь чуть ниже левой лопатки. Володя как-то присел, но все же повернулся, словно хотел посмотреть, кто же все-таки выстрелил в него, но этого он уже не видел – он еще не упал, а глаза его были уже закрыты.
Подъехали конники.
– Кого это ты тут пришил? – со смешком спросил Стах.
– Партизана. На задание вместе ходили. Вел к нам, да в последний момент он сообразил. Вот и пришлось...– что-то в этом роде лепетал я.
– Это ты зря, куда бы он от нас в лесу ушел! – с ворчливым укором сказал Стах и снова со смешком в голосе добавил: – Лишил ты удовольствия Юрка Дзяйла, давненько уже его удавка без дела...
– Гы-гы-гы,– лыбился Юрко.
Я поднял голову; он был пьян, едва держался в седле. И я не пожалел, что выстрелил в Володю,– тяжело себе представить, как издевался бы над ним Юрко.
– Ты вернулся с выполненным заданием или пришлось уйти раньше времени? – спросил Стах.
– Вынужден был уйти преждевременно,– сказал я.– В лагере обо всем доложу. А теперь главное, из-за чего я спешил в лагерь: появился новый отряд карателей, с ними польские полицаи, значит, будет акция против наших сел, надо срочно что-то предпринимать!..
– Нам уже все известно,– спокойно сказал Стах.– Вапнярский приказал не вмешиваться. Это акция в ответ на пущенные под откос советскими партизанами два эшелона. Потому и не следует вмешиваться, это нам не на руку. После акции агитаторы пойдут по селам и объяснят людям, что подлинные убийцы мирных жителей – не немцы, а советские партизаны.
Я молчал. Вспомнил Коваля и его слова. Стах звал ехать с ними в лагерь, кто-то пытался подсадить меня на коня, которого мне уступили по приказу Стаха, но я отказался.
– Дойду пешком,– объяснил я,– Вот закопаю...
– Это сделают без тебя, у тебя такой вид, будто ты потерял близкого друга,– сказал Стах, и все засмеялись.
– Нет, я сам,– с тупым упорством повторил я.
– Жизнь научит,– пошутил Стах.– Улас теперь, как Юрко,– сам порешил, сам и закопал.
И снова все смеялись; кто-то бросил мне немецкую шанцевую лопатку, которая вяло тюкнулась в темно-коричневую палую хвою рядом с чистым детским лицом Володи, так недолго топтавшего ряст на земле.
Я выкопал могилу, осторожно, словно ему могло быть больно, опустил в нее Володю, прикрыл труп ветками и листьями, потом загреб мягкой, смешанной с песком землей, постоял некоторое время над холмиком, огляделся вокруг. Почему-то захотелось запомнить это место, где я похоронил его; казалось, запомнил на всю жизнь. Возможно, я мог бы найти его могилу и сейчас... Хотя вряд ли: многие деревья за это время исчезли, другие выросли, и лежит под ними Володя, так рано ушедший в землю.
20.
Иногда думается: не такой ты, Улас, уж и старый, а здоровье у тебя никудышнее! Отчего бы это? Не пил, не курил, не прелюбодействовал, не был ни разу ранен, подолгу не голодал и от тяжелых болезней господь оберегал и в детстве, и всю жизнь; да и на работе не слишком надрывался, оттого что не любил свою работу, кроме той первой, учительства. Теперь у меня тоже нет особых забот – дети выросли, выучились, катит их жизнь по выбранной ими дороге. Внучка? Она для меня не обуза – скорее наоборот, услада и радость. Не такой я уж старый и дряхлый, а вот чувствую себя неважно: плохой сон, повышенная раздражительность, порой в голове звенящая боль, как от угара. Детям я ничего не говорю, они и не подозревают о моем нездоровье, а от жены-подруги Джулии ничего не скроешь, она все видит, все знает, постоянно торочит: сходил бы ты к врачам, в госпиталь; обследовали, отвалил кучу денег, на которые можно было бы на Украину съездить, но ничего страшного у меня не нашли, нет никаких особых отклонений от нормы, а если и есть, то это чисто возрастное; общий вывод – нервное переутомление. Отчего?! Говорят, оно бывает даже от однообразия, попробуйте переменить образ жизни, поезжайте в туристический поход, лучше на острова, где-нибудь в умеренном климате; можно и на юг нашей провинции. Конечно, юг Онтарио устраивал меня больше – дешевле и ближе. Но одному ехать не хотелось; кого бы взять с собой? Лучший вариант – Джулия, но она связана внучкой. Тарас работает, а отпуск привык проводить с Да-нян на Гавайях. С Джеммой мне будет неуютно, я с ней чувствую себя как-то напряженно, хотя она и относится ко мне лучше, чем к кому-либо другому из членов семьи. Выбор свой я остановил на Калине, доброй и заботливой, как и ее мать. Дорожные расходы я брал на себя. Стал ей звонить, но телефон и днем и вечером молчал. Куда-то уехала, но почему не известила об этом нас? Позвонил Джемме, та сказала, что у Калины контракт в Сент-Кетеринс, что-то связано с отельным джазом, и если она мне очень нужна, лучше туда поехать – дозвониться в этот отель из Торонто почти невозможно.
– Может, тебя отвезти? – заботливо спросила Джемма.
Я отказался, поехал автобусом. Признаться, я давно уже не ездил автобусом и, сидя в мягком удобном кресле, с наслаждением подставлял лицо ветру, тугой струей влетавшему в открытое окно, за которым простирался давно знакомый мне пейзаж, никогда не раздражающий меня своим однообразием, привычный, как вид из окна твоего дома. Автобус остановился неподалеку от отеля. Портье довольно пренебрежительно глянул на меня, назвал мне номер, где поселилась дочь; это было на втором этаже. Прежде чем подняться туда, я прошел в туалет, довольно запущенный,– туалетная бумага над умывальником, заменявшая полотенце, была грубой, самого низкого сорта. Заглянул я и в зал бара, дверь туда была открыта; как и в других барах, справа у входа – стойка, в просторном зале тесно стояли столики, пустовавшие в дневное время; посреди торчал невысокий, как боксерский ринг, помост с лесенкой со стороны входа. Заглянул мельком и в соседний, смежный зал, там и вовсе мне не понравилось – дым коромыслом, как говорили у нас в Крае, на окнах – недопитые бутылки с пивом, возле биллиарда двое в майках, с киями в руках, и пьяно глядят друг на друга, руки и плечи у них в татуировках, изо рта вместе с сигаретным дымом извергаются ругательства. У меня вдруг тревожно сжалось сердце от какого-то недоброго предчувствия. Забыв о возрасте, я взлетел по крутой лестнице на второй этаж, постучался в указанный мне номер и, лишь услышав голос дочери, ее веселое «войдите», вытер рукавом пиджака взмокший от волнения лоб и толкнул дверь.
– О, папочка! – Смущенная моим внезапным вторжением, но все равно обрадованная, Калина бросилась обнимать и целовать меня.
От ее легкого халатика, от модно уложенных волос и хорошо ухоженного нежного лица пахло отличными духами, зубы, обнаженные улыбкой, сияли белым кафельным блеском, вероятно, не обошлось без зубного лака, а в глазах – едва заметными перламутровыми искорками слезы, такие бывают от счастья и радости.
– Каким ветром? С кем ты приехал и как меня нашел? – И тут же тревожно: – Что-нибудь случилось?
– Случилось, доченька, случилось,– успокоенный, что Калина здорова и вполне благополучна, безо всяких предисловий сказал я.– Хочу развеяться, побывать на юге Онтарио. Тебе тоже есть что вспомнить, кажется, там у тебя было что-то романтическое. Вот я и хочу, чтобы ты составила мне компанию; одному ехать неохота. Прибыл узнать, когда ты будешь свободна.
– Что это тебя вдруг потянуло на туризм? – медленно спросила она, точно раздумывая, что мне ответить.
– Подробности потом.
– Верно,– услышав в коридоре шаги, вдруг заторопилась она.– Я с тобой с удовольствием поеду, но нужно кое с кем согласовать, у меня, папа, контракт.
Только теперь до меня дошло, что я даже не спросил ее, почему она здесь, в номере, а не у себя дома, что это у нее тут за работа. Дверь открылась, в дверях стоял неопределенного возраста мужчина с довольно поношенным и напудренным лицом; он кивнул мне здороваясь, и вежливо, но довольно строго сказал:
– Мисс, не опаздывать.
– Мне пора, папа.
– Хоть в двух словах объясни, что ты тут делаешь, какая у тебя работа?
– Я подрабатываю в оркестре, тот же рояль, неплохие деньги, однако поздно возвращаться домой небезопасно; вот я и снимаю этот номерок здесь же, в отеле,– и дешево, и сердито.– Она рассмеялась, сбросила халатик, оставшись в светящихся насквозь трусиках и в узеньком, как лента, бюстгалтере. Меня всегда трогало, что Калина, как и в детстве, никогда меня не стыдилась; набросила висевшее на дверце шкафа приготовленное платье, и оно мгновенно скользнуло по ее тонкому красивому телу.
– Вот я и готова. Пошли. У нас репетиция.
– Можно послушать?
– Что ты! Режиссер ужасно сердится, когда присутствует кто-нибудь посторонний. Да и меня это будет сковывать, я ведь еще и пою.
– Ну, хоть за дверью послушаю.– Мне так не хотелось расставаться с Калиной. Но она проводила меня на улицу, до угла гостиницы, постояла у входа и, окончательно убедившись, что я не вернусь, ушла в отель.
Калина мне позвонила в тот же день поздним вечером и обрадованным голосом сообщила, что ей удалось уговорить своего менеджера отпустить ее, сказала, будет звонить мне каждый день и поедет, как только я сообщу ей точную дату. Через несколько дней мне удалось через знакомого чиновника устроиться на экскурсию работников прессы этнических групп по южному Онтарио. Сообщил об этом Калине, она тут же примчалась на своем авто. Выйдя из машины у нашего дома, похлопала по капоту своего полуспортивного «бьюика».
– Я его хорошо подготовила, отличный мастер попался, так что в дороге не подведет,– говорила Калина.
– Нет, дорогая, на сей раз ты оставишь машину в гараже, мы едем туристским автобусом, наконец-то я спокойно поезжу с тобой, не волнуясь, что мы куда-нибудь врежемся.
– О, я с удовольствием! – искренне сказала Калина.– Я тысячу лет не ездила автобусом.
На следующее утро вместе с работниками прессы этнических групп мы собрались перед зданием провинциального парламента. Все было обставлено торжественно и на высшем уровне – умеют наши провинциальные власти делать показуху. Министр по туризму и координатор по министерству от имени премьера нашей провинции пожелали приятного путешествия, заверив, что экскурсия принесет участникам много интересных впечатлений, а канадские граждане разных национальностей узнают из своих газет и журналов о жизни провинции. Потом наш сопровождающий, представитель Министерства туризма, проверил список экскурсантов, еще раз пожелал нам счастливого путешествия, и мы дружно проскандировали «до свидания!».
– Ну, здравствуй, Калина,– обнял я дочь, едва мы уселись рядом и автобус тронулся.– Наконец мы с тобой вдвоем, как и много лет тому назад, когда ты была еще маленькая и влюбилась на Ниагара-Фолс в индейского мальчика, да еще хотела выйти за него замуж! Представляешь, у тебя были бы уже взрослые дети!
Калина грустно улыбнулась, хотела что-то ответить, но в это время сзади нас раздался всхлип и низкий грудной голос:
– Прошу у пана прощения, но я услышал родную речь и обрадовался, значит, я не один тут украинец. Будем знакомы, Павло Цюра, журналист; представляю нашу газету «Шлях перемоги».