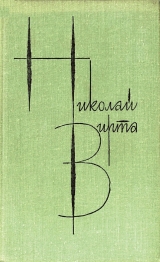
Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
Неужто все они там потеряли разум? Но, бог мой, а мой-то разум при мне ли? Так же он ясен, как некогда? Что мне ждать? На что рассчитывать?»
Прошел ноябрь, наступил декабрь, деблокирование окруженной армии провалилось, войска почти потеряли боеспособность, генерал-полковник шлет одну радиограмму за другой, требуя разрешения выйти из котла. Еще было достаточно автомашин, чтобы погрузить часть пехотных дивизий и увезти с собой раненых, еще было двести танков для прорыва… И снова приказ фюрера: «Каждый солдат шестой армии вступит в новый год с твердой верой в то, что фюрер не оставит на произвол судьбы героических бойцов на Волге…» И генерал-полковник верит! Верит, словно забыты пощечины, словно впервые фюрер обманывает его, армию, народ…
Он созывает своих генералов, и те мрачно слушают командующего.
– Господа генералы, – резким тоном отвечает он еще на один призыв Зейдлица следовать велению совести, – всякий мой самовольный выход из общих рядов или сознательные действия против отданных приказов означали бы принятие с самого начала ответственности за судьбу соседних войск, а в дальнейшем – за судьбу южного участка и тем самым всего Восточного фронта…
Генералы курят и продолжают мрачно молчать, упершись глазами в пол. Что им до Восточного фронта? Они не хотят подыхать здесь, на этой реке.
Командующий продолжает:
– Это означало бы, что в глазах всего немецкого народа на меня, по меньшей мере внешне, ляжет основная часть вины за проигрыш войны. Вооруженные силы и народ не поймут такие действия с моей стороны. По своим последствиям они представляли бы собой исключительно революционный, политический акт против фюрера. Такая мысль не входит в мои личные соображения. Она чужда моей природе. Я солдат и считаю, что именно послушанием служу своему народу… Перед войсками и вами, командирами армии, а также перед немецким народом я несу ответственность за то, что до конца выполняю приказы, отданные мне верховным командованием об удержании позиций.
Генералы расходятся молча. В их душах – буря, но пойди выйди из повиновения! Кто знает, может, русские не такие уж исчадия ада, чтобы расстреливать всех пленных… Стало быть, есть надежда… Но какая может быть надежда снасти жизнь, если тебя поставят к стенке только за один намек на капитуляцию?
…И вот Гитлер вызывает к себе генерала Хубе. Паулюс читает ему перед вылетом длинное наставление. Он просит Хубе рассказать фюреру о бедственном положении солдат, о тысячах раненых, остающихся без присмотра, без врачей и медикаментов, о голоде, психозе страха… Пусть Хубе умоляет фюрера увеличить снабжение армии самолетами…
Хубе кивает. Самолет готов к вылету. Генерал-полковник кричит ему еще что-то. Дверь закрыта, самолет улетает. Проходят дни. Хубе возвращается. Да, он видел фюрера и говорил с ним. Вот их разговор.
– Но рейхсмаршал Геринг заверил меня, что снабжение армии идет нормально!
– Это не совсем так, мой фюрер.
– Пусть он сам скажет вам. Вызвать рейхсмаршала! Здравствуй, Герман. Повтори, можно ли осуществить полное снабжение армии Паулюса по воздуху?
– Адольф, разве ты сомневаешься в том, что ВВС справятся со снабжением армии?
– Этого быть не может, господин рейхсмаршал, и вы отлично это знаете!
– Вы некомпетентны в этих делах, черт побери. Я клянусь, Адольф, понимаешь, клянусь.
– Господин рейхсмаршал, сколько тонн необходимо перебрасывать каждый день армии?
– Это что, допрос? – Тучный живот снова заколыхался от ярости. – Он устраивает мне допрос, этот генерал, подчиненный генералу от паники!
– Нет, господин рейхсмаршал, это лишь вопрос. При суточной норме снабжения, скажем, в количестве одного килограмма двухсот двадцати пяти граммов продовольствия на человека, по десяти снарядов на орудие каждый день надо доставлять в окруженную армию от тысячи до тысячи двухсот тонн грузов. Фюрер, этот расчет сделан фельдмаршалом фон Манштейном…
– Мы будем перебрасывать каждый день тысячу тонн, Адольф!
– Это невозможно, мой фюрер. В течение всей операции войскам Паулюса в среднем каждые сутки доставляют девяносто пять тонн разных грузов. Это в двенадцать раз меньше того, что требует обстановка в котле. Господин рейхсмаршал тешит вас, мой фюрер, несбыточными обещаниями.
– Ах, так?.. – Поток ругательств и оскорблений. Хубе стоит молча. – Адольф, я сам поведу первый самолет с грузом для армии генерала, которого давно бы надо расстрелять! Этот кабинетный стратег… Этот пожимающий плечами!.. – Рейхсмаршал задохнулся от злости.
– И тем не менее позвольте не поверить, что вы можете перебрасывать такое количество грузов, господин рейхсмаршал!
– Я и Герман – одно вот уже двадцать лет. Довольно! Возвращайтесь в армию и скажите ее командующему, что я запрещаю разговоры о капитуляции! – Резкий взмах рукой вверх.
– Хайль Гитлер! – Хубе уходит.
– …Адам, сколько тонн грузов доставлено сегодня рейхсмаршалом? – очнувшись, обратился генерал-полковник к адъютанту.
– Сегодня была нелетная погода, господин командующий.
– Вчера?
– Ничего.
– Позавчера?
– Ничего.
– Завтра?
– Кто знает.
Молчание.
– Хайн!
– Слушаю вас, господин командующий. – Хайн пулей вылетел из своей клетушки.
– Хайн, будем обедать. Генерал Шмидт пообедает со мной.
– Я бы предпочел…
– Итак, вы будете обедать со мной, Шмидт. Хайн, убери со стола коньяк. И не разбей бутылку, увалень.
Хайн выскочил в коридор.
Шмидт сказал:
– Я слышал, хм… что вы подарили новогоднего гуся раненым?
– Да. Хайн пережарил его. Гусь попался несколько тощий. Вероятно, он был стар и гусыни давно не имели от него утех. Но под коньяк кусочек гусятины прошел славно. – Генерал-полковник усмехнулся, отчего глаз его дрогнул и веко запрыгало, как сумасшедшее.
– Вы неисправимый идеалист, – сказал Шмидт, пряча досаду. Теперь было ясно, что гуся действительно нет.
– Идеалист?
– Да еще какой! Этим поступком вы лишь восстановили раненых против себя. В госпитале, куда вы отослали гуся, триста раненых, в том числе половина – безнадежных. Гуся – это я точно знаю – можно разделить не более чем на двенадцать частей. Значит, двенадцать раненых будут есть гусятину, а двести восемьдесят восемь – проклинать вас.
– Вы очень сведущи в арифметике, – заметил Адам.
– И в человеческой психологии, замечу.
– Вот как?
– До войны я был знаком с многочисленными учеными, главным образом психологами. Моя жена специалист по этой части. Я вращался в их кругу, и они охотно делились со мной наблюдениями над природой человеческой души. Затем я занялся этим сам, и не без успеха. По крайней мере, жена отмечала мои необычайные способности к анализу и самоанализу.
– Скажите! – притворно восхищенно сказал Адам.
– Кроме всего прочего, я знаток живописи, с вашего разрешения, – добавил Шмидт.
– Вот бы вам изобразить сцену в госпитале, когда господин командующий раздавал ордена. Это была бы жестокая, но правдивая картина. Потомство оценило бы вага труд, – вставил Адам.
– Смею спросить: это было в том самом госпитале, куда вы, господин командующий, отправили гуся?
– Так точно. Так точно, Шмидт, там.
– Насколько я знаю, вы тоже занимаетесь живописью, господин командующий?
– О, просто балуюсь.
– И вам ли не взяться за изображение такой картины: двенадцать раненых со смаком делят ваше угощение, а двести восемьдесят восемь – смотрят, как те обжираются гусятиной.
– Да, это была бы первоклассная картина, – согласился генерал-полковник.
– Жестокая и правдивая, не так ли?
– Но я плохой знаток человеческой психологии, Шмидт, и у меня получилось бы нечто отвратительное. Натурализм – кажется, так называется это течение в искусстве? Впрочем, вам ли не знать.
Шмидту нечего было сказать, но и придраться было не к чему. К тому же явился Хайн с подносом.
Генерал-полковник встал с койки, устало потянулся.
– Что у вас сегодня на обед, Хайн? – спросил Шмидт.
– Первоклассные блюда, господин генерал-лейтенант! – Хайн расстилал на письменном столе скатерть и ставил приборы, походные приборы, которые он таскал по длинным путям войны сначала с неудачником Рейхенау, теперь с этим незадачливым генералом.
– Стало быть, обед будет из тех продуктов, которые нам прислал господин рейхсмаршал, мальчик? – заметил Адам.
Хайн расхохотался. Он не вращался среди психологов, не умел – увы! – скрывать свои чувства, анализ и самоанализ тоже были чужды ему. Он просто мечтал о вечернем пиршестве.
– Что ты смеешься, идиот? – накинулся на него Шмидт.
– Почему бы ему и не посмеяться, Шмидт? Он моложе нас больше чем наполовину. Вероятно, и вы в его возрасте часто смеялись беспричинно.
– Он смеялся над рейхсмаршалом! – побагровев, выкрикнул Шмидт. – Он издевается над ним!
– Побойтесь бога, Шмидт! – Лицо генерал-полковника хранило полную невозмутимость. – Разве я допустил бы издевательство над великим человеком в моем присутствии? Хайн просто неловкий малый и с придурью. В следующий раз он остережется смеяться не ко времени.
– Так точно! – весело ответил Хайн. – Прошу к столу.
Сели.
Трижды звякнуло горлышко бутылки о края рюмок.
– Хайль Гитлер! – раздался звучный, не по летам молодой голос Шмидта.
– Хайль Гитлер! – вяло сказал генерал-полковник.
– Хайль Гитлер, – пробормотал Адам.
Выпили.
Хайн сделал губами звук, будто выпил и он.
Адам рассмеялся и налил рюмку.
– Выпей, Хайн. За что ты будешь пить?
– За гуся! – ответил Хайн.
– Он уплыл в животы раненых, – шутливо заметил Шмидт.
– Гусей еще много на свете, господин генерал-лейтенант. Есть гусь, который важно похаживает на воле. Но я доберусь и до него. И попорчу ему настроение, будьте уверены.
Генерал-полковник не мог попять двусмысленных слов ординарца, но Шмидт очень хорошо понял их. Однако он предпочел пропустить угрозу мимо ушей, прилежно занялся едой, и это несколько улучшило его настроение.
– Закуска к новогоднему обеду командующего армией могла бы быть несколько обильнее, – процедил Шмидт.
– Что вы, Шмидт! Королевская закуска, – рассеянно проговорил генерал-полковник. Он не замечал, что ест. Его знобило, хотелось лечь. Он выпил еще рюмку коньяку и отправил в рот кусочек мяса, поданного в качестве закуски перед последующими блюдами.
Шмидт обнюхал мясо.

– Это что, Хайн? – спросил он.
– Конина, господин генерал-лейтенант. Бывшая румынская кавалерия, с вашего разрешения! – Хайн хихикнул.
Командующий строго взглянул на него.
– Неужели вы едите эту мерзость? – разнервничался Шмидт.
– Эту мерзость ест вся армия, господин генерал-лейтенант. Если я не ошибаюсь, ее тоже осталось очень мало. К сожалению, мы не можем угостить вас парижскими трюфелями, голландской телятиной, швейцарским сыром, устрицами, омарами и анчоусами.
Хайн ухмыльнулся втихомолку на эти слова Адама.
– Однако в свое время вы вдоволь полакомились всем этим. Ваш великолепный марш по Франции доставил вам много удовольствий, не так ли? – Глаза Шмидта заразительно весело блеснули.
8. Приятные воспоминания о прогулках во Франции– Да, во Франции было совсем иначе, Шмидт, совсем, совсем иначе! – как бы про себя проговорил генерал-полковник и замолчал, вспомнив майскую ночь сорокового года, когда взвыли двигатели бомбардировщиков, истребителей, танков и гигантская машина ожила, зашевелилась, ринулась вперед и опрокинулась на города и деревни Франции.
Топча поля, покрытые зеленью всходов, уничтожая виноградники, взрывая дома, заводы и старинные соборы, предавая огню все, встречающееся на пути, подавляя отдельные очаги сопротивления, сея смерть, расстреливая сверху и с земли неисчислимые толпища беженцев, давя танками бегущих солдат, преданных изменниками-генералами, подлыми политиками и продажным стариком маршалом, германская армия лавиной мчалась через департаменты, форсировала реки, без боя занимала крепости, грабила и обжиралась, упоенная победой, доставшейся столь легко.
И он, генерал-полковник, был во Франции, видел ее падение, кресты на обочинах шоссе над могилами мирных людей, слушал плач детей, потерявших родителей, рыдания женщин, вопли помешавшихся с горя мужчин, солдат, подавленных бесчестием, выпавшим на их долю, оборванных, голодных, покинутых командирами и бредущих невесть куда.
Паулюс равнодушно наблюдал страдания людей, ни за что ни про что подвергавшихся разбойничьему нападению под прикрытием ночи. Он так же равнодушно слушал стоны раненых, валявшихся в кюветах, душераздирающие вопли женщин, на глазах которых умирали их дети, убитые шальной пулей или осколком бомбы.
Конечно, эта картина не доставляла ему эстетического наслаждения, но и не мешала безмятежно отдыхать в очередном старинном замке, а после ужина и изрядной выпивки крепко спать под старинным балдахином на старинной постели какого-нибудь барона.
Кровь, слезы и пепелища казались ему такими естественными – ведь это же война, черт побери!
Генерал-полковник не давал себе труда подумать о том, что и он соучастник разбойничьего похода и на него падут кровь и слезы истребляемых людей. Он ведь подчиняется приказу!..
Жестокость? Но бог мой, кто же воюет в белых перчатках? Ведь тогда не склонила бы свои знамена Франция и не лег к стопам победителя Париж…
Да, там все было иначе!
В те дни генерал-полковник просто был вне себя от недоумения, читая сообщения разведки о том, что делалось в высших правительственных кругах Франции. Пять-шесть первых дней стремительного натиска вермахта еще не означали трагического исхода кампании. Утверждалось, что у правительства были все возможности изменить обстановку и соотношение сил: ресурсы страны неограниченны, резервы на подходе, оружия вполне достаточно, чтобы противопоставить его военной громаде фюрера.
Но как раз в те самые дни чудовищная паника охватила верхушку Франции. «Мы проиграли битву! – вопили продажные политики. – Дорога на Париж открыта!» Им вторил сам главнокомандующий генерал Гамелен. Он больше не отвечал за безопасность столицы Франции. Пораженчество, как известно, немедленно оборачивается изменой. И она не замедлила быть. Началась лихорадочная перетасовка в правительстве. К великой радости фюрера, заместителем премьер-министра был назначен маршал Петэн – фашисты уже давно прочили его в диктаторы. Еще будучи послом Франции в Испании, Петэн восторгался фашистской системой и бродил успехами Гитлера. Лаваль – этот предатель из предателей, Иуда из Иуд – только и мечтал о союзе и дружбе Франции с фашистской Германией. Не отставал от них генерал Вейган, срочно назначенный главнокомандующим вместо Гамелена. Этот никогда не скрывал своих пылких чувств к фюреру и ненависти к Советам. Еще не приступив к обязанностям главнокомандующего, Вейган сказал, что он будет не прочь «согласиться на разумное перемирие».
Французские милитаристы, страшившиеся народного восстания, готовы были по сходной цене продаться Гитлеру, лишь бы подавить возмущение народа.
Сговор фашистского «первосвященника» Гитлера и иуд французских близился к завершению. Через сорок четыре дня после начала операции Петэн стал главой изменнического правительства Франции. Двадцать второго июня Гитлер поставил на колени Францию. Падали знамена, овеянные славой отгремевших битв, без боя сдался Париж; воды Сены не возмутились, видя еще одно нашествие гуннов.
Франция – колыбель революции, Франция Дантона и Вольтера, Марата и Гюго, Робеспьера и Бонапарта, Дидро и Жореса – пала так низко!.. Но дети Конвента восстали. Прозвучали вновь звуки «Марсельезы». Тысячи людей, вооруженных мужеством и любовью к родине великих идей, тайно и явно сражались с коричневой ордой. Они верили тогда, что милитаристский рейх будет уничтожен, что не останется реваншистов, что никогда Франция не позволит солдатам рейха топтать своими сапогами ее прекрасные поля…
…Никогда ли?
Да, это случилось ровно за год до вторжения фашистских громил на русскую землю… И думалось тогда фюреру и тем, кто разрабатывал план порабощения России, что и здесь найдутся свои Петэны, Лавали и Вейганы, что не пройдет месяца, как «колосс на глиняных ногах» развалится.
Разумеется, в те времена сногсшибательных побед, которые и радовали и страшили своей неожиданностью фюреров рейха, генерал-полковник не мог думать, что в России все будет иначе, да, все иначе, все решительно!
– Да, да, Шмидт, – тоном глубокого сожаления сказал генерал-полковник, – в Польше, Бельгии и во Франции все было далеко не так. – Он вздохнул.
– Не знаю, как вы, а я тогда командовал дивизией, и мы лихо попировали! – ответил Шмидт, сладострастно потирая руки. – Трюфели, устрицы, шампанское! Вот роскошь!.. Да, это была славная кампания.
– Я никогда не пробовал трюфелей и устриц. Мне говорили, что это похоже на лягушек, – вмешался в разговор Хайн. – Зато и у нас сегодня такой обед – пальчики оближешь! На первое – первоклассный картофельный суп, господин генерал-лейтенант. Правда, картошка подмерзла, но и ее едят там, в окопах и дотах.
Пройдоха Хайн приготовил отличный обильный обед – у него еще было кое-что в запасе для шефа. Однако, зная наперед, что генерал-полковнику неможется и вряд ли он будет есть и что трапезу с ним разделит начальник штаба, Хайн решил подать вместо приготовленного обеда тот, который едят сегодня и будут есть завтра офицеры, охранявшие штаб и особу командующего. Донимать Шмидта, донимать чем попало, отныне стало главной задачей Хайна. И это ничем не грозило ему. Ни для кого не было секретом, что штабные не жалуют Шмидта, называют его за глаза Иудой, генерал-Вралем, а многие уверяют, что Шмидт злой гений командующего и всей армии. Таким образом, Хайн ничем не рисковал, поставив на стол, чтобы поиздеваться над Шмидтом, похлебку из гнилой картошки.
Генерал-полковник, лоб которого покрылся испариной, сказал, что не хочет есть, и прилег на койку. Хайн заботливо укрыл его шинелью, потом принес из клетушки плед, набросил его сверху и подоткнул края с боков.
Шмидт с мрачным видом хлебал отвратительный суп, за которым последовал кусок жареной конины с раскисшим соленым огурцом. Он проклинал себя за то, что согласился обедать с командующим, но, соблюдая этикет, молчал. Запив обед эрзац-кофе, Шмидт сказал:
– Не найдется ли у вас лишней сигары, господин генерал-полковник? У меня все вышли. – Из нагрудного кармана кителя торчала сигара, положенная туда перед тем, как пойти к командующему. Шмидт забыл о ней.
– Адам, передайте генералу сигару. Они в верхнем ящике стола.
Адам вытащил две сигары и, передавая их Шмидту, заметил вполголоса:
– Одну из них вы можете присоединить к той, которая у вас в кармане, господин генерал-лейтенант.
Пришла очередь Шмидту покраснеть до корней волос.
Хайн, подумав про себя: «Получил, сукин сын?» – принялся убирать со стола.
Сигара была настоящая, крепкая и ароматная. Она успокоила Шмидта. Он курил в полном молчании. Командующий дремал.
9. Баловень судьбыКогда Хайн ушел, Шмидт сказал:
– Я сегодня сидел в одиночестве и размышлял… Вы баловень судьбы, господин генерал-полковник. Черт побери, на вашу высокую долю выпала разработка плана грандиозного похода от границ рейха до великой русской реки. И вам же выпало счастье осуществить этот поход.
Генерал-полковник заворочался на койке. Перед ним возник летний, залитый солнцем день в Берлине, громадный кабинет, который он занимал в военном министерстве, паркет, покрытый шведским лаком и ослепительно блестевший – широким полотном лежал на нем солнечный луч.
Утром его, обер-квартирмейстера (или начальника оперативного управления, что одно и то же), вызвал начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер и приказал проанализировать план вторжения в Россию, названный «Барбаросса». Гальдер сказал, что этот план кое в чем не удовлетворяет фюрера. Речь шла о том, чтобы молниеносным ударом ста – ста двадцати дивизий захватить Москву, Ленинград, Украину и, двигаясь сплошным фронтом, выйти на линию Астрахань —. Архангельск.
Генерал-полковник, разумеется, знал, что разговоры о «Барбароссе» велись в генеральном штабе еще с весны сорокового года. Он слышал о плане блиц-разгрома вооруженных сил России и ликвидации ее как государства. Фюрер отдавал советский Север Финляндии, устанавливал протектораты в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии, решил загнать русских за Урал, а на путях войны расстреливать большевистских комиссаров и коммунистическую интеллигенцию, уничтожить как можно больше славян. Да, все это было ему известно, но он никогда не думал, что это так серьезно.
Чтобы удостовериться в том, он спросил, как бы между прочим, Гальдера:
– Разве пакт о ненападении утратил свою силу?
– Нет, он еще действует, но фюрер заявил, что соглашения следует соблюдать лишь до тех пор, пока они служат определенной цели. Дело в том, коллега, что фюрер освобождает наш разум от грязных самоотравлений химерами, именуемыми совестью и нравственностью. Это во-первых, коллега. Во-вторых, если политик, я говорю о фюрере, не находит больше возможности устранить опасные противоречия с Россией дипломатическими средствами, тогда у него нельзя отнять право решить задачу защиты собственной страны против враждебного вторжения с помощью нападения.
– Позвольте, разве Россия намерена напасть на нас?
– Да, мы знаем это из достоверных источников.
– Можно познакомиться с ними?
Молчание.
– Но буквально на днях, коллега, вы сами говорили о невероятности развязывания инициативы со стороны русских и что не стоит предпринимать слишком поспешные меры. Более того, вы заявили, что это совершенно невероятно. Я говорю о нападении России на рейх.
– Фюрер считается только со своим мнением, коллега.
Разве фюрер забыл слова генерала Секта, предупреждавшего, что если Германия начнет войну против России, то она будет вести безнадежную войну? Разве фюрер не знает мнения Секта, что Россия не может погибнуть?
Гальдер усмехнулся.
– Ну, вы известный приверженец идей Ганса Секта. Вы, но не фюрер.
– Тем не менее я бы взял смелость напомнить ему о предупреждении Секта, пока не поздно.
– Увы, поздно. Итак, займитесь планом.
И генерал-полковник занялся им. Уже в октябре сорокового года он доложил об основном замысле операции, решение которой возлагалось на группы армий «Север», «Центр» и «Юг». Он участвовал в бесконечных совещаниях у Гитлера и в генеральном штабе. Он проводил военные игры и оставался доволен ими. И все же его не покидала мысль предупредить фюрера и снять с себя хоть часть ответственности за то, что произойдет, повернись дело худо. Но подходящего случая не находил. Впрочем, поглощенный разработкой стратегии и тактики «плана Барбаросса», окруженный людьми, свято верящими в успех будущей кампании; он отмахивался от гложущей его мысли… Да и напористость шефа не оставляла времени для раздумий.
Генерал Гальдер, между прочим, страдал общечеловеческой слабостью: он вел дневник, нимало не помышляя, что в свое время его записи могут стать достоянием гласности. Тщетно искать в них описание пейзажей, характеров, проникновения в человеческую душу, каких-либо лирических или философских отступлений, чем полны дневники простых и не совсем простых людей. Гальдер был генералом. Немецким генералом, добавим. Пунктуальным. Педантичным. Предельно лаконичным. Кроме того, дневник был служебный и доступный самым высшим чинам генерального штаба сухопутных войск рейха.
Генерал-полковник, один из руководящих работников штаба, просматривал дневник шефа; он заключал в себе порой директиву, порой записи того, что сделано и что надлежит сделать. Так сказать, памятные наброски не слишком распространительного характера. Например, тридцатого июня 1940 года Гальдер отметил, что, по его мнению, для устройства мира на земле решительно никаких реальных предпосылок нет. Затем шла зловещая фраза: «Взоры всех устремлены на Восток». Но Восток, то есть Россия, находился не на какой-нибудь другой планете и не вне общеполитического положения. В общеполитическом положении фюрера очень беспокоила Англия. Третьего июля шеф штаба преподает своим подчиненным урок, утверждая, что «в настоящее время на первом плане английская проблема, которая будет рассматриваться отдельно, и восточная проблема. К последней следует подходить с главной точки зрения: как нанести России военный удар, чтобы заставить ее признать господствующую роль Германии в Европе».
Несколькими днями раньше, задумавшись над тем, как повернее нанести этот удар, шеф генштаба, заранее облизываясь, записал, что наибольшие возможности сулит наступление на Москву, после чего – обход с севера русской группировки, находящейся на Украине и на Черноморском побережье. Неделю спустя шеф генштаба поделился сладкими мечтами с фюрером в его Бергофской резиденции. Фюреру спать не давала проклятая Англия! Он поучал Гальдера и всех, кто в тот день был у него: «Если Россия будет разбита, у Англии исчезнет последняя надежда. Вывод – Россия должна быть ликвидирована. Начало операции – весна сорок первого года. Срок – пять месяцев. Цель – уничтожение жизненной силы России».
Генерал Гальдер, воодушевленный вещими словами фашистского верховного жреца и прорицателя, утроил свои усилия. Первого сентября он вызвал Хойзингера – да, да, того самого! – и еще кое-кого. Они рассматривали проблему группировки сил на Востоке, в связи с этим – передислокацию войск на Западе… Прошло два месяца, и Гальдер лаконично отметил в дневнике: «Паулюс доложил об основном замысле операции». Это было двадцать девятого октября, а через пять дней Гитлер вызвал Гальдера, Кейтеля, Иодля. Очевидно, он был недоволен темпами подготовки вторжения. Он снова вдалбливал в головы генералов, что Россия остается главной проблемой Европы, что должно быть сделано все, дабы быть готовым к расчету с ней.
И Гальдер начал подстегивать подчиненных. В начале декабря проигрывались составленные Паулюсом этапы военной игры, а двадцать третьего января сорок первого года Гальдер докладывал фюреру: «Разработка указаний по стратегическому развертыванию «Барбароссы» – закончена». Фюрер приказал исправить кое-какие детали. В середине мая он снова вызывал Гальдера и Хойзингера и поставил кое-какие точки над «и». Не стесняясь, Гитлер последними словами обложил своих сателлитов: «От финских войск можно ожидать только атаки на Ханко… На Румынию рассчитывать вообще нечего – румынские соединения не имеют наступательной силы. Венгрия тоже ненадежна, а словаки тем более – ведь они славяне. Использовать их в качестве оккупационных частей, это еще куда ни шло». Вывод по известной поговорке: «Я да ты, да мы с тобой»… Однако, кроме немецких армий («С уверенностью мы можем рассчитывать только на них» – это сказал фюрер), кроме танков, авиации и прочего оружия, он приказал расширить производство химических боеприпасов. Двадцать пятого марта Гальдер всеподданнейше доложил, что к «первому июня мы будем иметь два миллиона химических снарядов для легких полевых гаубиц и пятьсот тысяч для тяжелых».
И вот наконец огромное сборище у фюрера двадцать седьмого марта. «Почти трехчасовая речь «самого», – записывал шеф генштаба в дневнике. – Фюрер воспламенен! Ему море по колено! Он только и говорит о том, что существование второй великой державы на Балтийском море нетерпимо. Россию надо ликвидировать. Тем более, мол, теперь на нас работает вся Европа! Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция только тогда будет иметь успех, если мы одним ударом разгромим это государство. Тогда господство Германии в Европе и на Балканах обеспечено. Создание военной русской державы по ту сторону Урала не может стать в повестку дня, хотя бы нам пришлось для того воевать сто лет. Фюрер решил также, что он не позволит носить оружие всем этим славянам – русским, полякам, чехам, болгарам, а также французам, казахам и прочим дикарям. Оружие останется только в руках немцев. Только они имеют право владеть им, и это оружие во всей силе мы употребим в России. Да, там война должна быть иной, чем на Западе. Жестокость в России – залог успеха. Потом мы подумаем, как кастрировать эту нацию, сделать так, чтобы она поменьше рожала детей. Пусть русские умеют считать до пятисот – читать им ни к чему. Интеллигенция? Она не нужна. Через двадцать лет русские забудут, что они русские…
В Великороссии необходимо применение жесточайшего насилия. После ликвидации активистов русское государство распадется».
Генерал-полковник, слушая истерические выкрики фюрера, усмехался. Он не принимал всерьез этот бред. Мало ли что болтают политики, мало ли что поют распропагандированные ими олухи. Например, песня, которую генерал-полковник слышал как-то, гуляя по Берлину:
Если мир будет лежать в развалинах,
К черту, нам на это наплевать!
Мы все равно должны маршировать дальше,
Потому что сегодня нам принадлежит Германия,
Завтра – весь мир!
Однако, усмехаясь про себя, генерал-полковник усердно трудился над «Барбароссой». Созывается совещание начальников штабов групп армий и армий. Генерал-полковник докладывает о проблемах Восточной операции. Все готово. Ждут решения фюрера: когда?
Наконец фюрер назначает день: двадцать второе июня сорок первого года. Он снова истерически вопит о коммунистической опасности и борьбе двух идеологий. Он утверждает, что коммунист никогда не станет товарищем любого немца. Он предупреждал, что речь идет о борьбе за полное уничтожение. Командиры частей должны знать эту главную цель войны, не подвергаться яду деморализации, идти на жертвы и преодолевать жалкие колебания совести.
Генерал-полковник слушает и качает головой. Втихомолку, конечно. «Двадцатого июня, – записывает Гальдер в дневнике, – получено обращение фюрера к войскам перед началом операции. Ничего особенного, – меланхолически отмечает шеф генштаба, – одна политика». На следующий день Хойзингер докладывает шефу о готовности к нападению на Россию ста сорока дивизий. В тот же день объявляется условный пароль начала операции – «Дортмунд».
И война началась. Объявление войны? Вздор, отжившее понятие. Идут недели за неделями, все идет вроде бы как по маслу…
Но… красиво на бумаге, да забыли про овраги.
«Колосс на глиняных ногах», каким представлял Россию фюрер, его генералы и советники, не падает! Не падает, подумать только! И что еще поразительнее, что не было предусмотрено в планах: воюет не только армия, но и весь народ! Эти ужасные партизаны, сколько от них хлопот! Русские мужики сжигают посевы. Русские рабочие увозят прочь заводы и уезжают на Восток сами, а что остается – разрушают. Везде мины, западни.
«Что-то не так, – размышляет генерал-полковник, следя за операциями на Востоке. – Что-то, видно, упущено, не учтено, не до конца выявлены возможности этого народа, недооценены его физическая и нравственная мощь и громадная сила идеологических уз…»








