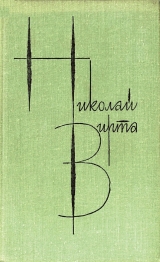
Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
Четыре тысячи человек – рабочие и сельские бедняки – ответили на выстрел эсеров заявлениями о вступлении в партию.
Среди них был сын Прасковьи Хрипучки из Двориков Листрат.
Листрат
С германского фронта он вернулся осенью 1917 года. На нем была драная шинель, худые ботинки, обмотки, за спиной – вещевой мешок и винтовка. Избу Листрат нашел покосившейся, телку при последнем издыхании, братьев – Леньку и Тимофея – довольно-таки вытянувшимися.
Сидит, вспоминаю, Листрат на парте, опершись на винтовку, и смотрит спектакль в сельской школе – невиданное дело, затеянное учителями… Народ не только в классе, но и в окнах и возле школы толпится.
Потом помню того же Листрата на крылечке дома напротив церкви. Помещалось в нем раньше кредитное общество. Теперь над дверью трепыхался красный флаг, а вокруг толпились вооруженные люди: Красная гвардия, не менее страшная, чем Совет и коммунары, о которых на селе плели бот весть что!
Сидит Листрат, покуривает, у ног его тощий мешок с лямками, спрашивает меня:
– Растешь, вижу?
– Расту, – отвечаю не без робости, но желание рассмотреть винтовку удерживает меня около «страшного» коммунара.
– Подрастешь, не то увидишь.
– А что увижу? – И дотрагиваюсь до винтовки, ибо влечет она меня к себе неотвратимо.
Листрат ухмыляется в усы, но не гонит прочь:
– А такое, что тебе и не снилось.
– А что же оно такое?
– А это, братец, мне и самому пока невдомек. Но вот вернемся с войны, все тут порешим по-другому.
– А на какую ж войну ты уходишь? – Про войну, конечно, все мы знали, но знали также, что она вроде бы кончилась, а о других войнах только шли слухи.
– А вот белых генералов и буржуев бить.
– А почему они белые?
– А потому, что мы красные.
– Да ведь ты не в красной шинели, – начинаю я.
– Я внутри красный! – и Листрат заходится смехом.
Из дома выходят какие-то люди и говорят Листрату, что все, дескать, готовы. Листрат поднимается, перекидывает через плечо мешок.
– Ну, прощай. С Лешкой балуйся в свое удовольствие, тем более что вы теперь ровня.
Я, конечно, не понял тогда этих слов Листрата: «Ровня?..» Да ведь я никогда не задумывался над тем, какое громадное (в социальном смысле) расстояние было между нами, да и мог ли задумываться над этим парнишка, которому едва минуло 12 лет? Скрытый смысл этой фразы Листрата дошел до меня позже, гораздо позже…
Ленька
Ленька был лет на шесть старше меня, тем не менее мы приятельствовали.
Он батрачил у земского ямщика Никиты Семеновича Ивина, бахвалился тем, что здорово умел укрощать самых строптивых ямщицких лошадей. До нас, ребят, он снисходил и даже иной раз, втайне от ямщика, катал в санях.
Никита Семенович был человеком исключительно богомольным. Впрочем, когда в селе объявилась большевистская ячейка, он вошел в нее, выговорив себе право по большим праздникам петь в церковном хоре.
В 1920 году Никита Семенович с сыном Федором и Ленькой ушел на станцию Токаревка и был одним из храбрейших красных партизан.
В 1921 году партийная тамбовская организация пересматривала свои ряды. Вызвали в комиссию Никиту Семеновича, попросили рассказать, какая разница между меньшевиками и большевиками.
Никита Семенович тут же сплел несусветную байку собственного измышления.
За эту сказочку Никиту Семеновича из партии тем же часом попросили, что очень его расстроило… Однако неунывающий, веселый он был человек. И батрака своего Леньку любил, как сына.
Ленька родился в 1899 году. В письме, датированном июнем семьдесят первого года, он писал мне: «В 1918 году пошел в армию, пробыл там до половины девятнадцатого года, потом меня отпустили по болезни на три месяца. Я был тогда военным комиссаром волостным.
Началась антоновщина, и меня зачислил в свои ряды партизанский отряд. Все, кто был за власть Советов, те поехали на защиту Родины… В двадцатом году сформировался в Токаревке большой партизанский отряд, который выбрал из своих рядов командиром Машкова Ивана Ивановича, и стали мы ему подчиняться до победы.
Я отслужил свой долг разведчиком в партизанском этом отряде и до 1922 года жил в селе, был избран членом сельсовета, потом членом первого на селе колхозного правления, был полеводом-бригадиром…»
Матрос
Мужики (те, что побогаче, разумеется) Листрата хоть и побаивались: черт его знает, что он выкинет через минуту или через час, но в общем-то он был для них солдат, как многие другие, вернувшиеся в село с винтовкой, из которой надо в кого-то стрелять.
Листрат стрелял в белых, белые стреляли в красных…
Но был в Двориках человек, почитавшийся богатеями чудовищем, тигром в человеческом обличье, кровожадным отродьем сатаны, прапраправнуком Малюты, потомком самого Ирода: Сергей Иванович, брат Петра и Семена Сторожевых, матрос с крейсера «Рюрик», комиссар штаба кронштадтского порта в 1917 году, один из боевых товарищей знаменитого Железняка, участник штурма Зимнего дворца, член штаба сводных матросских отрядов, начальник охраны мостов через Неву (только по его приказу мосты разводились и сводились), комендант отряда, охранявшего арестованных и посаженных в Петропавловскую крепость министров Временного правительства…
Принадлежность к РКП (б) Сергей оформил лишь в восемнадцатом году. Еще в годы первой русской революции работала подпольно в селе небольшая большевистская группа, Сергей входил в нее. Нашелся предатель…
От ссылки молодого ленинца спасла военная служба – как уже сказано, служил он на крейсере «Рюрик».
Здесь Сергей возглавлял подпольную матросскую организацию большевиков. Заслуги матроса были отмечены – его ждала ответственная работа в Петрограде. Однако Сергей предпочел вернуться в село и там подраться с кулачьем за Советскую власть.
В конце 1918 года он – председатель волостного исполкома и секретарь волостной партийной ячейки. Занятый по горло работой труднейшей и опаснейшей – кулаки точили на Сергея Ивановича не только зубы, но и ножи, – он не забывал о тех, кто должен был в свое время прийти на смену старой ленинской гвардии.
Год спустя после появления Матроса (так его звали в селе), мы услышали еще одно непонятное слово: «комсомол». В списке первых комсомольцев мы видим двух девушек и восемь парней: среди них троицу, не раз упоминаемую в «Одиночестве»: Сашу Чикина, Федю Ивина и ныне здравствующего Леньку – Алексея Григорьевича Бетина. Саша Чикин (тоже здравствующий) вспоминает:
«Сергей Иванович созвал нас и сказал, что… члены союза коммунистической молодежи – самые боевые помощники партии. Тогда же Сергей Иванович рассказал, как он имел счастье слушать выступление В. И. Ленина с балкона дворца балерины Кшесинской… На первом нашем собрании (продолжает Чикин) меня выбрали секретарем волостной ячейки РКСМ…
…С чего мы начали?
Прежде всего партячейка (Матрос, конечно) поставила перед нами задачу бороться с дезертирами и помогать властям искать хлеб, запрятанный в ямы кулаками. Мы, комсомольцы, открыли немало ям. Большую работу комсомольская организация развернула среди молодежи: ставили спектакли, устраивали комсомольские посиделки… К тому же секретарь ячейки (пишет о себе Саша Чикин) был незаурядным гармонистом…» (и вообще «заводилой», – добавлю я от себя).
Матрос ничего не спускал комсомольцам, и ребята не бездельничали: вскоре они действительно стали смелыми и находчивыми помощниками сельских коммунистов…
Ненавидели и тех и других богатеи смертельно… Классовая схватка в те времена становилась все ожесточенней. Дело дошло до того, что Матрос ушел из избы, где родился и вырос, он не мог жить рядом с братом: не было на селе более заклятых врагов, чем Петр и Сергей.
Но самая страшная схватка – схватка не словесная, а вооруженная – была впереди.
Двадцатый год
Что у нас на селе делалось в году 1919, я не помню… И снова вижу Листрата на крыльце того дома, где некогда помещался штаб Красной гвардии.
Теперь там заседал бедняцкий штаб: комбед. Одно это слово приводило в трепет наше кулачье.
Комбед с помощью ребят-комсомольцев быстро и основательно почистил кулацкие закрома, конюшни и хлевы. Результат этой очистки является в моей памяти в виде бурой коровы, которую Прасковья Хрипучка вела себе во двор, проливая счастливые слезы: к тому времени в хлеву не было ни телки, ни теленка.
…В память врезался августовский день 1920 года. Листрат выходит из своей избы. Он в буденовке, пистолет у пояса, винтовка за спиной. Ловко вскакивает в седло. Ходуном ходит под ним жеребец, добытый в бою с антоновцами. Жеребец по имени Бандит пляшет под Листратом, грызет удила и поводит фиолетовым глазом.
Идет дождь, но Листрату все нипочем. Он подмигивает мне и смеется по причине мне неведомой.
– Опять на войну? – спрашиваю, с завистью глядя на складную фигуру Листрата: кому из мальчишек не хочется быть солдатом.
– Опять.
– С кем же?
– С зелеными бандюками.
– А как же белые?
– Тю-ю, хватился! Всех перебили.
– А зеленые бандюки, это чьи?
– А наше сволочье. Кулаки наши окаянные.
– Какие же?
– Да вон те, которые бегут сломя голову к паскуде Антонову.
– А кто этот Антонов?
– Главный бандит. Атаман, значит. Он из эсеров.
– Этого я не понимаю.
– А ты все такой же красный?
– Ку-уда! Еще гуще покраснел. Да и не только один я. Теперь нас сила! – Листрат нетерпеливо ерзает в седле.
Из туманной, моросящей дали на рысях мчатся десятка три всадников… Батюшки! Да тут и брат Листрата Ленька, комсомольский вожак, сорвиголова Сашка Чикин, мой приятель Федя Ивин. Тут же и его отец – Никита Семенович, восстановленный в партии.
У этого в руках палка, а на палке кусок материи неопределенного цвета… Он круто осаживает лошадь.
– С бабой не нацеловался? – сумрачно жуя ус, выговаривает ему Листрат за опоздание.
Главным делом насчет флага скандалили. Кумачу нигде не нашел, спер у бабы бордовую юбку… Может, гожа будет?
Листрат щупает бордовый лоскут на палке, качает головой, потом усмехается:
– Ну, была не была. Все-таки краснота имеется, оно и ладно.
Всадники гогочут; Федька, которому я завидую до смерти, заливается громче всех, а на меня и не смотрит: заважничал!
А вчера, знаю точно, ревел белугой, потому что отец не хотел брать его с собой в Токаревку.
Разведчики
«В начале двадцатого года, – вспоминает Александр Пантелеймонович Чикин (сейчас он персональный пенсионер и живет в Курске), – стали доходить до нашего села слухи, что где-то на Кирсановщине появилась банда Антонова… Она неумолимо приближалась к нашему селу. Матрос решил: партийная и комсомольская организации в полном составе с семьями эвакуируются на станцию Токаревка. Там уже формировалась рота особого назначения. В нее мобилизовали коммунистов и комсомольцев из окрестных волостей… Командиром конной разведки назначили отважного парня Сашу Молчанова.
Тот постарался и подобрал себе самых отчаянных ребят. Саша Чикин, Леня Бетин и Федя Ивин первыми оседлали боевых коней. Они наводили страх и ужас на сельских антоновских «милиционеров», удиравших при первом же облачке пыли на задах села. С гиканьем и воплями, потрясая шашками, красные разведчики вихрем неслись из одного конца села в другой, потом, нахлестывая коней, мчались вдогонку за «милиционерами»…
Вот в одном из таких разведывательных рейдов и вышел у Феди Ивина случай, описанный в «Одиночестве»: подвел жеребец Татарин, упрямый, как сто чертей. Федя, отстав от своих, решил отдохнуть на хуторе Кособокова сам и дать отдых Татарину.
И вдруг Сторожев со своим отрядом!..
Тщетно пытался Федя вывести упрямую скотину из конюшни… Видя, что дело плохо, Федя спрятался в стоге сена.
Антоновцы, зная, что красный разведчик не мог уйти далеко, прощупали шашками стог, задели руку Феди. Тот не выдал себя, не закричал…
И спасся.
И кто мог думать тогда, что этот парень через несколько лет станет хирургом, спасет от верной смерти сотни раненых бойцов, что госпиталь 706, начальником которого он был все годы войны, считался одним из лучших на фронте. После войны майор Федор Никитич Ивин вернулся в родные места. Он пользовался всеобщим уважением сотрудников Рассказовской больницы, где работал ведущим хирургом. Не одна слеза тех, кого Федор Никитич спас от смерти, пролилась на его могиле осенью 1958 года. Вырывая из когтей смерти людей, он не вырвался из них сам…
Федя Ивин – мой друг-приятель, сосед по парте в сельской школе и в школе тамбовской, секретарь комсомольской школьной организации, отважный красный разведчик, студент Воронежского университета, прекрасный сельский врач – он очень рано ушел из жизни… Но никогда не поблекнет память о нем у людей, знавших его.
…В месяцы тяжелого «сидения» двориковских и других коммунистов в Токаревке Федя сражался с антоновцами бок о бок с отцом и Матросом. Однажды двадцать четыре часа шло побоище за Токаревку. В том кровавом бою рана в живот навылет положила конец вооруженной борьбе Матроса с врагами Советов.
Антоновским отрядом, штурмовавшим Токаревку, командовал Петр Сторожев. Быть может, именно пуля младшего брата свалила с ног брата старшего.
Матрос выжил. Работал он в Чека, сотрудником губполитотдела, уполномоченным на лесоразработках… Те, кто знали Сергея Ивановича, говорили о нем: «Вот это человек! Это настоящий коммунист!» Он – инвалид – рвался на фронт; его не взяли, конечно. Тогда он отдал фронту все свои сбережения. После войны ему присвоили персональную пенсию: Матрос передал ее в фонд Комитета защиты мира.
Всем, чем только мог, он помогал соседям и знакомым. Морозным февральским днем 1959 года пошел Матрос к одинокому старому соседу – напилить ему дров. И умер… с пилой в руках.
В «Закономерности» я изобразил Сергея Ивановича секретарем губкома партии.
Верой и правдой служил Матрос партии и Советской власти; Но слишком он был скромен, слишком, как это ни странно, застенчив… Он как бы растворился в огромной толще большевиков, подобных ему.
Бывает и так…
Волк
Война взбесившейся мелкобуржуазной стихии врезалась мне в память, потому что к пятнадцати годам я уже начал кое-что понимать и по воле обстоятельств оказался, как и многие другие, разумеется, в кипящем котле событий, наблюдая, таким образом, борьбу двух сил не со стороны, а изнутри. Между прочим, и через человека, названного мною в романах Сторожевым.
Мое знакомство с Петром Ивановичем состоялось на его огороде, где я с шайкой сверстников очищал огуречные грядки. Сверстники удрали, я оказался в цепких руках Петра Ивановича и был беспощадно им выпорот крапивой. Отец добавил: «Не укради!»
С эсерами Петр Иванович спутался на германском фронте, и за пропаганду в своей части он едва не угодил на каторгу.
Эсеровские вожаки не забыли «заслуг» молодого солдата,столь пламенно рассуждавшего о плохом царе и о том, какими хорошими хозяевами на русской земле будут эсеры, отдай им народ власть.
После февральской революции Петра Ивановича назначили сперва волостным, потом уездным комиссаром Временного правительства, выбрали в Учредительное собрание.
Учредилку большевики разогнали, Петр Иванович вернулся в село злой, аки сатана: брат Сергей отнял у него не только власть, но и землю, купленную по дешевке у соседнего помещика, насмерть перепуганного революцией.
Земля перешла к людям, которых Петр Иванович презирал: например, к Андрею Козлу.
Когда эсеро-кулацкий Союз трудового крестьянства поднял восстание против Советской власти, Петр Иванович быстро вошел в доверие к политическим вожакам мятежа и к его военному руководителю Александру Антонову, получил мандат начальника разведки и контрразведки («Вохр») и отличное вооружение для «волчьей стаи» – так народ прозвал банду отпетых головорезов, перенеся на нее кличку командира: уже давно за Петром Ивановичем укоренилась кличка: Волк.
Правые эсеры заключили союз с кулаками и пошли на военную авантюру, спровоцировав часть колеблющегося середнячества. Кулака середняк ненавидел, но боялся. На Советскую власть он посматривал с опаской, чесал задницу и думал: «То ли этим верить, то ли энтим? А ну-ка, хрен редьки не слаще?»
Разумеется, Советская власть могла покончить с Антоновым и мироедами одним ударом, но он неминуемо прошелся бы и по середняку, а этого Ленин никак не хотел. Не стоит забывать, что, хотя в те времена Ленин считал мелкобуржуазную, мелкособственническую стихию особенно опасной, в лице середняка он видел будущего союзника бедноты и врага мироедов.
Антоновщина, теряя живую силу, политическую базу и материальные ресурсы, начала драть лыко и с середняка.
Партия по инициативе Ленина, во-первых, строго разграничила массу восставших, отделив середняков от Сторожевых, во-вторых, досрочно сняла с тамбовских крестьян продразверстку, отчего те раз и навсегда отошли от Сторожевых.
Но кулак-мироед сдался не сразу.
Ленин вынужден был послать на усмирение мятежных эсеров и богатеев не только военную силу под командованием Тухачевского, Уборевича, Котовского, но и силу политическую в лице Антонова-Овсеенко.
Так Сергей Иванович, бравший Зимний, штурм которого возглавлял Овсеенко, снова встретился с ним: на этот раз при штурме кулацко-эсеровской цитадели…
После разгрома антоновщины Петр Иванович ушел в Румынию… Там Сторожев сразу был принят в сигуранцу.
В румынской разведке он проработал год: румыны ему чем-то не понравились. Он ушел в Польшу и здесь был принят в объятья людьми из правительства Бека. Сторожев – сотрудник дефензивы (разведка и контрразведка), опять по русским делам.
Дальнейшая жизнь Петра Ивановича воистину уникальна по тем зигзагам, которые, в конечном счете, привели его в Дворики, где он получил столько земли, сколько надо для человеческой могилы…
Впрочем, обо всем этом будет написано во втором томе романа «Одиночество».
А сейчас, как говаривал протопоп Аввакум, «обратимся на первое»…
С эсеровскими и бандитскими вылазками кулаков было покончено. Теперь можно было начинать новую жизнь.
шахов
В «Закономерности» описана картинка с натуры: громадная толпа шумит на площади перед церковью. Из центра толпы слышатся голоса Листрата и Филиппа Семеновича – одного из самых активных двориковских большевиков.
Пинаемый со всех сторон и обкладываемый густой бранью, я пробиваюсь через толпу и вижу железное чудище на высоких железных колесах, пыхтящее, громыхающее и распространяющее смрад…
На круглом железном сиденье – глазам своим не верю! – презираемый кулачьем младший брат Леньки и Листрата Тимофей, по прозвищу «Патрет».
Совсем недавно Тимошка батрачил. Теперь он, выражаясь современным языком, тракторист: в те времена этого слова в сельском обиходе еще не существовало.
Вот сидит он, держа в руках баранку, ненатурально зевает и смотрит на односельчан с видом особенного превосходства.
…Давно нет многих из тех, о ком рассказано в «Одиночестве». Умерли Никита Семенович, Фрол, Сергей Бетин, умерла Прасковья Хрипучка, умер в 1943 году Листрат.
В 1939 году он прислал мне письмо. Я бережно храню листок с корявыми, расплывающимися буквами… Писал Листрат, что работает в МТС, просил прислать книжку, где про него «писано», извинялся за почерк и ошибки. «Не осуди, что плохо написал, сам знаешь, некогда мне было учиться…»
Да, верно: всю сознательную жизнь Каллистрат Григорьевич воевал: с немцами, с белыми генералами, с зелеными атаманами, с антоновскими бандитами, с кулаками и подкулачниками… Но учились, и хорошо учились те, ради кого Матрос, Листрат, Никита Семенович, Саша Чикин, Ленька и Федя Ивин сражались с врагами не на жизнь, а на смерть.
Сельская наша школа может гордиться теми, кто учился в ее стенах.
Люди, выковавшие характер и закалившие его в пламени гражданской войны, являли собой тип, так сказать, устоявшийся. Они начинали революцию, они продолжали ее на селе, они увидели ее победу.
В годы великого перелома вступали в битву с классовым врагом коммунисты иного склада характера.
Запомнился мне начальник политотдела одной МТС, куда приехал я ранней весной тридцать четвертого года. Фамилия его Шахов; впоследствии орденом Ленина наградили этого сурового человека, которого в районе уважали бесконечно.
В июне семьдесят первого года я получил письмо от его друга. Вот что он писал мне:
«Уважаемый Николай Евгеньевич! Заметки о написании романа «Одиночество» в «Лит. газете» Вы закончили образом начальника политотдела МТС Шахова – одного из тех, что «вступили в битву с классовым врагом в годы Великого Перелома».
Я знал Шахова и его биографию и считаю своим долгом поделиться с Вами фактами из его жизни.
В 1921−22 гг. я работал учителем по ликвидации неграмотности в 263 Кунгурском полку 30-й дивизии, в котором Александр Дмитриевич Шахов был военным комиссаром. В своем полку он организовал борьбу с неграмотностью с такой же хваткой, как в свое время готовил полк к штурму Перекопа через Сивашские болота. В этом полку была ликвидирована неграмотность к 1 мая 1922 года…
Мне приходилось часто беседовать с Шаховым при поездках в колхозы и в домашней обстановке.
Он в молодости был питерским печатником, а правильнее, переплетчиком в одной из типографий. В бурные дни 1917 года, как он сам говорил, по неразумению был вовлечен в группу анархистов. Но убедившись в их авантюризме и уголовщине, он от них ушел и попал к левым эсерам-максималистам. Но, участвуя в штурме Зимнего, он понял ленинскую правду и перешел к большевикам. Всю гражданскую войну он прошел с винтовкой, в боях рос сознательно – стал комиссаром полка. В мирное время много учился и был образованным марксистом – политическим деятелем…»
А мое знакомство с Шаховым началось вот с чего.
Как-то собрал Шахов трактористов и председателей колхозов – до сева оставалось, может быть, три, может быть, четыре дня. Держал он речь короткую и, помолчав, спросил:
– Так будем работать по-большевистски, а?
И тут какой-то тракторист начал канючить, что вот, мол, и того у них нет, и другого, и сапоги в заплатах, и что какая же это работа, ежели босые?
И тут я увидел, как страшен бывает человек, задетый за живое. Шахов молчал. Скулы его играли, он побелел от злости. Потом, не возвышая голоса, как бы обращаясь к самому себе, начал:
– Вот мы на Перекоп ходили, так уж верно босыми. Ах, боже мой, да разве думали мы тогда о сапогах и теплых шинелях? Мы думали, как бы поскорее покончить с этой сволочью, чтобы народ вздохнул от военных тягот. Тут слышу разговоры: сапоги рваные. – Шахов резко встал. – А вот мне не привыкать босым в бой идти. – И обратился к политотдельцам: – А ну, снять сапоги!
Все политотдельцы по команде стащили сапоги и поставили их в ряд с сапогами начальника политотдела. Наступило гробовое молчание.
– Так надевай мои сапоги! – в бешенстве выкрикнул Шахов. – Что ж ты молчишь, глаза вылупив? Эй вы, вот вам наши сапоги!
Никто не взял сапог… А Шахов, выезжая в поле, шагал по холодной земле босиком.
Каждый шаг этих людей, вычищавших из деревни остатки кулацкой нечисти, – это был шаг всей страны в будущее, еще одна историческая веха.
И мы каждый на своем месте были и есть не только свидетели, но и посильные участники чудесных преобразований нашей земли, и мы ставим вехи, отмечающие исторические рубежи. Преодолевая невероятные трудности, наш народ вырвался, наконец, на широкое поле огромных свершений.
Размышления
По разным причинам много-много лет не был я в родном краю, в селе, где провел юность. В Тамбове, познакомившись с секретарем обкома партии, я попросил машину и в тот же день отправился в путь – в путь на юг области.
Боже, боже мой! До чего же непохожа теперешняя Тамбовщина на ту, что я видел в детстве, а потом в начале пятидесятых годов!
Отлично, как никогда, разделанная земля… Пруды и водоемы…
Квадраты лесных насаждений, спасающие поля от суховеев, квадраты, куда ни глянь: их заложили в годы, когда был выдвинут знаменитый Зеленый План… Кое-кто потом шумно издевался над ним, кое-кто хотел бы это большое и полезное дело вытравить из памяти людей.
Не удалось. Не удалось, потому что для этого надо было бы уничтожить миллионы посаженных и укоренившихся деревцев: не удалось, потому что крестьянин хорошо знает цену каждого кустика, каждого дерева.
В былые годы огромные сады росли на задах Двориков… Анисы, грушовки, белый налив, антоновка, боровинка, бабушкино, груши бессемянка, дули, бергамоты, вишни, многие-многие сорта, выведенные безвестными селекционерами, сажали в конце прошлого века деды и отцы теперешних жителей села.
Только сиреневого сада на кладбище не тронул топор…
Вынесенное за околицу, окруженное валом, поросшим мелким кустарником, кладбище занимает большую площадь и способно вместить еще много, много поколений.
Не одна буйная голова похоронена была здесь после веселой масленицы, не одна жертва тяжелого кулака Илюхи Чобы или двужильного Петьки Сторожева успокоилась под сиреневыми кустами. Тут нашли отдых множество вечно голодных, вечно несчастных, вечно усталых…
Все кладбище заросло сиренью, трудно пробраться через нее.
Что делается здесь в весеннюю пору, когда расцветает сирень! Все вокруг пропитано чудесными ароматами, дышится легко, и сладко кружится голова – от сиреневого ли запаха, от весеннего ли воздуха, от зеленей ли, ковром раскинувшихся вокруг до самого небосклона!
В мае сюда прилетают соловьи и в теплые ночи такую заводят трель, что хоть до рассвета не спи – слушай, вздыхай, вспоминай молодые годы. Как в прошлые времена, так и теперь в сиреневую пору на кладбище собирается молодежь. Она не боится ни мертвецов, ни таинственных чадных огней, будто бы появляющихся на могилах плохих людей.
Луна заливает кладбище ровным светом, где-то слышатся смех, поцелуи, нежный шепот…
…Я сел на ветхую скамейку у надгробья, заросшего сиренью, и думал: вот мертвые лежат в своих могилах, и вот живые начинают жить. Ничто не превращается в прах: те, кто умерли, жили для тех, кто живет теперь, а живые живут для тех, кто придет вослед.
Все для живых, и только им есть место под небом. Но и труды тех, кого уже нет, остаются, если они трудились для того, чтобы после них лучше жилось, – их любовь и ненависть не исчезли; памятно сделанное ими добро, поэтому даже у мертвых есть своя часть среди живых.
У человека нет власти над смертью, но он властен над своими делами. Не забываются дела неправедных, не забывайте их, но следуйте делам мудрых, они вечны под солнцем, и лишь они животворны!
Итак, все для живых – и добро и зло. Но чтобы покончить с недобрым, надо чтобы все земли, от края до края, все они – лежащие под небесами – не родили кабалу, голод и унижение, а чтобы пахались людьми, преисполненными радости!
Понадобились многие годы борьбы, но в конце концов живые принесли добро для людей – через людей. Добро пришлось добывать кровью. И добыли, ибо всему свое время – время добра для тех, кто теперь имеет его, и время зла для неправедных и злых.
Всему свое время, но можно ли лишь наблюдать течение времен и ждать, что все придет само собой?
Течение времен тоже во власти человека, и он волен ускорить их ход.
Он, Человек, встал, ощущая в себе неизмеримые силы, встал с сердцем, помолодевшим от познания истины, с зорким, просветленным взором, с головой, умудренной многолетием и горем, с волей, не знающей преград, с руками, могучими, как корни древнего дуба, как корни самой Руси, встал во весь свой исполинский рост и вошел в самую кипень урагана и совершил то, что ему надлежало совершить.
Он велик и многомудр, сын земли своих отцов, и он чутко прислушивается к тому, что доносит до него ветер с могильных холмов и с полей, раскинувшихся вокруг а до самого горизонта…
Стайка ребятишек – голопузых и веселых – с криками и смехом промчалась мимо погоста: сверкая глазенками, белоголовые, курносые, они бежали куда-то вдаль. И это, думалось мне, есть жизнь, наш стремительный бег в будущие века.
Аромат сирени кружил голову, небо родных мест казалось беспредельно глубоким, чистым и светлым. И долго я слушал певунью, чья песня плыла над миром, над тихими мирными полями…
И встал: пора было ехать в село – нас ждали.
Село
Работник обкома, сопровождавший меня, оказался человеком осведомленным. Он сказал, что особенно бурными в смысле наступательного шага вперед были годы 1968-й и последующие. За два-три года за счет государственных капиталовложений и нецентрализованных источников в селах области построили триста десять школ, шестьдесят детских садов и яслей, больницы на пятьсот коек, сто шестьдесят клубов, открыто сто тридцать библиотек, сооружено больше тысячи магазинов, пекарен и столовых, четыреста бань, проложено тысяча двести километров сельских водопроводов… Почти в каждом селе – непременно либо больница, либо фельдшерский пункт.
В полтора раза за те же годы выросли чистые доходы колхозов (213 миллионов рублей к 1970 году) и, как следствие, – рост доходов крестьян примерно на двадцать пять процентов.
Все это касалось, конечно, и села, названного в романах Двориками. Но внешний облик его навеял на меня печальные мысли.
Мы не смогли от кладбища проехать в центр села: огромное болото – оно и раньше источало отнюдь не сладостные запахи – стало шире, глубже и зловонней… Сильно сократилась Нахаловка. Исчезли ветрянки, их было две. Нет в помине поселков, входивших территориально в состав села. Нет избы, где жил старый унтер Андриян Федотович. Сохранились кирпичный домишко Семена Ивановича и пятистенка брата его Петра.
Теперь здесь живет Дмитрий Петрович. Зашел туда. Ничего похожего на ту избу, где я раньше бывал много раз: современная полированная мебель, радиоприемник, если не ошибаюсь, телевизор, цветастые занавески на окнах, непередаваемый запах свежевымытых, отлично покрашенных деревянных полов в горнице…
Медленно шагал я вдоль Большого порядка, отмечая памятные места. Вот здесь, на площади напротив церкви (ее давно нет), была школа. По тогдашним временам она выглядела образцовой: несколько классов соединялись раздвижной гармошкой дверей. Здесь мы впервые увидели какую-то ковбойскую кинокартину… Широкий коридор служил нам местом игр на переменах. В том же здании в прилично обставленных комнатах жили учителя. Школы той нет. Построена новая, оснащенная вполне по-современному. От старой осталось маленькое помещение для первых классов и крылечко.
Теплыми вечерами с книжкой в руках тут сидела, бывало, самая любимая нами учительница Ольга Михайловна.
Я перешел высохшую речку – передо мной сильно укороченная Кочетовка. Глаз остановился на едва приметном углублении в конце бывшего нашего сада: это пруд. В нем мы купались, ловили мальков и ели их живыми… Закрываю глаза и вспоминаю: вот здесь росла почти полузасохшая, но еще плодоносившая титовка; рядом – белый налив, затем дичок, два дерева полосатого аниса, анис золотой, вишневые заросли, еще один дичок, грушевое дерево, ни разу не одарившее нас хотя бы единственной грушей. Вон там мы строили шалаш, в котором любили ночевать… Между двумя анисовыми деревьями растягивали гамак, в сад приходил какой-нибудь учитель и читал книги, выписываемые из земской библиотеки…








