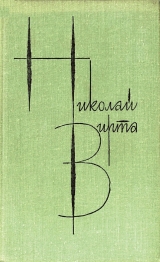
Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
Старый Андриян
Старый Андриян сидел на завалинке и тосковал.
Он уже давно сбился со счета в своих годах. Говорили, будто старше его в селе только бабка Анисья, а Анисье было уже много за девяносто. Порой перед его внутренним взором возникали картины далекого прошлого: они главным образом относились к молодости. Отчетливо помнил он также события последних пяти военных лет, а середину жизни точно смыло из памяти, хотя там было немало примечательного: внучатные племянники Андрияна хвастались, что их дед со Скобелевым под Плевной турок бил, а потом с ним же ходил в жаркие азиатские земли.
Люди в присутствии Андрияна спорили, сколько же ему выходит годов: восемьдесят или все девяносто? А старик молчал; о Плевне, об Ахал-Текинской экспедиции он уже давным-давно не рассказывал жадным слушателям – забыл, все позабыл старый унтер!
И не то, чтобы он был хил и немощен до последней степени, не то, чтобы он впал в детство: ум его был еще светел, по части хозяйственной он рассуждал здраво и давал почти безошибочные советы. Последние пять лет он крепко поработал: в Двориках оставались стар, да млад, да бабы. Андриян ворочал за троих и в поле, и на току, и во дворе.
Быть может, на него подействовало всеобщее горение и желание перемочь тяжкую годину; быть может, еще оставались в нем жизненные соки и древнее его тело питалось ими. Он расходовал их без жалости…
Приезжали с войны ребята: кто в отпуск, кто по ранению – удивлялись:
– Скрипишь еще, дед?
– И то, – коротко – отвечал Андриян. – Старое-то дерево долго скрыпит. Как вы там, бьете их?
– Бьем, дед.
– Так и надо. Бейте их, басурманов. Болтают, я тоже множество ворогов изничтожил… Да, может, и было, а забыл, все забыл…
– Сколько тебе лет, дед? – спросил его однажды районный агроном Павел Иванович.
– А чего, милый, считать, сколько их было?.. Теперь мое дело – считать, сколько их у меня осталось…
– Поживешь еще, – сказал агроном. – Сила в тебе невиданная.
– И то, поживу… Годков десяток, чую, покряхчу. Ежели, конечное дело, кормить будут.
– Ну, ну, – сурово говорила председательница колхоза Мария Филипповна, – поговори у меня!.. Ты себе не токмо что хлеб, ты себе памятник наработал!
– Памятник! – посмеивался старик Андриян. – Скажет тоже!
Работа была не в новинку Андрияну. С тех пор как сестра Прасковья вышла замуж за Петра Ивановича и перетащила его в дом Луки Лукича Сторожева, Андриян только и знал, что работал от зари и до зари. Иной раз пинок получит в награду от сурового Петьки, иной раз стаканчик водки от матроса Сергея, Петькиного брата…
Никого уже из них нет в живых; все они успокоились на сельском кладбище, под сиреневыми кустами.
Молодая сторожевская поросль, совсем иная, чем были те, ушедшие в могилы. Трое на войне, двое в городе учатся, а внуков и правнуков Андрияну не сосчитать; народ уважительный, «привечливый», к деду льнут, не говорят про него, как, бывало, говорили:
– Нет в избе старика – купил бы, есть – убил бы.
Да, отработал он свое, что и говорить! Пришли ребята с войны, сказали деду:
– Будя, отдохни малость.
И никуда не пускают старого Андрияна со двора. И сидит старый у завалинки, ковыряет посошком землю и тоскует. Тоскует его душа, и думает он никому не ведомое.
Вот и отдых пришел, долгожданная пора покоя…
Апрельское солнце теплое, тепла и пахуча влажная земля, почки набухли, по деревьям пошла прозелень, ребятишки босиком бродят по лужам, чирикают воробьи на дымящемся навозе… Все, кажется, как надо: Андриян обут, одет, хорошо старым костям. А душе худо…
«Отдохни, слышь, дед, отработался, будя!» – Ласково сказано, а не с умом… Отдыхать надо молодым, когда притомятся. Да, им нужон отдых, им еще множество надо перемочь: худоба кругом, война порушила хозяйство, пять лет все изнашивалось… Да, им нужон часом отдых: великие им нужны силы, чтобы поставить порушенное, завести прежнее богачество… А старикам? Э-эх, неразумное ваше слово! Старикам ни к чему отдых: они успеют отдохнуть в могиле. Не год, не два лежать там! Вона дед Парфен маялся на печи, маялся, одюжила его тоска, пошел к Марье Филипповне: «Возьми хоть в пастухи, сил нет, все бока пролежал. Еще недели три эдаким манером полежу – помру, святая икона, помру! А помирать неохота: темно там, в могиле-то, скушно в ней…» Бабка Анисья – на что уж столеток – и та у семенного амбара… Хоть и не велика работа – стеречь амбар: сиди себе на тепле, черти клюкой по земле завитушки, думай свое, – но все-таки должность: сторож. И Михей при должности, и Терентьич, а Федор Худяков – так тот в поле, словно ему не седьмой десяток! Э-хе-хе!..
Сердится старый Андриян, неразумно с ним поступили! Сколько часов было в его жизни, столько он и работал. Работа для него извечно была такой же необходимостью, как еда и сон. Он вставал на рассвете, чтобы весь день крутиться в поле и во дворе, чтобы проклинать никогда не переводящуюся работу; ложился спать с думой о завтрашних делах и засыпал, перебирая их в уме, чтобы не забыть… Вся жизнь в работе – изо дня в день, из года в год! Разве когда сильно занедужит, уж тогда только не выйдет старый в поле: полежит на печи, прогреет, как он говорит, «естество», а завтра опять за плужок, за борону, за лопатку, косу, цеп… Без работы не сладка еда, не крепок сон и просыпаться утром тяжело, будто после похмелья.
Как-то утром пошел к председателю колхоза Марье Филипповне, молил дать хоть какую-нибудь работу, но все должности, которые были бы под силу старику, оказались занятыми… А в поле он работать уже не мог: кончились жизненные соки, последние капли их отдал Андриян общему делу за те пять лет.
Вот и сидит он на завалинке, согреваемый солнцем, щурится от яркого света, почесывает щетину на подбородке, рассеянным взором наблюдает за ребятишками, плещущимися в лужах.
А в полях, в огородах, на ферме, в кузнице – повсюду люди трудятся в поте лица; им весело, и нет у них тоски и душе. Какое там! Каждый полон надежд, каждый по мере сил приближает тот час, когда можно будет сказать: «Ну, братцы, перемогли! Гитлера перемогли, поруху перемогли, теперь давай думать о чем протчем…»
* * *
Марья Филипповна и агроном Павел Иванович подошли к старому Андрияну, присели на завалинке отдохнуть, На них, когда ходили они вдвоем, смешно было смотреть: она складная, статная, небольшого роста, а он длинный и сухопарый, точно колодезный журавль. И вечно друг друга пилят, но, между прочим, друзья – водой не разлить.
Павел Иванович угостил Андрияна цигаркой.
– Отдыхаешь, старина?
– Отдыхаю, туды ее в душу…
Рассмеялись, закурили. Сладко припекало солнце.
– Ей-право, – сердито сказал Павел Иванович, – у вас от солнышка схорониться некуда! Ведь это срамота, товарищ Рогова, ни единого деревца! Дикари – и те пальмы сажают, разные там бананы… А вы хоть бы яблоню воткнули.
– Дикарям сподручно: у них жара круглый год, – отозвалась Марья Филипповна, вытирая розовое лицо. – А у нас в тридцать девятом как трахнули морозы – все под корень!
– После тридцать девятого шесть годов прошло! – крикнул Павел Иванович. – Стыдно, ей-право, стыдно!
– А нам за эти шесть лет не до яблонь было, сам знаешь! – Марья Филипповна обмахивалась платком. – Да и некому заниматься яблонями: которые старики – обессилели, а молодые в этом никакого понятия не имеют…
– Не имеют! Живете, словно в тундре, смотреть тошно! – огрызнулся Павел Иванович.
– Да и где их достать, эти самые яблони? – сказал Андриян. – Тоже наищешься!
– Наищешься! До Мичуринска всего-то семьдесят километров, там хоть полтысячи яблонь дадут. Три рубля штука, сажай – не хочу. Мичуринские сорта не мерзнут. Эх, недогадливый вы народ, все-то вам покажи, все-то вам растолкуй! Хоть бы сами до чего дошли! Так нет, закопались в землю, словно кроты, тьфу!
– Расплевался! – обрезала его Марья Филипповна. – Есть заботы поважнее.
И запала в голову старого солдата мысль насчет яблонь. Давно это было: сажал он яблони деверю – Петьке Сторожеву – у него на отрубах. И какой сад образовался, божже мой! Мрак забытых лет вдруг на миг раздвинулся, и Андриян увидел сад, взращенный им для Петра; буйное цветение по весне, хмельной запах, облаком висящий над деревьями, и красоту и богатство плодоношения в жаркие августовские дни, груды яблок под деревьями на траве, и жужжание пчел невдалеке на пасеке, и медовую сладость еле приметного ветерка!
«Семьдесят километров… Три целковых за яблоню… Семьдесят километров… Мичуринск… – думал Андриян. – Ага, это по-старому Козлов! Бывал там, давненько бывал, ходил туда как-то, в полтора дня добежал… По ведь тогда ноги были крепче, ку-уда! Теперь дай бог и за три дня управиться, да и то, пожалуй, не сдюжить… А хоть и три дня; все какое-то дело… Чем вот так-то сидеть цельный день на завалинке в душевной тоске, щуриться от солнечного яркого света и ковырять посошком землю…»
Правнук Миша дал после войны старому Андрияну две сотни: вот, дескать, тебе, дед, наш солдатский подарок на курево, чтобы не просил у всех подряд… Две сотни – деньга немалая, а Мишка глуп: нешто старику можно тратить их на курево? Да ему каждый даст на цигарку… А то и на все три расщедрятся… Полсотни Андриян все-таки размотал: туда, сюда, правнукам какую-то там мелочишку в лавочке купил. А полтораста целковых лежат в заветном месте. Две бумаги: синяя, большая, и зеленоватая, с портретом Ленина, – припрятаны далеко, не каждый найдет… Эти полторы сотни Андриян заложил на смертный час: чтобы обрядили, как следует тому быть, чтобы похоронили честь по чести…
Но, судя по всему, честь честью похоронят и без его бумажек: внуки – народ почтительный, его жалеют. Вот работать не пускают, дурачки, хе-хе, словно от того ему легче! Право слово, дурачки! Эдак в одночасье сковырнусь. Верно сказал Парфен: «Старик помирает либо от болезни, либо от тоски по делу».
Тихо смеется старый Андриян: «Я вас всех перехитрю!.. Нет у вас для меня должности, так я ее сам себе сделаю!..»
Он медленно поднимается с завалинки, идет туда, где спрятаны деньги. Вот тряпица, вот две бумажки; Андриян сует их в карман, потом кличет старших правнуков, ведет их за собой на погорелый пустырь. Туда в сорок втором году упала бомба: избу – в щепки, какая была живность – на куски…
Пустырь большой-пребольшой. Дед вымерял его шагами, потом наставил палочек. А ребятишки ходили за ним и выпытывали:
– Ты чего, дед?
– Аль клад копать думаешь, дедуня? А щепки-то для чего ставишь, дедушка?
– Узнаете, узнаете, пострелята, – отвечал им старый Андриян. – Вот чего, Гриша: ищи лопаты, тащи их сюда, будем ямы рыть, клады искать! Только молчок. Никому!
И сразу лишь пятки засверкали: вся ватага бросилась во дворы собирать лопаты.
Апрельский теплый день долог, апрельский день ласков и тих. Ребятишки с увлечением копали ямы там, где Андриян натыкал палочек, а он ходил меж ними, командовал:
– Глубже, глубже рой: клады мелко не лежат! Шире копай: клад в вершке отсюда может лежать! Догоняй Федюшку, он уже вона какую ямину вырыл!
К вечеру все пятьдесят ям были выкопаны. Ничего, кроме стабилизатора от бомбы, ребята не нашли.
– Дед, а где же клад? – ныли они.
– Вот ужо погодя и до клада доберемся. Вы только помалкивайте, а то его без нас утащат. Да хорошенько стерегите это место. Дней через восемь глубже копать начнем. Поняли? Найдем клад – всем гостинцев накуплю, книжек достанем. То-то будет дельно: и пользительно и антирес!
* * *
Утром старый Андриян надел опорки, взял у Мишки военный ватничек, сказал, что пойдет к внукам в Березовку, пробудет там дней восемь, разгуляется. Прихватил краюху хлеба, соли отсыпал, выпросил на пяток заверток табачку и пошел.
На станции Андриян на всякий случай приценился к билету.
– Тридцать четыре рубля и семь копеек, – сказал кассир. – Выбить, что ли?
«Тридцать четыре рубля – одиннадцать яблонь, гм!..»
– Нет, – ответил Андриян, – я уж пешочком.
Он поправил котомку, повертел в руке посошок и вышел на платформу. В это время подошел поезд, Андриян спросил у кондуктора, как ему пройти на Мичуринск.
Кондуктор сказал:
– Иди, дед, все время за нами – не заблудишься! – потом ему стало жаль старика, над которым он так глупо посмеялся, и крикнул ему вдогонку: – Дед, вернись, подвезем!
Но Андриян не расслышал. Он шел вдоль железнодорожного пути, не сворачивая в сторону, не торопясь, размеренным шагом, как его учили ходить в солдатах полвека тому назад; шел и все думал о яблонях, как он будет их выбирать да как расспросит сведущего человека насчет ухода: позабыл дед, давно это было, когда он сажал их на отрубах у Петра Сторожева!
И где бы ни проходил старый Андриян, всюду видел людей, трудившихся в поте лица, и шептал про себя:
– Хлеб наш насущный даждь нам днесь!
И сердце его умилялось при виде этого необыкновенного простора полей, этих небес, по которым плыли вдаль легкие белесые облака. Птичье неугомонное щебетанье, грохот тракторов и крики пахарей сопровождали его на всем пути, и солнце кротким весенним светом обливало землю…
Все существо Андрияна как бы наполнялось новыми жизненными соками, он опять чувствовал себя не таким древним, как во все эти месяцы беззлобно и бездумно подаренного ему безделья. Ноги крепко держали его, он шел да шел…
Останавливался Андриян у будок тракторных бригад, трактористы делились с ним едой и куревом. Он говорил с ними о том о сем и опять шагал вдоль шпал и железных путей.

Ночевал Андриян у обходчиков, а в последнюю ночь перед Мичуринском увидел сон: раскинулся перед ним на большой пологой долине кудрявый, разлапистый сад. Яблони стояли правильными рядами, и не было им видно конца-краю, и все они сильно цвели, и цвет опадал и осыпал лысую голову Андрияна бело-розовыми лепестками… А между яблонями ходили, кроме Андрияна, люди, не замечая его, словно он был невидимым, и говорили о нем, что вот, мол, жил на свете старый унтер Андриян Федотыч, всю свою жизнь работал на чужих дворах, пока под старость не уразумел, что нет для него чужих дворов, что все видимое им – тоже его кровное, его кровью и потом поставленное в мире… И что на старости лет посадил Андриян сад и вот сад вырос и радует человечество; а Андриян радуется сидючи на небесах, взирая на дело своих рук и на радость человечества.
…Он проснулся и долго лежал с открытыми глазами, все думая, к чему бы ему приснилось такое вещее. И было у него на сердце так вольно, так широко, словно и взаправду глядел он с небес на сад, заведенный им.
Едва забрезжило в окошке, Андриян поднялся, выпросил у обходчика бритву, поскоблил бороду, плеснул на лицо горсть студеной воды из вешнего говорливого ручейка под мостом, съел ломоть хлеба, запил его той же холодной водой, простился с обходчиком и как мог быстро пошел к городу, видневшемуся с пригорка.
Он спросил первого встречного, где продаются яблони; ему указали путь в мичуринское хозяйство. Через заливной лог, а потом длинной аллеей он вышел к бывшему монастырю. Он торопился: ему мерещилось, что яблони уже распроданы. Он страшился услышать такой ответ, потому что знал: яблони – это то, что еще надолго привяжет его к этой земле, с ее весельем, трудами и печалями. Ему еще так не хотелось расставаться с ними! Ему казалось, что сердце его разорвется, услышь он, что яблони все вышли и не осталось на его долю ни единой!
Задыхаясь, он почти бежал к домику директора, еле видному из-за кустов сирени.
Ему сказали, что товарищ Горшков на упаковочном складе отправляет яблони в колхозы; Андриян побрел туда, шагая тяжело, ноги как бы окаменели, и окаменело сердце, и слезились старые глаза…
Возле сарая, крытого соломой, женщины бережно заворачивали в рогожи только что вынутые из земли молодые деревца, перекладывали мякиной корни с прилипшими кусками чернозема.
Тут же стоял директор в синем пиджаке, в брюках навыпуск, в рубашке, по-крестьянски низко перехваченной ремешком, с весьма заметным брюшком и добрым лицом.
И по тому, как директор следил за упаковкой, как бережно-любовно касался он нежных стволов яблонь, выращенных им, Андриян угадал, что этот человек поймет его и даст ему яблони. Если даже они все уже вышли, вынет из готовой связки полсотни и скажет: «С богом, старый, сажай на здоровье, на радость человечеству».
Андриян сдернул шапку и низко поклонился директору.
Директор в свою очередь снял картуз и по-крестьянски поклонился незнакомому деду.
– До вашей чести, Иосиф Степанович, – прерывающимся голосом сказал Андриян.
– Ну-ну! – ответил директор. – Что ж тебе, старче, надо от моей чести?..
– Так что яблонь, разлюбезный товарищ… Яблони захотел я посадить на старости лет, как все протчее по хозяйству мне не под силу, а помирать от земной скуки больно неохота.
Директор рассмеялся:
– Откуда же ты?
– Издалека я к твоей милости: семьдесят километров отшагал.
– Ты бы сел в поезд да приехал, чем обувку топтать зря, – сказала одна из женщин.
– Молчи, – строго оборвал ее Андриян, – то не твоего ума дело! Мне не расчет было тратить деньгу на катанье: для того человеку и ноги даны, чтоб он ходил.
Директор и все вокруг опять рассмеялись.
– Себе сад хочешь заводить? – спросил директор, вытирая вспотевший лоб.
Солнце жгло, и дыхание суховея явственно чувствовалось в воздухе.
– Дождю бы сейчас… – сказал он с тоской.
– Должон быть, – ответил Андриян. – Дождю быть ден через пяток… А сад, ваша милость, сердечный товарищ Иосиф Степанович, я задумал для всех… Мне что? Я еще годов пятнадцать поскрыплю, а там поминай, как звали. Сад я задумал для человеческой утехи. – Он передохнул. – Я и ям накопал. Так что уважь старую людину: отпусти яблонь!
– Сколько же тебе их надобно? – спросил директор и прикрикнул на одну из женщин: – Ну, что ты, ей-богу, Анна, словно чугунные столбы пакуешь! Оно же, дерево, живое, оно еще дышит, а ты его с такой грубостью!..
– А надобно мне на все вот эти! – Андриян достал тряпицу и вынул свои заветные бумаги.
Директор повертел их в руках и отдал обратно Андрияну.
– Ай нету? – ужаснулся тот, и все в нем оборвалось вдруг.
– Есть, – сказал директор, – как не быть, раз ты для человечества! Только денег за них я с тебя не возьму, – он дружелюбно осмотрел Андрияна. – Сколько тебе лет, а? Поди, за восемьдесят?
– Будто так.
– Отработал ты эти яблони, – сказал директор. – Пойдем, я тебе сам накопаю! – И, взяв лопату, пошел в питомник, а Андриян спешил за ним, и душа его ликовала от буйного, никогда еще не изведанного счастья, так похожего на этот день, полный света, тепла, добра и мира…
1947
Вечерние тени [5]5
Рассказ опубликован в книге «Всегда молодые». Воронеж, 1976, под названием «Серый денек».
[Закрыть]
День был жаркий, грозовые тучи, густые и мрачные, собирались то здесь, то там, молнии прорезали их, вдали рокотали громы, и глухо шумел лес.
Гнетуще-тяжелая предгрозовая духота раздражала Мартына. Он тосковал и сердился на себя. Он и сам не знал, зачем ему надо было приезжать в места, где когда-то в кругу друзей он проводил беззаботные, легкие часы, Друзей давно уже не было здесь: война поразбросала их по разным краям, и чужие, незнакомые люди жили в их домах.
В речушке, попавшейся на пути, Мартын нашел глубокий бочажок и выкупался, но и это не подбодрило его. Ворона села на березовую ветвь и угрюмо, косым взглядом смотрела на Мартына. Он крикнул на ворону, она повела шеей и улетела с сердитым карканьем, словно предвещая недоброе человеку, нарушившему ее покой.
Мартын вылез из бочажка. В воде отражались все те же черные клубящиеся тучи, выползающие на небо, но они уплывали в бесконечность, не подарив земле ни капли влаги.
К вечеру небо очистилось, улеглись порывы ветра и солнце, медленно скользя к черте горизонта, ласкало землю теплыми лучами.
Выйдя из леса и увидев чистые небеса и изгиб шоссе, залитый мягким вечерним светом, Мартын успокоился.
Добрый, простой мир лежал перед ним. Белую закругленную линию шоссе на всем протяжении до самого моста через речку сопровождали могучие сосны. Шоссе шло вдоль пологого оврага; весь склон его до ручья был засеян овсами. На противоположном скате рос картофель и виднелась яркая зелень свеклы, а дальше, за желтым квадратом ржаного поля, раскинулся поселок – тот самый, который Мартын так старательно обходил. Он подошел к нему с противоположного края; здесь он никогда не бывал.
Овраг кончился в лесу. Последние лучи солнца положили тени деревьев на овсы и картофель, а один луч – длинный и узкий – пробился сквозь ряды сосен и разрезал поле светлой межой.
Ребятишки возились внизу, в ручье; блеяла коза, привязанная в лесу; щенок тявкал в поселке… И Мартыну показалось, что он уже читал когда-то описание этого места. Здесь жизнь, вспомнилось ему, идет плавно, как плавно стелются поля, как плавно и безмятежно льется речка среди отлогих, тихих берегов…
Он лег на траву около придорожной сосны и устремил взгляд в бледно-голубое небо, где виднелся прозрачный серп месяца. Деревья стояли неподвижно, возвышаясь над всем видимым миром. Легкое, белоснежное облачко проплыло над вершиной сосны и исчезло, словно растаяло в бесконечном просторе неба; ветерок на миг прошелестел в ветвях и тут же замер.
Четыре года Мартын пробыл в походах, в чужих краях. Часто представлял он себе там родимые места; часто так же, как вот теперь, лежал, глядя в небо и силясь вообразить, что он там, где все ему привычно и любо. И всегда какая-нибудь ничтожная деталь возвращала его к действительности: то окажется, что лес растет на мшистом ложе, чего никогда не видел он у себя, то через ручей, такой похожий на множество ему подобных дома, перекинут мостик совсем другой формы.
Теперь перед ним было то, к чему он стремился всей душой, что дорого и свято и что стало еще более дорогим и святым после этих лет войны, потому что во имя этого пролита кровь тех, кого Мартын никогда уже не встретит, никогда не найдет.
Узкая полоса вечернего света переместилась и легла около Мартына, он мог дотянуться до нее. Все его тело покрывали тени деревьев, а рука, загоревшая под солнцем многих стран, была освещена. Потом солнечный луч, подобно лучу прожектора, переместился еще ближе к Мартыну, коснулся его головы, и он полежал еще несколько минут, согреваемый кротким светом вечера.
Когда луч уполз дальше к шоссе, Мартын встал и направился к поселку. Солнечный луч как бы снял с него всю тяжесть дня; ничто не теснило сердце, и он шагал к поселку бодрым солдатским шагом, как бывало, с кителем, накинутым на плечи, с открытым воротом рубашки.
У дома, где некогда жили его приятели и где жила Варя, он замедлил шаг.
В глубине садика, около веранды, в плетеном соломенном кресле сидела молодая женщина в пестром платье; она вязала. Мартын, услышав пощелкивание длинных спиц, остановился у изгороди, увидел гамак и столик, окрашенный в зеленый цвет, и самовар на столе у веранды.
Все как было, все знакомо, кроме этой молодой белокурой женщины в пестром платье… А так, войди сюда, сбрось китель, сядь на траву, повремени несколько минут – и кто-нибудь из обитателей выйдет, улыбнется, крикнет в открытую дверь: «Мартын приехал!» В доме начнется суета, Варя вынесет скатерть и, холодно кивнув Мартыну, скажет: «Что-то вас давно не было, майор!»
Мартын вздохнул, закрыл на миг глаза и услышал, что его окликают: женщина спрашивала, кто ему нужен.
– Не найдется ли у вас стакана молока? – сказал Мартын.
– Входите! Калитка справа от вас.
Мартын, просунув руку в щель между штакетником, нащупал вертушку и открыл калитку.
– О! – вежливо улыбнулась женщина. – Вы знаете тайну нашей калитки!.. – Она вопросительно посмотрела на него.
– Да, – рассеянно ответил Мартын, – я тут бывал… Часто бывал когда-то… – Он осмотрел вертушку. – Я сам прибивал эту штуку. Прежние хозяева были люди нерадивые, калитка у них вечно была настежь.
– Вы знали Ремневых?
– Знал.
Женщина снова улыбнулась, на этот раз не только отдавая дань вежливости, но и приветливо.
– Очень рада! – проговорила она. – Я сейчас принесу молока, – и поднялась, оставив вязанье.
– Что это вы вяжете? – спросил Мартын, разглядывая ее работу.
– Матери к зиме.
– Хорошо, мастерица вы. Вы уж простите меня за вторжение.
– Нет, нет, что вы! А я, признаться, удивилась: стоит военный, рассматривает дом, словно хочет снять дачу…
– Разве вы сдаете дачу?
– Нет, я так, к слову… А впрочем, что ж это я?! – И, заторопившись, женщина ушла.
Мартын надел китель, провел гребнем по волосам, опустился в кресло. Рядом лежали маленькая белая шапка и деревянная рапира. Мартын повертел ее в руках, усмехнулся.
Женщина вошла с кувшином и блюдом, на котором лежал хлеб.
– Это Мишина рапира, – сказала она, – моего старшего. Играют в рыцарей, крестоносцев вспомнили, госпитальеров каких-то. Ходят с исцарапанными носами! Сейчас должны прийти, купаются. Садитесь! Молоко свежее, мама только что подоила корову.
Мартын крепко посолил хлеб, налил молока в стакан и начал есть. Женщина снова принялась вязать, изредка поглядывая на Мартына.
– Вы как-то очень аппетитно кушаете, – и светлая улыбка озарила ее неправильное миловидное лицо. – Вы мне напомнили мужа: он тоже так ел – как-то особенно вкусно.
Мартын хотел спросить, почему она вспомнила о муже в прошедшем времени, но удержался. Женщина поняла невысказанную мысль:
– Он был железнодорожником, начальником службы тяги. А погиб под Смоленском, в самые первые дни. Бомба попала в поезд… – Глаза ее затуманились. – Много их погибло. И старик Ремнев, Иван Ильич, тоже погиб.
Они долго молчали.
– И не знал, что он погиб, – голос Мартына прозвучал глухо. – Жаль… Могучий и хороший был человек.
– Да, собирался прожить до ста лет, – женщина вздохнула.
Мартын отставил стакан.
– Вы не стесняйтесь. У нас хорошая корова, молока хватает. – Женщина поднялась, чтобы наполнить стакан.
Мартын предупредил ее:
– Не беспокойтесь, я сам. – Он внимательно смотрел на струю молока, мягко льющуюся из кувшина. – А эту дачу, – сказал он потом, – вы ее купили или как?
– Наш дом сожгли. Тут упало много зажигалок… И дом Васиных сожгли, и Мячиковых. Вы их, вероятно, знали: они ведь дружили с Ремневыми.
– Да, да!..
– Ремневы уехали в Сибирь, а меня попросили пожить у них. Потом они там остались, а я им написала, что куплю, если в рассрочку… Понемногу плачу, они не торопят.
Мартын отхлебнул молока и задумался. Вот как: отца Вари нет в живых, а Варя в Сибири, сюда уже никогда не вернется, дачу продали…
– Где же они живут?
– Где-то под Омском. Варенька там вышла замуж, двое детишек у нее. Вы ее, конечно, знали?
– Знал, – коротко ответил Мартын, сдерживая вздох.
Мир перестал ему казаться теплым и добрым; снова лишь чужое окружало его. И этот зеленый стол новый… Тот вечно качался на единственной ножке в центре; и гамак слишком нов; и дом, где было ему так весело и уютно, хмуро, исподлобья смотрит на него, как бы спрашивая: «Зачем ты тут? Чего тебе надо? Тут даже трава вырастала шесть раз после того, как ты в последний раз ходил здесь…»
– … И уж бог ее знает, как она нашла человека по себе, – донеслись до него слова женщины. – Холодная была девушка, дерзкая. А вот поди ж ты! Всему свой срок, каждому человеку.
– Да, – с угрюмой усмешкой отозвался Мартын, чувствуя, как сердце его снова наполняется раздражением. – Долго она искала. Ну что ж, не завидую тому человеку! – добавил он сухо.
Женщина не ответила.
Мартын отставил недопитый стакан.
– Можно закурить? – спросил он.
– Да, конечно… А что же молоко?
– Спасибо, я уже сыт.
– Такой крупный человек – и так мало ест! – Женщина покачала головой. – А я – то думала, вам и кувшина мало.
Мартын невесело рассмеялся.
– Нервы, – прибавила женщина, – все стали нервные, оттого и мало кушают.
– Возможно.
Мартыну хотелось поскорее уйти, остаться одному со своей горечью.
– Простите, – сказал он, – сколько я вам…
– Что вы! – отмахнулась женщина. – И как вам не стыдно?! Ведь не чужие мы люди, – сказала она просто. – Посидите, поезд в город пойдет почти через час. Вам ведь в город?
– Да.
– Жарко там, душно, ужас! Вы там служите?
– С завтрашнего дня начну.
Завтрашний день среди четырех стен, в духоте, за бумагами ему, привыкшему к свободе и просторам, казался невозможным. Мартын и не думал о нем. Это завтра, а сегодня последние часы отпуска он проведет сам с собой.
– А Варенька, – как бы мимоходом проговорила женщина, – приезжала сюда этой весной.
– А-а! – отозвался Мартын, стараясь казаться безразличным к этому сообщению.
– И, знаете, я не узнала ее, право. Такая бойкая, такая добрая! Видно, время пообточило углы. Между прочим, – женщина искоса посмотрела на Мартына, – все спрашивала, не заходил ли сюда майор Кравченко, не оставлял ли записки.
– Да? – тем же тоном деланного безразличия произнес Мартын и притворно зевнул: – Кто же он, этот майор?
– Не знаю. Друг или знакомый. Велела, если зайдет, дать их адрес, попросить написать им. «Все, – говорила, – вспоминают о нем, весь дом. Не знают, что с ним, очень беспокоятся…» Выходит, друг.
Вечерние краски сгущались, все вокруг растворилось в сумерках, прохладой потянуло из оврага. Лишь желтый квадрат ржаного поля еще оставался ярко освещенным; на него упала тень сосны, одиноко стоящей среди поля, – резкая тень, похожая на силуэт, вырезанный из черной бумаги и наклеенный на желтый фон.
– Вы не беспокоитесь за ребятишек? – спросил Мартын. – Что-то их долго нет.
– Ничего с ними не будет. Я, знаете, не из тех, что дрожат над детьми каждую секунду, как клуша над цыплятами. Да, право, – угадав недоумение Мартына, добавила она, – ведь я еще не записалась в старухи.
– Рано записываться! – откровенно рассмеявшись, проговорил Мартын.
– Они у меня растут свободно, я их не тормошу.
– Без отца все-таки плохо?
– Да, конечно, мужчина в доме – важная фигура, – с улыбкой сказала она и уже серьезно добавила: – Особенно, когда растут мальчики.
– У вас их сколько же?
– Двое: одному – пять, другому – семь. Хорошие ребятишки. Бабушка содержит их в большой строгости. Моей маме, знаете, под семьдесят, а она работает за трех мужчин. Ее тут кругом зовут железобетонной. Вот уж верно!.. Да вот она сама.
Маленькая, худенькая старушка подала Мартыну сухую, узкую темно-коричневую руку.
– Варенька, – сказала она, – что же это наши пострелята? Ужинать бы пора. – Она приложила ладонь к глазам и без стеснения рассмотрела Мартына. – Вы, батюшка, отужинаете с нами?
– Нет, спасибо, – заторопился Мартын, – я уж и без того надоел вашей дочери.
– Да что вы, какое! Она у меня охотница поговорить, право. Охотница, а не с кем, соседство у нас скучное-прескучное, все молчком. Дюжий-то вы какой, большой-то какой, боже мой!
Мартын и Варя весело рассмеялись.
– Так я, батюшка, и вам уж тарелочку поставлю. Не обессудьте, чем богаты! – Старушка ушла в дом.
– Видели? – спросила Варя. – Ни единой седой волосинки.








