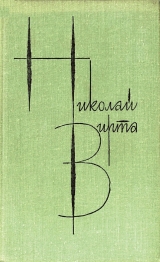
Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
В одном из таких домиков жил мой приятель – к нему я и ехал. По профессии он был землеустроитель, а в тот год занимался нарезкой целинных земель вновь создаваемым совхозам.
Сухощавый, черный от солнца и ветров, приятель встретил меня радушно, расспросил о московских новостях, угостил свежим, добротно прожаренным мясом молодой кобылицы и прохладным кумысом. Потом мы пили зеленый чай с молоком: напиток, который утоляет жажду, как никакой другой.
Отдохнув полчаса, мы сели в машину: приятель повез меня смотреть землю, которую он отвел совхозу, еще не существующему в природе.
Вечер принес прохладу. Пыльные облака ушли куда-то на юг, так что сорок километров, которые мы должны были сделать от станции до центральной усадьбы будущего совхоза, за разговорами пролетели незаметно.
…И чуть-чуть географии
Налево от нас пробегали озаренные тихим вечерним светом горные вершины; кое-где еще лежал снег и блистал нестерпимо. Солнце, всего час назад казавшееся тусклым, безжизненным пятном, во всем своем великолепии уплывало к западу; горизонт, окутанный розоватой мглой, сливался с землей.
Степь! Целинная степь… Так вот какая она!
Куда ни взглянь – бесконечная равнина, без единого бугорка, без хотя бы махонького какого-нибудь кустика, величавая в своем потрясающем однообразии, нечто беспредельное, уходящее в беспредельность… Земля и ковыль: только он из века в век родился здесь и покрывал неохватным взором долины, только он катился зеленой волной от края до края света.
Солнце опаляло его зноем, он темнел, осенние дожди пригибали его к земле, и он, погибая, превращался в пищу ковылю, который родился по веснам и опять могучей зеленью украшал степь. Так шло из века в век: земля накапливала свой жир и ждала человека.
И он пришел.
…Мы доехали до горной бурливой речки с высокими и обрывистыми берегами. Приятель остановил машину.
– Вон там, за речкой, будет центральная усадьба совхоза, – сказал он. – Одного из уже заложенных и закладываемых теперь. Осенью сюда приедут люди, и совхоз получит свою землю, свое название, свою технику, а весной начнут пахать… Пахать целину… А потом сеять пшеницу и кукурузу, просо и овес, разводить овец и коров… И строить: дома, клубы, склады, мастерские, школы, больницы, магазины – короче, все, что надо человеку.
Я молчал. Мне казалось немыслимым, что здесь, в этой пустыне, где слышался только рокот горной речки, будет то, о чем с такой уверенностью говорил мой приятель.
– Где же им жить? – спросил я потом.
Приятель повел плечами.
– Как и во всех новых совхозах, сначала в палатках и землянках.
– Может быть, – осторожно сказал я, – сначала надо бы проложить дороги, построить дома и все, о чем ты говорил?
– Слишком долго ждать, – прозвучал в ответ голос моего приятеля.
Я взглянул на него. Он был суров в ту минуту.
– Да, слишком долго ждать. Хлеб с целины нужен сейчас. Сейчас. – Солнце уже коснулось краем горизонта. – Будем пахать, сеять, снимать урожай, и строить дома, и прокладывать дороги. Без промедления. Сейчас же.
Я молча кивнул, но душу мою терзало сомнение: слишком диким казался мне этот край, и не верилось, что через какие-то годы безлюдье и вековое молчание степи будут только темой для нас, писателей.
– Может, так оно и будет, – сказал я.
Приятель, усмехнувшись, обернулся ко мне:
– Интеллигентский червячок сомнения?
Я снова мотнул головой. Приятель похлопал меня по плечу:
– Приезжай сюда годика через три-четыре, Фома неверующий.
– Приеду, – сказал я.
До поздней ночи колесили мы по степи. Из-за гор на смену дневному светилу выплыла луна. Осиянные ею вершины гор словно бы приблизились, а провалы ущелий четко выделялись на синеватом фоне склонов. Лунный свет растекся по степи, прохлада ночи гнала прочь дневную усталость. Я мог бы всю ночь напролет ехать в машине под ровный, успокаивающий голос моего приятеля, рассказывавшего о своих скитаниях по целине. Изредка он останавливал машину и говорил мне, что вот здесь расположится стан первой тракторной бригады нового совхоза, а вон там, за песчаными барханами, второй, а еще дальше на юг, километрах в пятидесяти от центральной усадьбы, – участки прочих восьми бригад.
– Сколько же в конце концов будет земли у этого совхоза? – вырвалось у меня.
– Сорок тысяч гектаров пахотной, шестьдесят тысяч гектаров под пастбища в горах и тысяча гектаров под огороды и сады.
– Брось шутить, – огрызнулся я. – Сады! Это луна на тебя действует, вот ты и фантазируешь… Чтобы здесь были сады? В этой пустыне? Чему угодно поверю, но уж этому – извини.
– Года через три-четыре угостим тебя яблоками из здешних садов.
– Теперь уж непременно приеду сюда, – выпалил я. – Приеду, хотя бы затем, чтобы уличить тебя в диком фантазерстве.
– Ну, посмотрим, – хладнокровно ответил приятель, – посмотрим, кто из нас больше способен на фантазерство, ты, писатель, или я, простой смертный.
….. Ночью я видел сон, будто хожу вдоль горной реки, и вдруг перед моими глазами предстал сад, огромный, цветущий, и дети резвились в нем, и падал на мою голову яблоневый цвет.
Поэма о Диканьке
Знаете ли вы что-нибудь о Диканьке? Да нет, где уж там… Ничего вы не знаете о ней. Господи боже мой, два самых великих русских писателя нашли время поведать миру о знаменитой Диканьке, которая известна теперь всему миру, а вы, теперешние писатели, что вы изобразили о той нашей Диканьке, что вы знаете о ней? Скорблю, скорблю душевно… Вы вспомните только:
Богат и славен Кочубей,
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольно, нехранимы.
Кругом Полтавы хутора
Окружены его садами…
Э, да что говорить! А вспомните дальше, что писал Александр Сергеевич Пушкин, вспомните, как Орлик допрашивал Кочубея:
…Мы знаем,
Что ты несчетно был богат;
Мы знаем, не единый клад
Тобой в Диканьке укрываем,
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имение сполна
В казну поступит войсковую —
Таков закон. Я указую
Тебе последний долг: открой,
Где клады, скрытые тобой…
Вот как писалось о Диканьке в прошлые времена настоящими писателями! Хутора под Полтавой… Да знаете ли вы, что эти Кочубеевы хутора были как раз под Диканькой, что еще до недавних пор были там целы развалины Кочубеева дворца, а в нашей церквушке хранилась окровавленная рубаха Кочубея, тайно снятая с него друзьями после казни… А первые рассказы Гоголя как называются… «Вечера на хуторе близ Диканьки» – вот как они называются. И изданы они были пасечником Рудым Паньком из-под Диканьки, вот кем! Вы помните, что писал этот самый Панько? Вот что он писал: «…как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку…» Когда мне было лет одиннадцать, с того времени полста лет утекло с гаком, мы с ребятишками облазили всю округу – все искали Кочубеевы клады, которые так и не достались проклятому изменнику, холопу короля шведского Карла Двенадцатого, окаянному гетману Мазепе, не к ночи будь он помянут… Недаром ему попы поют анафему при случае, так и надо прохвосту! Нет, не нашли мы тех кладов! Не разыскали и хуторов под Диканькой, где случились «Вечера», описанные Гоголем, и ни один черт не мог сказать нам, помнит ли он Рудого Паньку, который издал те «Вечера», – их теперь читает весь мир от мала до велика, поверьте мне! Уж мы вовсю старались, не пропустили ни единого, самого старого деда, все просили припомнить, не знавал ли он сам, его отец или дед того Панька Рудого… Так ведь нет, никто не вспомнил! А вернее всего, как я много лет спустя догадался, все это Гоголь выдумал из своей головы, а пасечника Панька приплел просто так, для красного словца… Но как бы там ни было, от того слава нашей Диканьки не померкнет во веки веков… Что написано пером, не вырубить топором, так-то говаривали наши деды… Ах, милая, родная Диканька, есть ли место краше тебя на всем великом белом свете? Так нет же, ей-право нет!
Тут Остап Чуб замолчал, дабы набить трубку махоркой, а Чубиха тем временем вздыхала, вспоминая Диканьку, а может быть, молодость, проведенную в тех знаменитых и прекрасных местах… Сидели мы в саду Остапа Ондреевича, позади их дома на центральной усадьбе совхоза, сидели в беседке, искусно построенной самим Чубом над обрывом той самой говорливой горной речки, рокот которой я слышал четыре года назад, когда еще не было тут ни дома Чуба, ни прочих домов и не верилось, что буду я есть яблоки, выращенные на целине… А теперь стояло на столе блюдо с белым наливом, сочным-пресочным, только что сорванным Матреной Федоровной с шестилетних яблонь. Рядом помещался штоф с горилкой и бутыль с бесподобной малиновой наливкой, изготовленной той же Матреной Федоровной из собственной малины, росшей вдоль обрывистого речного берега.
Как и четыре года назад, плыла луна над нашими головами, и мирно спали в тот ночной час вершины Ала-Тау.
– Нет, быть не может во всем мире места краше Диканьки, – начал снова Остап Чуб, когда в жерле его трубки появился багровый бугорок и в прохладном, неподвижном воздухе повисла струйка синеватого дыма. – Вот, говорят, в Москве построены на удивление людям дома аж в двадцать этажей… Конечно, нет таких домов в Диканьке… Но скажите мне по чести, разве есть в Москве такой воздух, как в Диканьке? И найдете ли вы там такие вишневые сады? Может, полями просторными, как море, среди которых расположилась наша Диканька, вы можете похвастаться? Так хвастайтесь, прошу вас, сделайте милость!
Мне не было никакой охоты хвастаться чем бы то ни было, особенно домами «аж в двадцать этажей», и я смолчал.
– Вот видишь, Матрена, – победоносно возгласил Остап Чуб, – он молчит… Боже ж мой! Да если бы появился новый Гоголь, приехал бы в Диканьку, он бы еще и не такие «Вечера» написал про наше життя…
Конечно, не только Гоголю нашлась бы работа в Диканьке, но и самому Пушкину, появись такой на свете. Эх, вот бы кто воспел наши привольные колхозные поля, нашу золотую пшеничку, наши сады, кукурузу нашу ростом… – Чуб опасливо взглянул в сторону супруги, – ростом эдак метра в три, нашу свеклу сахарную, наших породистых коров, ярмарки наши, что выйдут почище Сорочинских. Да-а, не одна бы тема нашлась для поэмы о нашей Диканьке Александру Сергеевичу, мир его праху, что упомянул в бессмертных творениях своих мою родину.
Чубиха смахнула набежавшую слезу. Остап Чуб прочистил горло трубным кашлем. Говор горного потока стал слышнее. Длинные тени легли на долину от горных вершин, и потянуло ночным холодком.
Два слова о супругах
Воспользовавшись молчанием моих хозяев (они пригласили меня заночевать у них), возьмусь за описание их внешнего вида. Фигуры, что Чуб, что Чубиха, примечательные, и я не нашел в совхозе людей такой достаточной породы, как Остап Ондреевич и Матрена Федоровна.
Начну с хозяина. Это был рослый мужчина, как говорится, косая сажень в плечах, с могучим торсом, воловьей шеей и головой, о чем уже упомянуто выше, величиной в добрый арбуз. При лунном свете она казалась серебряной из-за щетины, давно не бритой и стоявшей ежиком. Кроме щетины голову сию украшал клок длинных волос, свисающих к левому уху, именуемый «оселедцем», – то была в стародавние времена всенепременная принадлежность каждого уважающего себя казака из Запорожской Сечи. Одет был Остап Чуб в просторную украинскую рубаху с открытым воротом. Она оголяла его могучую шею с кадыком, выпирающим несколько вперед. Кроме того, были на нем штаны, тоже казацкого фасона из тех, что «широки, як Черное море». Короче говоря, являл он собой почти точный портрет знаменитого гоголевского забияки и драчуна Тараса Бульбы, да и в повадках Чуба наблюдалось немало от того запорожского воина, бившегося насмерть за отчизну и веру.
Уже спустя некоторое время узнал я, что, несмотря на свои шестьдесят шесть лет, Остап Чуб лихо отплясывал гопака и мастерски сыграл того же Тараса Бульбу в самодеятельном спектакле, поставленном совхозной молодежью. Нашлись среди целинников артисты на роли Остапа, Андрия и красивой полячки, совратившей Андрия на измену святому делу. Спектакль был заснят проезжим кинооператором и вызвал всеобщий восторг среди тех, кому оператор показывал его. В том числе и у меня.
Матрена Федоровна тоже отличалась формами весьма солидными и ростом, что называется, взяла; была она дородна и, хоть давным-давно отжила она свои полста лет, отличалась проворством рук и веселым нравом, что, впрочем, не мешало ей час от часу вспыхивать наподобие пороховой бочки. В образе ее как бы воплотилась типичная украинская женщина, говорливая и жалостливая, хозяйственная и добродушная. Но уж если встанет она с левой ноги или выведут ее из себя, тут держись: сама сатана – ни больше ни меньше!
Своему Остапу Матрена Федоровна народила добрую полдюжину ребят; к тому времени, когда я познакомился с Чубом, четверо из них покинули отчий кров. Двое сыновей женились, обзавелись своим хозяйством и работали в том же совхозе комбайнерами и трактористами. Дочь и еще один сын уехали учиться в Алма-Ату. Жили старики с младшим сыном Тарасом и дочкой Анной: они ходили в школу. К слову сказать, видел я ту школу! Построенная местным архитектором, светлая, прекрасно оборудованная, она могла бы украсить не одну улицу матушки Москвы.
Вот вам приблизительный портрет этой пары, прожившей бок о бок сорок лет с довеском. Если не считать редких ссор из-за слишком пылкой фантазии главы дома, они друг в друге души не чаяли и все делали сообща. Оттого дом их ставил в пример сам директор совхоза, а парторг имел обыкновение водить гостей и иностранных туристов к Чубу. «Вот, мол, как живут целинники, приехавшие сюда на голое место четыре года назад. Обратите внимание: все это построено и посажено собственными руками…»
Эти визиты довольно-таки раздражали Чуба; да и прав он был: у его соседей дома были такие же просторные, чистые и прохладные… А самый закадычный друг Чуба, слесарь ремонтных мастерских немец Карл Больцман, ухитрился завести в своей хате не только ванну – она была и у Чуба, – но и смеситель для горячей и холодной воды.
– Немцы известные выдумщики, – бурчал под нос Остап Чуб, явно завидуя приятелю. – Так я не я буду, ежели не заведу такое же в своем дому.
Дальнейшее при свете луны
Выслушав поэму Чуба о Диканьке и не обронив при том ни слова, я прервал наступившее молчание вопросом – он давно вертелся на языке:
– Позвольте спросить вас, Остап Ондреевич, и вас, Матрена Федоровна, каким же манером вы очутились в здешних местах, вовсе на Диканьку не похожих?
Чуб, упершись очами в пол беседки, пробормотал!
– В гости приехали.
– Как в гости? Куда в гости? – вскричал я, ничего не понимая.
– А вот так, – сказал Остап Чуб.
– А вот так, – повторила Чубиха.
– Это все она, – мрачно заметил Чуб.
– Ой, да не верьте ему! – гневно воскликнула Чубиха. – То была его затея, провалиться мне на этом месте!
– Не провалишься, – хладнокровно сказал Чуб, принявшись обрабатывать голову ладонями. – Не провалишься, мать. Пол лично сам настилал. Он еще и не такое выдержит. И то сказать, а почему ты меня от той затеи не отговорила?
– Да тебя сам черт не отговорит, ежели в твою дурную башку блажь войдет.
Терпение мое готово было лопнуть.
– Да перестаньте вы пререкаться! – вспылил я. – Объясните толком, как это случилось.
Чуб молчал. Молчала Чубиха. Луна заглянула в беседку, и блик ее заиграл на граненой поверхности штофа с горилкой. Вернее, с ничтожными остатками горилки: втроем мы истребили ее за ужином. Неплохая была горилка, скажу попутно, неплохая!
– Брат мой живет под Алма-Атой, – заговорил наконец Чуб и притронулся к штофу, словно бы желая поймать лунный блик. – Шестнадцать рокив не видел брата, соскучился, повидаться с ним захотел. Ну, взял отпуск на службе…
– Он в Диканьке служил в районном совете по сельскому хозяйству, – добавила Чубиха и сладко-пресладко зевнула. – Агроном он по специальности, Остапе мой милесенький.
– Эге ж, – буркнул Чуб и незаметно погладил пышную руку супруги. – Гроши были, поехали мы к брату…
– Полную корзину домашней колбасой набила, – скорбно сказала Чубиха. – Ребятишкам в Полтаве всяких игрушек накупили…
– Ну и что? – подгонял я своих неторопливых хозяев.
– Ну и вышла оказия. – Остап Чуб помолчал. – Оказия вышла, милый человек. О целине я услышал.
– Лихоманка его схватила, – проворчала Чубиха, впрочем вполне добродушно.
– То есть заболел, что ли? – нетерпеливо переспросил я.
– Вот уж воистину сказано: заболел. – Матрена Федоровна сидела, положив пухлый подбородок на округлые, еще совсем свежие руки. – Целиной он заболел, хфантазер мой неистребимый.
Чуб зашевелил пальцами.
– Заболел. Такая меня немочь проняла, все нутро перевернуло. Э, да то долгий сказ, а мне завтра чем свет в степь ехать. Косить начинаем. Старухе делать нечего, пусть расскажет остатнее, а я спать пойду. Вы уж не будьте на меня в обиде.
Чуб поднялся и зашагал к выходу. Половицы жалобно стонали под тяжестью его тела. Да, постарался старый Остап, полы сделал основательные!..
Мы остались с Чубихой.
– Покушать чего не желаете ли? – спросила она.
– Я одно желаю: вас послушать.
Чубиха вздохнула и начала свой рассказ.
Жалкое подобие повести, рассказанной Матреной Федоровной
Признаться, первый раз в жизни оробел, взявшись за перо! Да разве можно во всей прелести передать то, что рассказала мне Чубиха на своем родном языке? Как сохранить его неповторимую напевность, эти образные выражения, передающие саму душу славного украинского народа, эту речь, от которой так и веяло вишневыми садами, раздольем пшеничных полей, хатами, побеленными мелом, медлительными речками, текущими среди красивейших берегов своих?
Заранее предупреждаю – во всей красочной полноте не воспроизвести мне услышанное в ту тихую лунную ночь! Поэтому, дорогой мой читатель, не сетуй на меня и будь снисходителен к сочинителю, плохо знающему язык украинского народа. А на русском, хоть и велик и могуч наш язык, все-таки получится не то, совсем не то…
Впрочем, взявшись за гуж, не говори, что не дюж.
Так вот рассказ Чубихи в моем жалком исполнении, за которое я уже извинялся и извиняюсь еще тысячу раз.
– А надо сказать, – начала Чубиха, – жили мы в Диканьке вполне достаточно. Домик у нас был просто загляденье! Хоть и не такой просторный, как здесь, но ведь родная хата милее сердцу, чем самый наилучший дворец.
Я кивком подтвердил свое согласие с этой очевидной истиной.
– Все-то там было свое, такое роднесенькое да милесенькое. Там и деток я рожала, там с кумушками про всякое через забор переговаривались. Да что говорить! – Чубиха помолчала. – Остапе мой работал по сельскому хозяйству, как было уж мной упомянуто, и очень его любили… Человек он добрый-предобрый, хотя иной раз занесется в своих хфантазиях и такие горы Араратские наворочает, я аж ахаю. С достатком мы жили, то есть вполне прилично. Да ведь за сорок-то пять годов чего только не накопишь, если хозяйство с толком обихаживать и не бросать копейку на ветер. Это те понимают, кто каждую копеечку своим горбом выколотил. А Остапе воистину все своим горбом добыл. Уж как он любил свой дом, как Диканьку свою обожал, сами слышали… Он колхозы там ставил, и в многочисленных хозяйствах его по сию пору добрым словом вспоминают. А в войну партизанил и аж до самых Карпат дошел, где получил страшенную рану и еле-еле от смерти спасся. Я тем временем в эвакуации жила, у брата его, здесь, под Алма-Атой. Вернулась домой – ни хаты нашей, ни сада вишневого, ни кола, ни двора… Проклятущий фашист спалил добро наше, словно его не было. Все мы заново построили, все заново посадили: работали – не гуляли, хочешь верь, хочешь нет… Прошло лет девять, заладил Остап: поедем до брата, соскучился – это он и сам вам сказал… И еще, говорит, хочу ему в ножки поклониться, что приютил тебя, старуху, с малыми детьми в бедственное лихолетье. Собрались мы, поехали, ребят на свекровь оставили: она в прошлом году богу душу отдала – до девяноста шести лет прожила, такая кряжистая старуха была, минуточки без дела, бывало, не посидит… Эдаких старух теперь, пожалуй, и не сыскать… Ладно, приехали мы к брату Остапову, Андреем его зовут. Он в русском колхозе председателем ходил да и поныне ходит. Пожили мы месяц, а тут вышло постановление насчет целины… Нам бы пора обратный билет покупать, а Остапе мой, вижу, похаживает и все-то думает, все-то задумывается. Я к нему:
– Не занедужил ли ты, Остапе?
– Занедужил, Матрена, – отвечает.
– Может, – спрашиваю, – чайком с малиной тебя напоить?
– Малина, – говорит, – мне не поможет!
– Да что с тобой? – взрываюсь я, ровно порох.
– Сам не знаю.
– Пора бы домой, – говорю. – Ребятишки нас ждут и твои дела тоже.
– Да, – отвечает, – ждут. Ничего, ребятишки в верных руках, а дела не ведьмедь, в лес не убегут.
– Ой, – справляюсь, – не напала ли на тебя хфантазия, Остапе?
А он молчит, только усы ладонью гладит да ею же голову полирует.
Прошло два дня, встаю я утром – нет моего Остапа. Спрашиваю золовку:
– Куда мужик мой ушел?
– Не ушел, а уехал, – отвечает.
– Ой, да не тяни ты, Настя, куда уехал?
– В Алма-Ату, слышала.
К вечеру возвернулся Остапе домой, на меня не смотрит. Поужинали, спать бы пора, я спрашиваю:
– За билетом ездил?
Он головой мотает.
– Когда ж едем, родимый? – допытываюсь.
Он опять голову руками полировать. Потом, на меня не глядючи, говорит:
– Я не только в Алма-Ате был, а и подальше. Сто три километра отмахал да столько же обратно, по такой дороге, чуть шею не свернул…
– Зачем, – спрашиваю, – понесло тебя в те края?
– Поглядеть захотелось.
– Зачем глядеть? Не жить же мне там!
– Вот именно жить, – отвечает мой хфантазер. – Жить, мать, до гробовой доски.
Я аж ахнула и накинулась на Остапа:
– Да что ты удумал, невозможный человек? Почему нам жить в тех краях, если туда, сам сказал, такая дорога, что только шеи на ней ломать?
И тут он такое отвалил, что я чуть в помрачение ума не пришла.
– Я, – говорит, – Матрена, работенку себе подыскал. Главным агрономом меня взяли в целинный совхоз… Его, правда, еще нет, то есть совхоза, но земля ему нарезана: сорок тысяч гектаров пахотной, шестьдесят тысяч гектаров в горах для скотины и тысяча гектаров под огороды и сады… Уж тут, – говорит, – развернусь на старости лет… Как, – говорит, – поглядел я на эти просторы, как узнал, что молодежь туда со всех концов Родины прибудет пустыню пшеничным полем делать, спросил я себя: ежели молодежь на всякие лишения идет, неужто мне, старому партизану, в Диканьке сидеть, вишневым цветом любоваться, ходить на службу, от девяти до шести стул штанами полировать, жалованьишко получать и на пенсию выходить по истечению времени?
И так это он на меня жалостливо смотрит, так смотрит, что меня слеза прошибла.
– Вы и отговаривать его не стали? – перебил я Чубиху.
– Да что вы! Сказано было – ежели ему что в башку залезет, долотом оттудова не выдолбить. Уж такой он уродился. Ну, ладно… Сует он мне билет, говорит: «Поезжай, мать, в Диканьку, продай дом, сад продай и всякое обзаведение, которое по дорогам таскать ни к чему, бери ребят и поезжай сюда. Да смотри, не припаздывай, мне не до того будет, чтобы в окошко поглядывать, тебя поджидать!»
Сколько я в те поры слез пролила, сколько охов-ахов из рта моего вылетело, того не сосчитать. Всю дорогу до Диканьки ревмя ревела и, домой приехавши, повыла достаточно. Однако делать нечего: где быть голове, там и рукам быть, а что он без меня, старик мой? Правда, на все он мастер: бельишко постирает любо-дорого смотреть и борща сварит – язык проглотишь. Известно, солдатчина всему наука, особенно партизанская. Да только, думала, до того ли ему будет, ежели такой махиной земли управлять придется? Насидится холодным-голодным, и рубахи некому будет постирать… Ну, поплакалась я соседкам, те, конечно, обзывают моего Остапа всякими словами. Тут я за него вступилась…
– Целина, – говорю, – дело партийное. Раз он до партии пошел, так ему ли противу нее идти, ежели, прямо сказать, великое дело затеяно – сплошь все пустыни в оборот пустить и хлеба давать невпроворот? Ну, добре… За неделю управилась я со всеми делами. Продала дом, охотников нашлось на него видимо-невидимо, продала с садом и всем обиходом, положила деньги в чемоданчик, хотела их в сберегательную кассу снести, аккредитив выправить, да за делами-заботами забыла, а уж тут срок подходит, ехать надо… Ох, и ревела же я в последнюю минуту! Как уткнулась в плетень, что наш сад от соседских отгораживал, силой меня от него старшой мой сын Алешка оторвал… Уж не помню, как я до станции добралась, как пожитки и детишек в вагон сунула… Спасибо добрым людям, помогли… Пришла в себя, вспомнила о деньгах, ахнула: вдруг украдут, останемся без грошика на новом месте… Ну, слава богу, все обошлось. Приехали мы в Алма-Ату, Остапе меня встречает, целует, детишек по головам гладит, сажает нас в машину и везет на станцию… – Чубиха помолчала и смущенно сказала: – Вот напасть, пятый год здесь живу, а названия той станции, хоть убей, не выговорю!
Я подсказал.
– Вот-вот, она самая! Не бывали ли там, часом?
– Четыре года назад.
– Ну, стало быть, видели, что это за станция. Развели нас по казахским избам, теснота образовалась престрашенная. Однако казахи народ добродушный, приняли нас, прямо скажу, братски, все, что в дому, пополам делили… Полюбила я их, очень полюбила. Только к пище ихней так и не приобвыкла: воротит меня от конины… А ребятишки уплетают ее за обе щеки и нахваливают: вот, мол, мясцо, вот мясцо… И Остапе мой обмагометанился: конину ест, кумыс пьет, чаи ихние распивает и с казахами по-ихнему объясняется… Сметлив, скажу, он, ох, сметлив… Помню, как вернулся с партизанщины, все на каком-то языке со мной заговаривал: вроде бы наш язык, вроде бы чужой… Потом сказал, что язык тот словацкий, он у словаков в горах партизанил. Ну, прожили мы зиму на той станции, прожили в тесноте, да не обиде. Весна пришла. Говорит мне Остапе:
– Ну, мать, в степь выезжаем.
– Что ж, – говорю, – пожалуй, оно и лучше. Хоть и добродушен народ казахи, да засиживаться в гостях не положено. Тем более, тесно тут…
– Верно, – говорит. – В степи попросторнее будет.
– Может, две комнатенки нам отведут? – справляюсь. – Все-таки мы многосемейные. Шесть деточек, не шутка… Поди, примут во внимание?
Смеется мой Остапе:
– Нет, мать, не приготовлены для нас комнаты. Придется нам в свое время самим их строить. А пока что поживем в палатке, как все прочие – старые и молодые. Палатку мне выдали превосходную, солдатскую. Все-таки приняли в расчет мое семейство. В ней не токмо что восемь человек, в ней взвод солдат вполне свободно разместится…
Я и знать-то не знала, что такое палатка; не приходилось мне туристкой быть, в наше время этой моды заведено не было.
Переехали мы всем табором в степь – человек триста к тому времени в совхоз набралось, с разных концов земли наехали, да все-то сплошь ребятишки. Глядела я на них и думала: каково им придется, ведь иные только что из-под мамкиной юбки выскочили, а кое-кто из них воображал, будто булки сами по себе из земли растут! – Чубиха добродушно посмеялась.
Луна ушла, в беседке стало темно. Чубиха повернула выключатель, зажегся свет, и тотчас ночные бабочки окружили стеклянный абажур и начали свои танцы.
– Погасите свет, – попросил я Матрену Федоровну. – Слушать вас в темноте как-то уютнее.
Чубиха усмехнулась и выключила свет. Где-то пронзительно верещала птица, а издали доносился рокот двигателей – то комбайны выходили на свои участки – приближалось утро.
– Я слушаю вас.
– Выехали мы в степь, расположились как раз на этой самой речке, что под нами шумит. К речке подходят овраги, вот в тех оврагах и поставили палатки. Оно и правильно: все-таки ветер не так страшен. А ветры тут, особенно в марте, такие, что за душу хватают, уж так-то они воют, так воют, будто собралась преогромнейшая волчья стая и развела на весь свет дикую песню. А уж ежели завернет буран, носа из палатки не кажи, закрутит тебя, ровно пушинку понесет, и пропадешь ни за сон, ни за чох, ни за птичий грай.
– Почему бы вам не остаться на станции? – спросил я.
– Да как же это возможно, суди сам! Остапе целый день в конторе, то с директором и прочими заседает, то в степь едет, то в Алма-Ату за техникой, то на станцию его пошлет директор по совхозным делам. Приедет – с ног валится, обувка грязная, спецовка насквозь потом пошла, брюки – смотреть страшно. Кто бы его обихаживал, не будь меня рядом?
– Вы могли бы оставить до тепла ребятишек у брата Остапа Ондреевича, – возразил я.
– И-и, милый, да я бы тоской по ним изошла! И еще скажу, у брата своих галчат четверо, как можно было ему на шею нашу полдюжину навешивать? Да и нет у нас такого заведения, чтобы семейству врозь жить. И еще добавлю: конечно, горя мы хлебнули в те поры препорядочно, и почем фунт лиха – это мои ребятишки узнали очень хорошо. Ну и что? Кто ж знает, как им жить придется воспоследствии? А тут ко всякому были приучены.
Ладно. Поставили нам палатку. Постели, лампу, керосинку и прочий кухонный обиход с собой привезли, а печку Остап выложил… Зажили помаленьку. Днем еще ничего, забот и хлопот полно, а уж к вечеру, когда наползет темень непроглядная, такая тоска меня за душу хватала, что хоть матушку-репку пой. Иной раз зайдет соседка, немца нашего жена Маргарита, ну посидим с ней, посудачим. Муж ее в больших годах человек, он на Украине в Запорожье работал на каком-то заводе. И тоже, вроде моего Остапа, как прослышал про целину, тем же часом сюда подался, все распродав до ниточки… Хорошие они люди, ничего не скажу, сердечные и горюшка хватанули немало. От Гитлера они бежали еще в тридцать третьем году. Он не чистый немец, Карл-то, он немецкий еврей, а в те поры Гитлер, слышала, вырезал всех евреев подчистую… Господи, вот уж злодейство! – Чубиха помолчала, повздыхала и снова начала: – Ну, посудачим мы с Маргаритой, уйдет она, я лампу вздую, повешу ее на столб, на котором палатка держалась, вяжу или бельишко ребячье чиню, а время так-то медленно плывет, словно бы на месте остановилось. Остапе либо в поле, либо в отъезде – страшновато одной в палатке. А того больше боялась я змей – их тут водилось тогда видимо-невидимо. И не того боюсь, что они искусают. Сказывали мне здешние люди, будто привычка у этих гадюк залезать в рот спящему человеку. Притомлюсь я, спать лягу… Один глаз спит, другой на деток поглядывает: не дай бог змея кому-нибудь из них в рот заползет!.. Вздремну часом, вдруг меня будто в бок толкнет. Вскочу, словно очумелая, огляжу ребят, под постели загляну, не забралась ли гадюка, опять прилягу… А тут еще чемодан с деньгами…
– С какими деньгами? – недоуменно спросил я.








