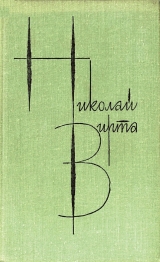
Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
Вартман. Я не травил ваших газом и тебя ни разу не ударил за твои дерзости.
Комар. А ведь я и сдачи могла бы дать.
Вартман. Слушай, ну, положим, вы окажетесь победителями, чему я, конечно, не верю. До Берлина далеко, и драться мы будем зверски. А что будет между вами и союзниками, кто знает? Слишком разные у вас идеи и цели… Ладно, я не о том. Что ты будешь делать, победитель? Тебя, конечно, сделают героем, а? Наверняка, а? Если сманишь меня на службу к советским чекистам. Ха-ха! Чтобы я пошел на службу к чекистам! Черта с два!
Комар. Пойдете! А я, когда наступит мир, буду восстанавливать то, что вы, – и вы, да, да, и вы, Вартман, – разрушили, сожгли, взорвали.
Вартман. Какая блистательная перспектива!
Комар. Уж во всяком случае куда светлее вашей. Прятаться, как волку, таскать какую-то другую личину, подличать, изворачиваться, лгать мне не придется. А в конце концов вам все равно висеть на перекладине меж двух столбов.
Вартман. Вот уж, признаться, не думал, что ты такая… В тебе столько нахальства.
Комар. Нет, Вартман, вы хотели сказать совсем другое. Вы хотели сказать: я никогда не думал, что советский человек может так просто и легко идти на смерть за свое дело. Эту вашу мысль я отношу ко всем, кто сражается с вами и очень скоро свернет шею Гитлеру. И вам. Я не обещаю вам ни помилования, ни защиты. Власти у меня нет. Думаю, что с вами, попадись вы в наши руки, поступят очень строго. Но могут и принять во внимание то, что вы согласились помочь нам поскорее окончить войну.
Вартман. Это очень тоненькая и непрочная соломинка.
Комар. Но все-таки соломинка.
Вартман. Боже мой, боже мой!
Комар. При чем тут бог? Ну так что, Вартман?
Вартман (после долгого молчания).Дайте мне подумать.
– Так впервые он сказал мне «вы», – пояснила Елизавета Яковлевна.
– Это вполне понятно, – сказал я. – Победа над Вартманом была не просто ваша победа, это победа советского человека, нашей идеологии. А что же было дальше?
– Шесть дней я вдалбливала в голову Вартмана одно и то же. Теперь уже не я заводила разговор о его неприглядном будущем.
– Именно?
– Он запирался со мной в своем кабинете якобы для того, чтобы уговаривать меня стать осведомителем контрразведки, а сам начинал выспрашивать, что с ним будет, если он согласится работать на нас. Телефоны он выключал: боялся, как бы нас не подслушали.
Иногда мы садились в машину. Вартман говорил шефу, что везет меня в какую-то часть… Мы останавливались в лесу, уходили подальше. И там все это продолжалось часами – до головной боли, признаться.
Наконец он согласился. Это было 24 сентября. К тому времени я все приготовила к побегу.
– А на хутор Врубля Вартман возил вас до того, как вы занялись им?
– Нет, это было несколько раз.
– Вы рассказывали артистам, что он повез вас туда якобы затем, чтобы вы нашли антенну рации.
– Да. Это поставило меня в тупик. Зачем им понадобилась антенна? А если и понадобилась, он мог послать со мной солдата.
– А не затем ли он ездил с вами к Врублю, чтобы, оставшись наедине, поделиться своими сомнениями касательно дел на фронте и предложить вам свои услуги?

– Нет, там он об этом не говорил.
– В те дни он еще надеялся совратить вас на предательство?
– Он был уверен в том, что я сдамся…
– Вот как! Как бы они ни обольщали вас своим «вниманием» и «галантностью», в их глазах вы были врагом, преступником. Этот контрразведчик пошел на довольно известный психологический прием: привести преступника на место преступления, посмотреть, не расслабнет ли его воля, не «расколется» ли он…
– Если Вартман задавался такой целью, он ничего не добился. Мне было очень грустно, когда я ходила по осиротевшему хутору. Тяжело было думать, что Врубль, Стефа и Рузя в Освенциме. Я содрогалась от мысли, что они погибнут там. К счастью, скажу, забегая вперед, наши войска так стремительно подошли к Освенциму, что гитлеровцам не удалось уничтожить всех заключенных. Мои польские товарищи были освобождены нашими солдатами.
– Так что с хутора Вартман уехал ни с чем?
– Да. Очень злым.
– На обратной дороге он не попытался вести с вами разговор о вашей работе на них?
– Начал. Я резко оборвала его, сказав, чтобы он заткнулся и оставил меня в покое.
– Так и сказали: «заткнитесь»?
– Да. Мне нечего было терять. В те дни я думала только о двух вещах: как мне обработать Вартмана и как бежать.
– Стало быть, и в этих поездках вы еще раз показали ему свой характер?
Елизавета Яковлевна пожала плечами. А я принялся листать стенограмму…
Когда мы обо всем договорились, я сказала Вартману, что он должен взять в контрразведку нашего человека. Кого именно – это ему будет известно после того, как он на деле докажет готовность работать на нас.
Кроме того, потребовала, чтобы он сообщил мне некоторые сведения о работе контрразведки, о пойманных советских разведчиках и о том, где они находятся, о настроениях солдат и командного состава армии. Все эти сведения Вартман по моему требованию написал и подписался.
Договорились и о том, что с нашими связными он встретится на хуторе Игнаца Торговского в Чулове, и сообщила пароль. А в залог стащила у Вартмана компас, вещь, которой тот очень дорожил, может быть, потому, что он был из чистого золота. В контрразведке все видели этот компас и знали, что он принадлежит Вартману, а именно это мне и было нужно.
Я готовилась к побегу и уже знала, как это сделать. За пределы двора меня не выпускали. Но двор я обследовала очень тщательно. В разведшколе нас учили обращать внимание на такие вещи, мимо которых большинство людей пройдет, не заметив. Во дворе я искала лазейку. И нашла.
Контрразведка размещалась в крестьянском доме, где ни ванной, ни туалета не было. Уборная, кое-как сколоченная из досок, помещалась в углу двора. Ее я обследовала особенно внимательно. Оказалось, что две доски в задней стенке, прямо над стульчаком, сгнили и их можно легко приподнять или выбить ударом кулака. Вдоль забора того дома шло шоссе, а за ним начинался густой лес.
Я решила бежать из уборной. Ночью, конечно… И вот на случай, если меня поймают, мне и нужен был компас Вартмана. Я могла бы сказать, будто его мне дал сам Вартман, чтобы я не сбилась по дороге к своим. То есть представить его своим сообщником в устройстве побега.
У Вартмана в таком случае было две возможности: либо как-то выручить меня, либо доказать свою непричастность к побегу, а это казалось мне невозможным. Ведь он дал мне очень ценные разведывательные данные. Так что улики против него у меня были неопровержимые.
– Когда я сказала, что убегу, Вартман испугался и начал просить меня, чтобы я сделала это, когда его не будет дома.
– Вартман, не будьте ребенком, – сказала я ему. – Я уйду тогда, когда найду это нужным и когда будет подходящий момент.
– Его терзали противоречивые чувства, – вспоминала Елизавета Яковлевна. – С одной стороны, он надеялся, работая на нас, снять с себя хоть часть вины. С другой – страшно боялся, что его могут, если я сбегу, расстрелять за халатность.
– Понимаю. Помните, вы как-то сказали, что кое в чем вам пришлось пойти против своей совести.
– То есть в передаче фронту заведомо ложной информации?
– Да.
– Проблема совести здесь ни при чем. Я передала три дезинформационных сообщения, но с аварийным сигналом: «Омар». По аварийному сигналу наши узнали, что я арестована. Между немцами и нашим штабом началась игра в дезинформацию.
Нас предупреждали, если информация передается с аварийным сигналом, чтобы мы не считали это предательством. Фронту очень важно знать, в каком направлении немцы дезинформируют нас. Можно было бы продолжать эту игру, но мне стало противно, и я резко отказалась от участия в ней. К тому же вскоре я бежала.
Удобный момент для побега настал двадцать пятого сентября. Контрразведчики куда-то ушли. Я осталась дома одна, выбрала подходящее на мой рост пальто из экипировки, привезенной немцами для осведомителей, накинула на плечи и пошла в туалет. Солдат-радист – за мной. Я закрыла дверь на крючок, приподняла доски, вылезла на волю и побежала.
Мне нужно было перебежать только шоссейную дорогу, а дальше, как я уже говорила, начинался лес. Я знала, что ночью немцы в лес не пойдут – побоятся партизан.
Как долго я бежала, не помню, только мне было очень легко, будто меня кто-то нес. Даже в темноте я ни разу не споткнулась.
Наконец лес окончился и я вышла к огромному селению. Отдышавшись, постучала в крайнюю хату.
– Я разведчица Первой Польской армии, только что бежала от немцев. Если вы патриоты, вы скажете мне, как пройти в Чернихов. А если вы не патриоты, я в ваших руках и вы можете меня снова отдать немцам.
– Что ты, что ты! – замахал руками хозяин. – Входи смело.
Мы разговорились. Он сказал, что село называется Модлинички, что по селу ходят немецкие патрули и я могу попасть им в руки, поэтому должна дождаться рассвета.
Он накормил меня и отвел в стодол. Там я зарылась в снопы и сидела до утра, прислушиваясь к шорохам.
Скрипнули ворота, и я услышала, как меня очень тихо окликает хозяин. Убедившись, что он один, я вылезла из-под снопов. Мы отправились в путь. По дороге он предупреждал меня, что я должна пройти селение до семи часов утра, иначе немцы схватят и пошлют рыть окопы. Я поблагодарила хозяина и снова побежала, стараясь ступать по росе, на случай если будут искать с собаками.
Так я вернулась в Чулово к Игнацу Торговскому. Хозяев дома не оказалось, все ушли в поле. Хутор Игнаца стоял на высоком холме. Отсюда можно было наблюдать за окрестностями. Каждый человек мог быть замечен на далеком расстоянии.
Вот этот дом я и выбрала для встречи Вартмана с моими связными. Если Вартман придет один – встреча состоится. Если он не сдержит своего слова и приведет солдат, Игнац сможет предупредить связных о грозящей им опасности.
Долго я ждала хозяев. И вдруг меня бросило в дрожь: километрах в трех на шоссе показался небольшой немецкий отряд. Я подумала, что это ищут меня. Полчаса тревожного ожидания…
Немцы скрылись за поворотом шоссе. Наконец в щелочку я увидела младшего сына Игнаца – двенадцатилетнего Юлика. Он нес ведра с водой. Я позвала его. Услышав мой голос, он остановился как вкопанный. Ведра выпали из его рук. Он подумал, как сказал потом, что его окликает «дух». Высунула голову и говорю ему:
– Юлик, это я, Ольдзя, подойди сюда, ты мне очень нужен.
Он подбежал, мы обнялись. Мальчик внимательно выслушал меня и быстро побежал в поле за родителями.
Очень скоро пришли Игнац и вся его семья. Я переоделась и села в копну жита, рядом с противотанковым рвом, чтобы вовремя заметить немцев и бежать. Мне не хотелось подвергать опасности этих замечательных людей.
Семья между тем следила за движением на шоссе.
Немцы не пришли. Как только стемнело, они сняли посты и уехали. Только тогда меня позвали в дом, чтобы покормить перед дальней и опасной дорогой.
Я рассказала Игнацу все о Вартмане. Оставила пароль и предупредила, чтобы в первый раз он не признавался, что знает меня; напротив, пригрозил бы ему пойти и заявить в гестапо.
От Игнаца я узнала, что после моего ареста Березняк, как только немцы увезли нас, выскочил из схрона и ушел в лес, где его встретил помещик Скомский, дал ему другую одежду и увел в поле. Там, у стога жита, собрались те, кто работал со мной. Их всех переправили в польский партизанский отряд.
Поздно ночью Юлик и Франек, старший сын Игнаца, проводили меня к партизанам. Здесь я встретила Алексея Шаповалова. Все поздравляли меня наперебой с удачным побегом.
Алексей сказал, что явилась я очень кстати: радиостанция у партизан есть, но Ася никак не может связаться со штабом, а информации накопилось много.
В эту же ночь со связным партизанского отряда мы отправились дальше и только рано утром пришли в горы – в партизанские леса. Трудно передать радость встречи. Трудно передать и мое состояние. Я была так счастлива снова оказаться среди своих. С этого дня я работала только на рации. Мне выслали новые позывные.
Я рассказала «капитану» о Вартмане и о том, как завербовала его. Это показалось ему настолько невероятным, что он мне не поверил и чуть ли не заподозрил в предательстве. Но поляки сказали ему:
– Нет, ты не тронешь ее. Мы слишком много и хорошо работали с ней и знаем ее как себя.
Вскоре пришло сообщение, что Вартман приходил к Игнацу на явку, но Игнац его отпугнул. Пришел он и в другой раз. На встречу к нему вышли Казек и Метек. После того как они убедились в его искренности, на связь к нему вышел Алексей.
Он встретился с Вартманом на опушке леса, вблизи села Чернихово. В кустах, охраняя Алексея, скрывались партизаны.
От Вартмана стало известно, что мой побег наделал много шума. Меня искали с собаками, но в лесу след утеряли.
Начальника контрразведки разжаловали в солдаты. Его место занял Вартман, как особо отличившийся в поисках русской разведчицы и имеющий влиятельного покровителя.
Он зачислил Алексея в штат контрразведки «осведомителем». Теперь в этом фашистском логове у нас было трое своих: Алексей, Вартман и еще один русский, некто Ромашев, работавший на немцев и завербованный для работы на нас самим Вартманом.
Вартман и Ромашев добросовестно относились к своей работе. С помощью их и Алексея, имевшего удостоверение немецкого контрразведчика, мы получили доступ в такие места, к которым не смели даже приблизиться многие немцы.
Командование ставило перед нами все новые и новые задачи. Во-первых, в связи с готовящимся наступлением на Сандомирском плацдарме мы должны были тщательно изучить оборонительные работы на берегу Вислы. Второе задание состояло в том, чтобы любыми путями сохранить от разрушений Краков, этот древнейший, великий памятник польской культуры.
Первое задание было не из легких. Несмотря на хорошо поставленную разведывательную сеть, нам было трудно полностью справиться с ним. Помощь пришла от военнопленных. Наши солдаты и солдаты союзных армий бежали из лагерей и шли в горы к партизанам. Из военнопленных, в основном из танкистов и летчиков разных наций, мы создали боевую группу.
Трое из них и отправились в центр оборонительных работ за «языком». Это были Митька Цыган, Семен Ростопшин – танкист и Евсей Близняков.
Несколько дней следили они за главным инженером строительства укрепленного района. Наконец застали его у польской красавицы.
К ней он ходил в одно и то же время – в два часа дня. Там наши хлопцы и взяли его. А чтобы благополучно вывести из местечка, занятого немцами, надели на него крестьянский плащ, на голову шляпу, на шею повесили баян, в карман сунули бутылку самогонки, взяли с двух сторон под руки и привели на базу.
Между прочим, этот инженер в свое время имел право беспрепятственного доступа в ставку Гитлера.
И вот к нам в землянку входит человек, с гордостью заявляет, что он член национал-социалистской партии, и выкладывает на стол партийный билет.
Однако спесь с него сошла быстро, когда он узнал, куда и к кому попал. Упрашивать долго не пришлось. Митька Цыган помахал перед его носом пистолетом, и инженер сразу на все согласился. Недели две он делал зарисовки оборонительных сооружений, а я передавала в штаб фронта то, что инженер сообщал нам.
За эту информацию мы получили благодарность от командующего фронтом маршала Конева И. С.
Выполнять второе задание – спасти Краков от разрушений, нам помогли сами поляки. В городе у нас были помощники – целая семья бродячих музыкантов: Юзек Прысак, его жена и дети. Они ходили из кабаре в кабаре, со двора во двор, прислушивались, присматривались и приносили замечательные сведения.
Однажды «музыканты» увидели, что немцы роют траншеи и прокладывают какой-то кабель. Работали только немецкие солдаты под охраной гестаповцев. «Музыкантам» это показалось подозрительным. Они пригласили работающих на обед «со шнапсом». Сначала языки гостей развязывались туго. Приглашали их несколько дней. Наконец, перепившись, немцы проболтались, что идет минирование города и с Краковом будет то же, что и с Варшавой.
Убедившись, что немцы действительно начали минировать Краков, мы предложили Вартману немедленно достать план минирования. Он выполнил наше поручение. Добытый план был передан за линию фронта.
Когда наши войска заняли Краков, саперы обезвредили мины и спасли древнейший город Польши.
Восемнадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года я передала последнюю радиограмму:
18.1. «Украинцу». Личному наблюдению. В Скавина организована школа, обучается 70 немцев для заброски в советские тылы. Здесь же размещена группа бандеровцев. Задача немцев: руководить диверсионной деятельностью бандеровцев.
Двадцать пятого января тысяча девятьсот сорок пятого года мы соединились со своими наступавшими воинскими частями, передав им тридцать пленных немцев.
К тому времени войска 1-го Белорусского фронта освободили Кельце, Радом, Варшаву, потом Лодзь. Части 1-го Украинского фронта, выбив немцев из Ченстохова, 19 января вошли в Краков, а 28 января очистили от фашистов Верхне-Силезский промышленный район и его центр город Катовице. 23 января войска этого же фронта вышли на Одер.
Начиналось последнее и одно из самых ожесточенных сражений войны. Оно продолжалось до мая, когда под ударами Красной Армии рухнула империя Гитлера.
Я проработала в тылу врага 10 месяцев, передав штабу фронта более трехсот радиограмм.
Самая большая награда для разведчика – это сознание того, что его работа не пропала даром. Когда меня награждали орденом Отечественной войны II степени, мне сказали:
– Ваши радиограммы подтверждены боями.
1973
Жизнеописание Остапа Чуба, составленное с его слов и со слов его достопочтенной супруги и опубликованное для всеобщего сведения, а также в назидание потомству
Присказка
Не далее как два года назад случилось мне видеть такое, что потрясло до глубины души. Было это в Крыму, в каком-то парке, не помню уж точно в каком, – может быть, в Ялте, а может, в Мисхоре.
Представьте дорожку, покрытую асфальтом толщиной примерно в три-четыре сантиметра. Через эту толщу пробилась на свет божий ничтожная травинка, эдакий тоненький и востренький стебелек длиной в мизинец, нежно-зеленый и слабенький, только что вылезший из семечка, неведомо как попавшего под асфальт.
Сначала мне показалось, что травинке просто повезло: в асфальте, думал, образовалась трещинка, и стебелечек, тут как тут, пролез через нее, словно нитка через игольное ушко. Так нет же! При самом тщательном осмотре я убедился, что никакой трещины в асфальте и в помине нет! Больше того, когда я внимательнее рассмотрел это место, вздев для того на нос очки, я увидал, что травинка не просто вылезла из-под асфальта, но и как бы взорвала его, а рядом с ней пробивались наружу еще несколько стебельков.
«Боже, – подумал я, – какая же сила в этом маленьком и слабеньком создании, если оно могло разрушить то, что под силу человеку?»
Сколько же надо было преодолеть травинке всяких препятствий, сколько терпения и мужества набраться, чтобы увидеть солнечный свет, ощутить тепло мира и расти и размножаться, несмотря ни на какие преграды!
Долго сидел я на скамейке, разглядывая могучую эту силу, воплощенную в еле приметном творении природы, и ушел, думая о нем и до сих пор вспоминая тот случай, поразивший меня.
Вторая присказка
Достопочтеннейшая Матрена Федоровна, или, как все ее звали, Чубиха, под великим секретом сообщила мне, что ее супруг, то есть Остап Чуб, «всякие хфантазии» обожает до бесконечности и способен «нагородить горы Араратские» про себя и про свое семейство, поэтому, мол, не каждому его слову верить надобно… Короче говоря, Остап Чуб, выражаясь более вульгарно, любил прихвастнуть при случае и сочинить басню, не моргнув глазом и не поведя бровью, что, к слову сказать, я выяснил примерно минут через пять после нашего с ним знакомства. Имея в виду слабость Чуба к «хфантазиям и басням» и не желая огорчать его, пришлось мне, во-первых, переменить моему новознакомцу имя и фамилию, а во-вторых, поселить не там, где он жил, когда мы с ним встретились и где он проживает о сю пору.
Знакомство
– Вы звидкиля? – таким вопросом встретил меня Остап Чуб, причем тон его был, прямо скажу, далеко не любезный.
– Из Москвы.
– Эге ж! – Чуб подкрутил сивый ус, росший вниз по-казацки, и посмотрел на меня неприязненно. – Вы к нам чи по делам, чи по керивництву?
– По делам.
– Эге ж. Якое ж ваше занятие?
– Я писатель.
– Эге же. Якое же ваше призвище?
Я сказал.
– Не слыхав. А что ж вы написали?
– Пять романов.
– Не читав. А для кино писав?
– Писал.
– Что сь?
Я назвал сценарии, по которым были поставлены фильмы.
– Не видав, – сказал Чуб.
Воцарилось молчание. Я чувствовал себя уязвленным: признаться, о своей популярности я был несколько лучшего мнения.
Чуб снова подкрутил ус и, хитро подмигнув мне, сказал:
– А того кулака в первом своем романе вы написали здорово. Здорово, не сойти мне с этого места!
Я воззрился на Чуба остолбенелыми глазами, но, вспомнив рекомендацию, данную его супругой, понял, что этот сивоусый верзила решил меня разыграть.
– Теперь позвольте спросить вас, товарищ Чуб, вы с каждым новым человеком знакомитесь эдаким манером?
Чуб опять подмигнул мне:
– Случается, но редко.
– Почему же так случилось именно со мной?
– А я подумал, не из той ли вы комиссии, которая была у меня утром.
– Из какой, черт побери, комиссии?
– Из руководящей.
– Не понимаю! – раздраженно вырвалось у меня.
– А что ж тут не понимать? Вчера были три комиссии, позавчера – пять и сегодня – две. – Чуб вздохнул. – И все по руководству. А отдельных руководителей наезжает каждый день бессчетно. – Подумал и добавил: – Двадцать восемь человек за день. Это уж как пить дать.
Памятуя о словах Чубихи, я осторожно сказал:
– Давайте скинем две трети – и будет как раз…
– Что скинем?
– Число комиссий и ответственных людей, беспокоящих вас…
Чуб подозрительно взглянул на меня:
– Уж не разговаривали ли вы с моей старухой?
– Было такое дело, – признался я.
Чуб почесал голый затылок. Потом помолчал. Потом сказал:
– Пожалуй, скинем.
Я рассмеялся. Чуб рассвирепел:
– Вы думаете, что и этого мало? Мне работать надо, а тут приезжают разные в машинах, то им скажи, то покажи, то докажи… Вот я и подумал, что и вы из них.
– Вообще-то говоря, вы правы. Но мне тоже надо кое-что показать, рассказать и доказать. Такое уж мое дело.
– Эге ж, – согласился Чуб, принимаясь обрабатывать ладонями голову величиной в добрый арбуз. – Так вы ж писатель. Вам какую небылицу ни преподнеси, вы всему поверите, потому что сами были-небылицы сочиняете. А комиссиям хфакты подавай, их басней не угостишь.
– Тогда плохо ваше дело, – тут же нашелся я. – Мне нужны факты и были-небылицы. Не погнушаюсь я и баснями, если они того стоят, потому что у каждой басни есть мораль.
Сидели мы с Чубом под парусиновым навесом на скамейках, отполированных несчетным количеством людей, протиравших здесь свои штаны в течение четырех лет. Слабый ветерок приносил из степи запахи пшеницы, созревшей под лучами полыхающего солнца: оно начало жарить во всю силу с рассвета, а в голубом, до боли в глазах ярко-синем небе не было приметно ни одного облачка. Далеко на востоке в растекающемся мареве жаркого дня едва виднелись голубоватые вершины Ала-Тау с темными провалами ущелий. Прохлада, набегая оттуда, смягчала зной и обсушивала пот, выступивший на наших лицах.
– Ну и жара, – нарушил я молчание.
– Жара! – подхватил Чуб с сердитым выражением в глазах. – Настоящую жару вы, видно, знать не знаете.
– С меня достаточно и этой, – устало возразил я, обмахиваясь кепкой.
– Вам-то ничего! Сидите себе и кепочкой помахиваете. – Чуб насупился. – А каково тем, кто работает в степи?
Было ясно, что Чуб сердится на меня за то, что я вел переговоры с Чубихой и не только выяснил кое-какие слабые стороны его характера, но и, не мудрствуя лукаво, сразу же поставил точки над «и», уличив в неиссякаемой склонности к горам Араратским.
– Вы, видно, сейчас не в духе, – без околичностей начал я. – Но как ни верти, разговаривать со мной придется. Вы человек занятой, но и я не болтаться по степи приехал. Когда и где мы встретимся?
– А почему вам вздумалось, будто мне так уж интересно разговаривать с вами? – Чуб гневно покусывал усы и сопел. Нос у него был из тех, мимо которых не пройдешь запросто: эдакая могучая картофелина, выщербленная там и здесь, с пучками рыжих волос солидного размера и густоты, росших из огромных ноздрей. Сопение поэтому было трубное, и уж по одному этому признаку можно было в точности установить, в каком расположении духа пребывает обладатель столь почтенного украшения, занимавшего немалую часть на почерневшей от загара физиономии моего собеседника.
– Потому что, – отвечал я, сдерживая себя от резкости, – ваша супруга рассказала мне кое-что из вашего житья-бытья, но рассказала второпях, выражаясь научно, схематично. А мне бы хотелось послушать о вашей жизни более распространительный рассказ.
– Бабам, известно, делать нечего, вот они и болтают всякое, – пробурчал Чуб, но уже более смягченным тоном.
– Не думаю, чтобы вашей супруге было нечего делать, – снова возразил я, припоминая, какой порядок и чистота в доме Чуба в совхозном поселке. – У вас в доме все блестит.
– Гм! – Чуб был явно польщен. – Небось чего-сь такого намалюете про наше життя? – почему-то опять переходя на украинский язык, осведомился Чуб, и я понял, что ему очень хочется, чтобы про его «життя» было намалевано.
– Такое уж мое дело, – повторил я.
– Гм! – В этом восклицании улавливалась гамма всевозможных чувств. Особенно же ярко проступало наивно скрываемое тщеславие, – увы! – присущее в той или иной доле всякому смертному. – И чого ж вы намалюете?
– Все, что расскажете.
– Эге ж! – Чуб призадумался, потом спросил: – Мабудь, в Москве про мене напечатают?
– Непременно.
– В каком-нибудь тонюсеньком журнальчике, поди?
– Зачем же! Выберем какой потолще. И даже за границей.
– О! Где ж?
– А вот поеду в Чехословакию и там о вас тисну.
– Чехословакия велика, – возразил Чуб, давая мне понять, что весьма заинтересован в том, чтобы и в Чехословакии прочитали о нем.
– А уж в Москве напечатают непременно, – сказал я. – Обещал о вас рассказ одному редактору.
– А он что? – уже не скрывая заинтересованности, изрек Чуб.
– Он сказал: давай, посмотрим.
– А чего там смотреть? – с явным самодовольством возразил Чуб. – Моя жизнь такая, что смотреть нечего. Бери и печатай.
Я посмеялся:
– Так когда поговорим? Может, завтра?
– Еще чего! «Завтра»! Такое дело на завтра откладывать вовсе не резон. Вечерять приеду домой, приходите. Выпьем горилочки, а уж там только успевайте карандашом в книжку чиркать. У меня горилка – весь свет объедете – не найдете.
– Давайте сбавим половину.
– Половину чего? – не понял Чуб.
– Половину света, – усмехнулся я.
Чуб понял мой намек и сердито замотал бритой головой.
– Уж я дам своей старухе табачку понюхать, ой, дам!
Время было кончать разговор, потому что пятеро комбайнеров зло посматривали на меня и нервно курили. Они околачивались здесь битый час, поджидая, когда словоохотливый главный агроном окончит беседу.
Чуб похлопал меня по спине волосатой лапищей, сказал, что ужинать будет в восьмом часу, и подозвал комбайнеров.
Немножко истории…
А занесло меня в те края за несколько лет до знакомства с Чубом. В ту июльскую пору стояла в Казахстане ужасающая жара без единого дождика начиная с половодья. Весна быстро согнала снег с полей, степные речушки, обозначаемые на картах еле приметным пунктиром, высохли, а реки превратились в ручейки – воробьям по колено. В довершение всего гуляли по степям черные бураны, когда ни зги кругом не видно и спасения от пыли не найти даже в домах; пыль проникает в невидимые щели, словно у нее есть нюх на каждую ничтожнейшую трещину в стенке или дверях. Она несется сплошной мутно-багровой завесой протяжением в десятки километров. К небу вздымаются спиралеобразные смерчи, вбирая в себя пыль, ошметки грязи, солому и рваную бумагу. Все это крутится в воздухе в дикой пляске, изобретенной не иначе самим дьяволом.
В этот вихрь попадают перекати-поле, норой достигающие в объеме двух и больше метров. Буран отрывает перекати-поле от слабых корней, и тысячи их несутся по воздуху, выделывая такие антраша, что им позавидовали бы самые искусные циркачи. Иные издали похожи на бурых медведей; эти катятся солидно; другие, поменьше, скачут словно помешанные, на миг припадают к земле, чтобы снова нестись сломя голову невесть куда…
Медленно пробиваясь через сплошную стену пыли и проехав километров сорок по асфальтированному шоссе, мы свернули направо и попали в сущий ад. Перед нами была бесконечная, уходящая в мутную даль костоломная дорога. Каждые десять минут наша машина раз восемь ныряла в рытвины и ухабы. Боясь сломать шею при очередном прыжке в неизвестность или удариться головой о крышу вездехода и проломить ее (голову, разумеется), я держался за что попало и, немыслимо балансируя, кое-как избежал сотрясения мозга.
Водитель, чертыхаясь на весь черный свет – черный, потому что впереди все видимое было застлано мрачным облаком пыли, – то и дело давал сигналы, предупреждая встречные машины, столкновение с которыми могло бы окончиться худо для обеих сторон. Я не переставал восхищаться удивительной выдержкой этого чубатого круглолицего парня. Он, словно прибитый гвоздями, сидел на своем месте, курил, сквернословил, отпускал ядреные шуточки, объезжал колдобины и рытвины, почти собачьей интуицией чувствуя опасность.
Как бы там ни было, выехав после обеда из Алма-Аты – прекрасной столицы Казахстана, широко и привольно раскинувшейся в полуподкове величественных вершин хребта Ала-Тау, ровным счетом через семь часов мы были там, где должны были быть. Сто километров за семь часов – езда, конечно, не слишком быстрая, но и то слава богу, что мы обошлись без увечий, если не считать синяков и шишек да двух-трех ссадин на ногах. Обильно смазанные йодом они через неделю уже не беспокоили меня. Прошли и синяки. И шишки на голове исчезли в свое время.
Когда в тусклом, расплывающемся свете солнца, невидимого из-за пыли, мы увидели группу строений, вздох облегчения вырвался из моей груди. Наконец-то мы были на месте назначения, в казахском селении, расположившемся вокруг железнодорожной станции…
Вокруг деревянного, покосившегося от ветхости вокзального помещения в живописном беспорядке были разбросаны тридцать или сорок казахских домов, длинных и узких, крытых камышом. Сложенные из самана, то есть из смеси глины и мелко насеченной соломы, такие дома способны стоять сто и больше лет. И еще одним драгоценным свойством обладают эти неказистые с виду жилища: летом в них прохладно, зимой очень тепло.








