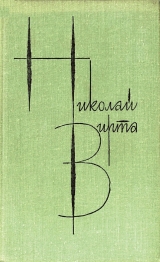
Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
– Значит, и вас зовут Варей?
– Да. Так вот о Варе… Вы сказали: зачем ей нужен тот майор? Видите: вот там тень на поле? Каждый вечер она появляется на этом месте в свой час и уходит… Так и человек: он всегда появляется в памяти в свой час.
– Да, – задумчиво сказал Мартын, – это так. Но ведь это вечерняя тень, только и всего.

– И тень дорога, если к ней привыкнешь. Этот майор, вероятно, забыл уже Варю. А мы помним тех, кто нас любил. Долго помним!
– Никого он не забыл, тот майор! – вырвалось у Мартына.
Варя снова искоса посмотрела на него.
– Тем более, – сказала она, – тем более он дорог ей. Должно быть, она это знает.
– Не может она этого знать. Да и какое ей дело: забыл, не забыл? – Раздражение снова охватило Мартына.
– Нет, она знает, ее сердце знает! – твердила Варя. – Сердце все знает…
В сад вошли дети – светловолосые курчавые мальчики, поразительно похожие на мать, с такими же миловидными неправильными чертами лица, коричневые и стройные.
– А вот и мои мужчины! – весело сказала Варя. – Ну, что ж мы молчим?
Мальчики с нескрываемым любопытством рассматривали Мартына.
– Здравствуйте! – хором сказали они.
– Здравствуйте, – ответил Мартын, – здравствуйте, друзья!
После недолгого молчания младший спросил:
– Эта крайняя ленточка у вас за Кенигсберг. Верно?
– Верно.
– У вас одиннадцать ленточек, ого-го!
– А машина у вас есть? – спросил старший.
– Нет, машины у меня нет.
– Э-э! – разочарованно протянули дети.
– Ладно, – сказала мать, – вымойте ноги да ужинать. Вас ждем.
– До свидания! – хором выкрикнули мальчики и зашагали к дому, оглядываясь на Мартына.
– Хорошие ребятишки!
– Знают все марки машин, все ордена, как полагается. Ничего, не лентяи… Да ведь у нашей бабушки не очень-то поленишься: сама любит работать и другим спуску не дает.
– Хорошая у вас семья, Варвара…
– Антоновна… А ведь вас Мартыном Петровичем зовут?
– Откуда вы знаете? – вспыхнул Мартын.
– Да ведь вы и есть тот майор… – лукаво сказала Варя. – Я это тотчас сообразила. Как вы стояли, как рассматривали дом.
Мартын от смущения не знал, что сказать.
– Нет, вы должны им написать. Они вас тоже любят и будут очень рады, что вы нашлись, право. Дать вам их адрес?
– Потом…
Они помолчали.
Квадратное ржаное поле, слабо освещенное догоравшим закатом, еще резко выделялось на сумеречном фоне. Но вот потух последний отблеск солнца, и от поля осталось лишь неровное, блеклое пятно.
– Вот и все! – с печалью проговорил Мартын. – Вот и нет тени.
– Но она будет завтра, я же сказала вам.
– Страшно, если человек остается в сознании другого только как тень, правда?
– Но вон та сосна, которая каждый вечер бросает тень на рожь, она живет и днем, – возразила Варя.
– Что вы хотите этим сказать? – с любопытством спросил Мартын.
– Я хочу сказать, что в сознании другого можно оставаться не только тенью…
– Да, это так, – проговорил Мартын, – это так…
– Я думаю, – тихо сказала Варя, – самое важное в жизни – сохранить привязанность к людям. Если они, конечно, заслуживают этого, – прибавила она. – Что может быть дороже старых друзей?!
Дом, исподлобья посматривавший на Мартына, будто улыбнулся ему, словно говоря: «Я тебя знаю. Ты был моим другом. Я знаю, как тебе было хорошо здесь всегда. Ушли те люди, а мы с тобой старые друзья! Дух дружбы, брат, не выветрился за эти годы! Забудь о тенях. Дружба живет всегда, помни это, помни!»
– Ужин готов, – донесся до них голос бабушки.
– Ужинать, мама! – сказали дети, они стояли в окне рядом.
Во время ужина Мартын не успевал отвечать на вопросы детей, задаваемые вразбивку и хором. Потом он попрощался с детьми и с бабушкой… Варя провожала его до оврага, шли они молча: вечер был теплый и тихий, сильно пахло скошенным сеном от стогов на лугу.
У спуска в овраг Варя сказала, что должна идти домой, надо уложить детей, приготовить все к утру: она уезжает в город.
– Вы служите? – спросил Мартын.
– В Тимирязевской академии. Мы с Ремневой Варей кончали вместе. До свидания! – Она подала ему руку.
– До свидания.
– Но вы забыли адрес Ремневых, – вспомнила Варя. – Хотите, я схожу? Я быстро…
– Не надо. По крайней мере у меня будет предлог, чтобы побывать у вас еще раз.
Варя рассмеялась и ушла.
А Мартын шел по белому шоссе мимо величавых сосен и вспоминал то, что сказал ему старый дом: «Забудь о тенях и помни: дух дружбы живет всегда. Помни это, помни!»
1947
Обходчик
1
Привезли его на дрезине в самом конце февраля 1963 года. День выдался дрянный: поземка наметала на пути снежные пласты, ветер то утихал, то пронзительно свистел.
Когда сгрузили пожитки Антон Ильича, врач и санитар зашли в избушку и вывели под руки больного старика. Он искоса посмотрел на нового обходчика, губы его пошевелились… Дрезина ушла на станцию, что в двадцати семи километрах от этого заброшенного домика возле железнодорожного полотна.
Старик, видно, жил одиноко. Когда Антон Ильич зашел в домик, в нос так и шибануло! Хлев… «И как это люди исхитряются запакостить свое жилье?»
Огляделся.
Кругом валялись полусгнившие тряпки, щепки, бумажки, обглоданные кости. На ржавой железной койке – свалявшийся тюфяк. А уж несло от него!.. Стены сплошь в клопиных следах, давно не мытые стекла разбиты и склеены грязными бумажными лентами. Потолок прогнулся, а на полу, между досками, зияли порядочные щели, забитые стародавней грязью.
Более прилично выглядела печка. Оно и понятно: зимы в тех краях случаются суровые, и, если еще можно жить вот в такой грязюке, печку сохрани в целости.
Надрожишься.
Обследовав дом, Антон Ильич вышел во дворик, окруженный полусгнившим, расшатанным штакетником. Сараюшка для дров, еще один, скособочившийся, для инструментов, к счастью вполне пригодных, навал шпал, превратившихся в труху, покореженные рельсы, испорченные, отслужившие свой век дорожные знаки, лопата без черенка, топор без топорища, тяжелый зазубренный колун…
А посреди этого убожества – такая же убогая ветла, на вершине которой торчала толстая ссохшаяся ветка. Кора на стволе была вроде бы погрызена, у корневища навалены капустная смерзшаяся листва и картофельная ботва.
– Н-да! – вслух сказал Антон Ильич. – Умел хозяйствовать старикашка, чтоб ему ни дна ни покрышки. – И тут же обругал себя: – Старик-то хворый, давно просил замены, где ж ему углядеть за хозяйством. Хорошо хоть, что службу справлял и никаких происшествий на своем участке не допустил. И как это он мог отмеривать в день по восемнадцати километров?!
Отправляя Антон Ильича в это место, начальство не утаило, что домик обходчика он найдет в неприглядном виде, и попросило без затяжки сообщить, что понадобится для ремонта, пообещав доставить все, как только потеплеет.
Спасибо и на том.
Вернувшись домой, Антон Ильич выгреб грязь, тряпье, старозалежлый мусор, облил стенки средством для уничтожения клопов (дали на станции), то же проделал с койкой, выбросил тюфяк, затопил печку. Веселей стало.
Потом распаковался, устроил по-человечески постель, занавески подвесил к окнам: будто знал, что потребуются (купил в станционной лавочке); подтянул гири старчески-хриплых ходиков, поставил чайник.
Пока закипала вода, Антон Ильич исписал полторы страницы: составлял перечень материалов, потребных для ремонта избушки и служб. На станции сказали: в восемнадцать с полустанка пойдет дрезина и с ней он пусть отправит на станцию, к которой был приписан, эту самую бумагу.
Писал Антон Ильич неспешно, обдумывая каждую мелочь, чтобы, избави бог, не пришло им там в голову, будто хочет кого-то обдурить, разжиться на казенный счет.
Написал.
А тут и чайник закипел.
Антон Ильич отложил писанину, отсыпал щепоть заварки и с необыкновенным удовольствием весь чайник истребил за один присест. Потом вытянул из пачки «Прибоя» папироску, размял ее. И прикинул в уме, как заживет здесь. «Весной расстараюсь пятком яблонь, вишней, смородиной и малиной. Крыжовнику бы тоже неплохо, если хватит места. Огород – это уж обязательно! Жди, когда придет вагон-лавка, да и дождешься – хорошим овощем не разживешься, привезут охвостье, пользуйся!»
Ничего!
Особенно согревало Антон Ильича то, что жить он будет сам по себе, на отшибе от начальства и людей.
Нелюдим был нравом Антон Ильич.
На войну попал он деревенским малым, неуклюжим, но головастым. Саперное дело пришлось ему по нутру. Мало-помалу стали поручать рядовому Галкину рискованные операции, и он хватал отличие за отличием; тут-то и назначили его отделенным. Дело саперное известное: ошибиться можно только один раз. Вышла и у Антон Ильича история. Правда, смерть в тот раз обошла его, но получил он жестокую контузию, а когда пришел в себя в госпитале, не мог вспомнить, в каком месте и при каких обстоятельствах это случилось. Мелькали перед ним порой какие-то людские тени, обрывки разговоров, какая-то девушка виделась во сне, но черты ее расплывались, имени ее он никак не мог припомнить. Часто страдал он смертельными головными болями, кошмары мучили его по ночам. Вставал и стряхивал с себя все это неясное, мерцавшее – до следующих видений.
Выздоровел Антон Ильич. Назначили его в другую часть. После войны домой на побывку не поехал. Родители умерли, село фашисты спалили дотла за укрывательство партизан. Кто побойчей, успел смотаться к ним же, к партизанам. Остальных увезли в Германию, там они и погибли – в душегубках или на каторжных работах.
Еще год тянул Антон Ильич солдатскую лямку на Дальнем Востоке: туда перебросили его часть; воевали с японцами. Там он остался на сверхсрочную. Контузия частенько давала знать о себе. Стал он раздражителен, дерзок с командованием, грубоват с людьми; одним словом, испортился у него характер. Тут сменили командование частью, Антон Ильич не поладил с ним и уволился по чистой из воинства с тремя орденами, множеством медалей и благодарностей Верховного Главнокомандующего.
Некоторое время Антон Ильич маялся в том городе, где была расквартирована его часть, и все скучнее и скучнее ему жилось, свет белый ему не мил, смертная тоска одолевала. С людьми он сходился туго, друзей-приятелей из-за вздорного своего нрава порастерял; на молодежь, что резвилась, словно полугодовалые телята, смотрел угрюмо: «Бесятся!»
Распродал Антон Ильич вещи и убрался из тех мест – поехал в серединные русские области с намерением осесть на Брянщине, откуда был родом; искать работу поехал.
В городе. В любом.
Тут-то и вышел случай, приведший его в избушку обходчика.
2
На той станции, где Антон Ильич теперь числился служащим, выскочил он из поезда купить чего-нибудь из съестного. Замешкался у киоска, а поезд ушел. Антон Ильич побрел к начальнику станции, ругмя себя ругая. Начальник успокоил его. Вещички снимут на следующей станции, пусть товарищ не беспокоится, дал бы список, что осталось в вагоне, он тотчас позвонит соседу, чтобы все в исправности было извлечено и ожидало бы владельца. А прибудет он с семнадцатичасовым почтовым.
До семнадцати времени оставалось много. На станции ни души, дел у начальника никаких: курьерские и скорые поезда здесь не останавливались. Он и рад-радешенек отвести душу со свежим человеком.
Разговорились до того, что в маленьком начальниковом кабинете хоть топор вешай от табачного дыма. Антон-то Ильич не больно словоохотлив, но приличию и его не учить стать. Тем более начальник так душевно отнесся к его беде.
Рассказал о себе накоротке.
Начальник развеселился.
– Ну, ты скажи! Я ведь тоже сапером воевал. В сорок третьем под Котельниковом напхнулся на мину, сработала, окаянная, правой ноги как не бывало.
Только теперь Антон Ильич заметил, что начальник крепко припадает на правую ногу.
Пожалел.
Начальник расчувствовался от воспоминаний, позвал собрата по солдатчине к обеду домой. Жил он очень прилично: во всем угадывался достаток. Почему-то не слишком надежным показался Петр Семенович Антон Ильичу. Может быть, его смущали сытые глаза начальника.
Выпили.
И начал Петр Семенович уговаривать нежданного гостя выручить его, заменить старика обходчика. Того самого, кого потом увезли на дрезине.
– Ну, чего тебе мотаться, Антоша? – раздавался в горнице жидковатый голос начальника. – А тут разлюбезное дело. Сам себе хозяин – раз. Укос на твоем участке богатый – два. Хочешь – продавай сено, хочешь – купи коровенку, все-таки живая душа, да и прибыльная. Сам молоком обеспечен по горлышко, на сдачу останется, опять же денежки в карман. Жалованье, конечно, не ахти какое – не совру, да ведь, надо думать, не «порожняком» едешь с Дальнего Востока.
Антон Ильич признался – накопил кое-что. Тысчонки две с половиной забиты в аккредитив: про черный день.
– Ну и преотлично, – разошелся начальник. – Домишко беру на себя. Загадила его старая скважина. Заеду, бывало, к нему, так и дыхнет мерзостью. А уж сквалыга был! Картошки на огороде мешков восемь накапывал. Попросишь в долг, откажет, с места не сойдя. Ну и гниет.
Выпили.
– Поблизости от моего участка деревень, должно быть, хватает? – спросил Антон Ильич. Меньше всего прельщало его многолюдство.
– Да нет. Тут немец все под метлу истребил. И наш вокзал заново лет пятнадцать назад отстроен, точно не знаю, я сам здесь седьмой год. По левую руку от линии, километрах в восемнадцати, совхоз «Первомай», по правую – сахарный завод, и до него километров двадцать. Были тут, рассказывали мне, колхозы – с землей их сровнял фашист. Говорят, в сорок третьем как раз на твоем участке шел бой неслыханный. Впрочем, может, врут, от тогдашнего населения почти никого не осталось… Так что в этом смысле, Антоша, нашему брату не разгуляться. Но девки из совхоза работают на линии. Как заведешь корову, так и женка набежит.
Хохотнул.
– Что ты, Петр Семенович, – отмахнулся Антон Ильич. – Мне на девок и глядеть-то противно.
– Отчего ж? Есть в совхозе девчонки – закачаешься. Особенно одна, Перевалова. У-ух девка!
Противно стало Антон Ильичу от этих слов, но сдержался. Еще по единой опрокинули, еще по папироске выкурили.
– Ну, как решаешь, Антоша?
Антон Ильич поскреб в затылке. Действительно, чего мотаться? В городе с жильем сейчас туговато… И специальности никакой. Все знает, все умеет – понемножку. Рос не на барском дворе, у отца-плотника кое-чему научился, да и то полузабыл.
Согласился.
Петр Семенович по такому случаю послал жену за поллитром. Пришелся ему по душе этот невзначай попавшийся человек.
Думал: «Все молчком, а видно, душа-человек… С таким молчальником на рыбалке или на охоте одно удовольствие. Не то что телеграфист Сысой… Звенит над ухом, будто комар, леший его забери. А рыба… Рыба, она, хоть и говорят, будто глухая, очень отлично все слышит. Распугает ее Сысой своим звоном, будь он неладен, притащишь домой полдюжины пескарей… Тьфу! «Мне, говорит, Петр Семенович, ваша компания вполне подходит по культурному уровню»… Громадный он дурак, нашел место – на рыбалке культуру разводить!»
Все это Петр Семенович высказал Антон Ильичу, когда от пол-литра осталось на донышке.
Справился:
– Рыбачить – как?
– Не откажусь.
– А охота?
– С превеликим…
– Бесценный ты человек. – И полез целоваться. Это уж у нашего брата такое заведение: выпьем – давай целоваться.
Антон Ильич от мокрых начальниковых губ отвертелся. Хотел начальник послать еще за пол-литром, жена вытянула его из-за стола:
– Проспись, чадушко, через полтора часа почтовый.
Поспали.
С обратным пассажирским получил Антон Ильич вещи в полной сохранности, сдал их в багажное отделение, а сам три недели жил у соседского обходчика к северу от его участка. Обходчикова жена уехала к родным в Краснодар, так что Антон Ильич, проживая в очень прибранном доме «учителя», ничем его не стеснил да и старался поменьше сидеть дома. «Учитель» прямо-таки досаждал ему своей болтовней – язык у него был без единой косточки.
Еще некоторое время Антон Ильич проходил испытательный срок на южном участке обходчика, ушедшего в отпуск. Потом Петр Семенович вызвал кого следует с узловой. Прибыл человек суровый и придирчивый, устроил Антон Ильичу экзамен.
Похвалил.
Несколько дней ушло на оформление – пришлось съездить на узловую. И вот, как сказано, в конце февраля привезли Антон Ильича на новое местожительство.
3
Три километра на север, три километра на юг. Три километра на юг, три на север. И обратно в том же порядке несколько раз за день. Вообще-то положено делать обход два-три раза за сутки, но Антон Ильич с уставом не считался: почему бы лишний раз не проверить сохранность путей – обеспечена ли безопасность следования поездов? Тут, конечно, сказывалась саперная выучка и привычка к дотошному исполнению долга.
Все шесть километров на участке Антон Ильича проходили в глубокой выемке. Глянешь вправо – откос, глянешь влево – он же.
Шел как-то Антон Ильич, постукивая по рельсам молоточком, проверял крепление на стыках, и показалось ему…
Показалось, будто когда-то он здесь был.
Присел.
У кого не возникает часом это странное чувство? Едешь в поезде, смотришь от нечего делать в окно, и вдруг примерещится тебе, что был ты тут, непременно был! Вон то раскоряченное дерево, ей-богу, не во сне видел! Нет, никогда ты не проезжал эти места и не мог ты видеть этого дерева. Просто какое-то смутное воспоминание связано с ним, с таким же деревом, виденным где-то и когда-то, но не здесь.
И пройдет это мимолетное чувство.
Вот такое же случилось и с Антон Ильичом.
Присел он, закурил. Откосы припорошены снегом. На правом, прямо перед ним, красными кирпичами по белому фону выведено: «Слава советскому народу». И пониже: «1963 год». Надпись выложил сам Антон Ильич неделю спустя после принятия должности. Каждый день проходил мимо нее Антон Ильич, сметал снег, подкрашивал от случая к случаю кирпичи, подбеливал галечник. И никогда до этого не возникало в нем это смутное чувство, что видел он когда-то эту выемку и связано с ней что-то очень большое и важное…
А тут – вдруг!
Посидел он, выкурил две папиросы, тщась вспомнить, когда он был или проезжал здесь, да и был ли, да и проезжал ли? Чувство это не оставляло его и на обратном пути. Вернулся он домой, забрался на пригорок метрах в десяти от избушки, огляделся… Ровное, бесконечно ровное заснеженное поле, тусклое небо сливалось вдали с белесым горизонтом. Будто знакомое поле, будто – нет. Поглядел Антон Ильич в противоположную сторону. Там, за выемкой, заснеженный курган, высокий и пологий, маячил перед глазами Антон Ильича, ничего не добавляя к тому неясному чувству, не опровергая и не подтверждая его.
Нет, не был он здесь!
Так и жил Антон Ильич. Каждый день повторял предыдущий. Менялась лишь погода, а во всем прочем время шагало своим чередом, и своим чередом шла работа. Антон Ильич плохо спал первые ночи: тяжело нагруженные товарные поезда с грохотом проносились мимо избушки, и все в ней содрогалось. Потом привык и к этому, и ничто не тревожило его мертвецки здорового сна.
4
В середине марта пожаловал к нему Петр Семенович: лихо подкатил на дрезине, нагруженной мешками, ящиками, досками, малярными кистями.
– Выгружай, Ильич!
– Да тут на три дома! – ахнул обходчик.
– Сколько стратишь, столько и стратишь. Запас делу не помеха.
– Половину обратно верну.
Петр Семенович отвел обходчика в сторонку.
– Из совхоза народ набегает, – сказал он доверительно. – То-се, нет ли мела там, известочки… От красок любых тоже, мол, не откажемся.
– Известно, дефицит.
– Вот и соображай.
– Чего?
– Насчет того, что останется после ремонта от материалов. Любой дом всегда имеет нужду: там покрасить, там подбелить. Ты соображай…
Осторожничал.
– Может, послать к тебе?
– Кого послать? – все еще не понимал Антон Ильич.
– Ну, кто в нужде в том вон добре, – Петр Семенович мотнул головой в сторону дрезины.
Скулы у Антон Ильича стянулись, побагровели, глаза сузились, злость так и хлестала в них. И тут же обмяк. Зачем с ходу портить отношения с этим человеком? Как-никак душевно подошел к нему, к Антон Ильичу.
– Да нет уж, Петр Семенович, пускай идут к тебе, – сказал он просто. – Отсыплю сколько понадобится известки и мела, отолью олифы, отберу лесоматериала. Остальное вези обратно. Мне это добро держать негде. Запоров в сараях нет. Уйду на участок, упрут, кто в ответе?
– Замки привез.
– Спасибо. Только кладовщиком отроду не бывал. Вот так, Петр Семенович.
– Молодец! – Улыбнулся. – Хотел проверить, честно скажу.
– Чист ли я на руку? – как ни в чем не бывало справился Антон Ильич.
– Ладно, давай разгружать. Эй, помоги! Маляра привез, – объяснил почему-то с ухмылкой Петр Семенович, кивнув в сторону парня, сидевшего на дрезине и безмятежно сосавшего конфетку. Одет был парень в ватник, измазанный белилами, в толстенные ватные штаны, тоже сверкавшие всеми цветами радуги, на голове облезлая шапчонка. Лицом бел, глаза навыкате, с поволокой.
Спрыгнул парень с дрезины.
– Давай! – Голос у него звонкий, чистый, вовсе не мужской.
Антон Ильича словно гвоздем к земле приколотило.
– Девка!
Маляриха сняла шапку. Из-под нее золотистой волной растеклись по ватнику волосы.
– Люда! – не своим голосом вскричал Антон Ильич и словно подкошенный брякнулся оземь.
5
В себя он пришел не скоро. Возле него на постели сидел Петр Семенович, а девушка-маляр стояла спиной к нему у печки: там урчал чайник.
Антон Ильич пошевелился, привстал.
– Что это со мной? – хрипло спросил он.
– Лежи, лежи, – грубовато-ласково сказал Петр Семенович. – Мы бы сами рады знать, что с тобой приключилось. Увидел Любу, закричал: «Люда!» – и с копыт долой. Жену вспомнил, что ли?
Антон Ильич помотал головой.
– Не было у меня жены. Дай курнуть.
– А при чем тут какая-то Люда? – Петр Семенович передал Антон Ильичу папиросу.
– Какая Люда?
– Вы меня почему-то назвали Людой. – Девушка обернулась к Антон Ильичу. Она сняла ватник, осталась в пестром халатике – и сразу вроде бы вдвое убавилось у нее всякого… – Так вы нас перепугали! – И улыбнулась, показав две трогательные ямочки в углах мягких, добрых губ.
– Люда? – Антон Ильич долго молчал, собрав лоб гармошкой. Что-то мелькнуло на миг в памяти и исчезло. – Почему Люда?
– Это тебе знать, – с намекающим смешком отозвался Петр Семенович, – почему ты Перевалову Любу в Люду Неизвестную перекрестил.
– А кто ж вы будете? – спросил девушку Антон Ильич.
Она испуганно смотрела на него.
– Вот те раз! Я ж сказал: маляр.
– А, да, вспомнил… Парень на дрезине.
Неловкое молчание.
– Часто это с тобой бывает?
– Что бывает?
– Да вот как сегодня.
– А что было сегодня?
– Я ж говорил: увидел Любу, страшенным голосом крикнул: «Люда!» – и упал. Спасибо Любе, поддержала тебя, а то бы головой об рельсы…
– Ничего не помню, – с виноватой улыбкой признался Антон Ильич.
– Вот я и спрашиваю: впервой это у тебя?
– Бывало. Начисто память отшибает.
– А что говорят доктора?
– Контузия.
– А, да! Но ведь эдаким манером ты и на работе можешь ляпнуться. Не дай бог, прямо на полотно.
Антон Ильич ничего не сказал.
Ходики пробили два раза.
– Мне ж в обход, – спохватился Антон Ильич.
– Лежи, чего там! Люба за тобой присматривала, а я в обход сходил. Все в порядке.
– Навек спасибо.
– Чего там!
– А вот и чай готов, – сказала Люба.
– Все-таки я встану. – Антон Ильич с крехтом поднялся с постели. – Прошу прощенья, что заставил вас обоих… около себя…
– Да что вы, Антон Ильич! – весело возразила Люба. – Может, вам в постель чаю? Я сейчас…
– Этого еще не хватало, – проворчал Антон Ильич. – Голову мутит, а так… так все прошло.
– Ну и хорошо! – обрадовался Петр Семенович. – Давай, Любовь Митревна, собери на стол. Я привез кой-чего. Закусим, выпьем, оно и того…
– Да и у меня есть запасец. Бабуня напекла, нажарила. – Улыбка у Любы была такая милая, такая женственная и ласковая, что Антон Ильич почему-то вздохнул.
– Сколько ж вам лет? – справился он, отводя глаза от ее тоненькой фигуры, от молодой, высокой груди, ясно вырисовывавшейся под халатиком. На чистом лбу ни одной морщины. «Да и рано, конечно!» – подумалось Антон Ильичу. Подбородок остренький, вроде как у лисички, легкий румянец на щеках, умилительные ямочки… А бездонные, томные, с поволокой глаза снова заставили Антон Ильича вздохнуть. «С чего бы это я?» – не понимал он.
Оказалось, что Любе двадцать четыре, живет и работает в совхозе «Первомай» маляром, чуть ли не единственным в этой округе. Каждый, кто нуждается в ремонте избы или там казенного какого-нибудь помещения, – к Любе с поклоном.
Все это объяснил Петр Семенович.
– Нарасхват дивчину. Еле уговорил ее сюда. Помнишь, рассказывал про красавицу. О ней было говорено.
– Вы уж скажете! – Легкая краска смущения сделала лицо Любы еще привлекательней.
Сели.
Только теперь Антон Ильич заметил, как чисто и светло стало в избушке. Клопиные следы аккуратно залеплены бумажными кружочками, пол отмыт, окна протерты, а посуденка так и поблескивает на полке слева от печки.
– Это что ж, вы постарались? – обведя взглядом избушку, спросил Антон Ильич.
– Да ведь все равно делать было нечего. Вы спали, – деликатно обошла Люба неприятность, случившуюся с обходчиком, – вот я и…
– Долго я… после того…
– Я уж за доктором хотел. – Соленый огурец как-то особенно аппетитно хрустел на зубах Петра Семеновича, глаза замаслились от выпивки. – Когда мы прибыли, Любовь Митревна?
– Около десяти что-то. – Люба пила чай с непередаваемым изяществом, и все движения ее были ловкими, быстрыми и незаметными. Бесшумно скользила она от стола к печке и обратно.
– Это значит, четыре часа отгрохал?
– Ты уж лучше не вспоминай, – остановил Антон Ильича начальник. – Ну-ка, Любовь Митревна, хлебни беленькой.
Люба отпила крошечный глоточек, закашлялась, рассмеялась.
– Да ну ее! – И отпихнула чашку с водкой.
В жар бросило Антон Ильича. «Видел я ее! Господи помилуй, да видел же… И как она чашку отпихивала…»
Петр Семенович опорожнил Любину чашку, легонько похлопал девушку по спине.
– Красавица девка, Антоша, а? И пропадает, ни за что пропадает Любовь Митревна в молодых своих годах. И-э-эх, Любушка, Любушка, поспешил я жениться…
– Незамужняя, выходит? – мимоходом осведомился Антон Ильич.
– Переборчива очень. – Петр Семенович подмигнул Любе. – Толкутся возле нее парни, будто мошкара в теплый вечер. Люба на ту мошкару платочком махнет, она и разлетится. Страдают из-за нее парни.
– Нужны они мне! – небрежно обронила Люба и вздернула носик. Вот единственное, что портило ее лицо, – нос. Был он приплюснут у самой переносицы, и ноздри удались чуть шире, чем надо бы.
– Вот в том и вопрос, кто тебе нужен – Петр Семенович уже клевал носом.
Смолчала.
– Ну что ж, пора нам. – Петр Семенович доел ветчину, хотя и без того в животе у него явственно бурчало. – Все потребное для ремонта мы перетащили в сарай для дров, Антоша. А завтра пришлю Любовь Митревну пораньше. – И раззевался, раззевался. – Ух, в сон клонит.
– Я в обход в шесть ухожу.
– Ну, так к девяти и жди. – Петр Семенович снял с гвоздя полушубок. – Поехали.
– Ты на станции оставишь ее ночевать?
– Нет, зачем? – вступила в разговор Люба. – Я в совхоз.
– Пешком? Восемнадцать километров, на ночь глядя?
– Да я привыкла.
– Ноги-то у нее целехоньки, – усмехнулся Петр Семенович, впрочем не слишком весело.
– Пустое, – взбунтовался Антон Ильич, отбирая у Любы ватник. – Поживет здесь, пока не окончит ремонт.
– Да как же вы тут… вдвоем? – Петр Семенович хихикнул.
– Господи, да неужели обижу! Да господи! – вырвалось с чувством у Антон Ильича. – Да она мне почти во внучки…
– Постель-то одна! – Было ясно, что Петру Семеновичу не хотелось оставлять Любу у обходчика.
– Да я на полу. То ли бывало на войне.
– Ну, это уж пускай решит Любовь Митревна, – сердито сказал Петр Семенович.
– Вон сиверко поднялся, метели жди к ночи, куда ж вам, Любовь Митревна? – жалобно взывал к девушке Антон Ильич. – Да вы, ради бога, не подумайте чего-нибудь такого…
– А я и не думаю!
Согласилась.
– Только передайте бабуне, Петр Семенович, прислала бы с оказией постель, бельишко, еще кое-что. Да я лучше записку…
Пока Люба занималась письмом, Петр Семенович поманил за собой Антон Ильича. Тот накинул новехонький полушубок – от него чудесно пахло овечьим загоном – и вышел следом за начальником.
– Ты, браток, – увещевал тот обходчика, – обрати внимание на свои обмороки. Ляпнешься, говорю, пропадешь…
– Ничем мне доктора не помогли и не помогут, у скольких перебывал, – мрачно сказал Антон Ильич.
– Ох, нужна тебе баба, приятель, ох, нужна.
Антон Ильич переминался с ноги на ногу, сгребая валенками снег.
– Если не годен, скажи напрямик. Зачем мне тебя подводить? Сказать бы наперед, да как-то из головы вылетело, ты уж прости.
– Ну, сделанного не воротишь, – неопределенно выразился Петр Семенович. – Надо быть, на воздухе пройдет. Это преотлично, что ты все время на воздухе. Он все болезни лечит. А хозяйку заводи обязательно.
– Неохота. Привык бобылем.
Люба вышла.
– Секретничаете? – И передала Петру Семеновичу записку. – Пишу бабуне, на неделю задержусь. Да вы не беспокойтесь, Антон Ильич, я в общем-то тихоня. – Слепила снежок, бросила в ветлу, не попала. Рассмеялась невесть чему и ушла.
– Вот бы тебе ее, а? – вкрадчиво сказал Петр Семенович.
– Попал пальцем в небо. Ей двадцать четыре, мне почти в половинку больше.
– Смотри, не зевни. Хапнут девку, глазом моргнуть не успеешь.
Отбыл.
6
Заснули поздно. Антон Ильич незаметно для самого себя разговорился и все Любе выложил: про службу в армии, про фронтовые разные истории и как попал в эти края. А Люба рассказала, что живет она с бабуней, родители-то померли, когда было Любе четыре года. Бабуня у нее добрая, ласковая, девяносто три ей, а еще дровишки колет, хотя и скрючена всякими напастями в три погибели.
Говорила Люба, говорила, ходики знай похрипывают, да и засопела: тихо-тихо.
Антон Ильичу не спалось. Раздражала мышиная возня под полом, грохотанье товарных составов. И все думалось ему: «Где я ее видел?» Видеть он Любу не мог, но твердо знал, что видел, только когда и где и какое она отношение к нему имела?
Наваждение!
Приснилась ему Люба, но лицо ее было похоже на чье-то другое, очень похоже, и называл он ее Людой и любил – во сне…
Утром, как всегда после вьюги, солнце так и брызнуло в окна одинокого домика у железнодорожного полотна. Антон Ильич встал, осторожно оделся. Люба, свернувшись калачиком, даже не шевельнулась. Долго он смотрел на чистый девичий лоб, на золотистые волосы, разметанные на подушке, на длинные, как крылья пташки, смежившиеся ресницы, на мерно вздымающуюся грудь… Что-то заклокотало у него в горле…
Поспешно вышел.
Метель лохматыми своими лапами словно бы надраила за ночь небеса, – были они такими нестерпимо синими, что дух захватило у Антон Ильича. И снова подернуло легкой синевой, исполосовало длинными, резкими тенями. И ветла, проснувшаяся после зимнего оцепенения, не показалась ему убогой. Одним словом – весна!








