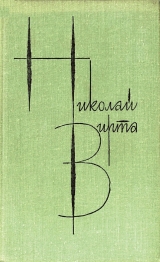
Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Было это, если не ошибаюсь, в июне 1917 года. Член Государственной думы Молчанов, вернувшийся из Петрограда домой, сам пришел к отцу и со злобой говорил о беспорядках, устраиваемых, по его словам, анархистами и прочей «рванью». Я присутствовал при этом разговоре и запомнил все, что говорил Молчанов. Вечером шел я с Большого порядка; Ольга Михайловна сидела на школьном крыльце и что-то читала. Я попросил разрешения, сел с ней рядом и начал повторять россказни Молчанова.
– Что же это будет, Ольга Михайловна? – спросил я под конец.
– А именно?
– Ведь всем нам будет плохо, если анархия…
– Молчанов называет анархистами людей, искренне преданных революции… Этот Молчанов!.. – Ольга Михайловна махнула рукой. В глазах ее блеснул злой огонек.
– Но ведь нам и от революционеров будет плохо.
– Да, конечно, – Ольга Михайловна недобро улыбнулась. – Ты будешь получать от матери вместо трех конфет в день – одну. А может, ни одной. Но ведь, ты знаешь, почти все твои приятели конфеты в глаза не видели, вкуса их не знают… Это-то тебе понятно?
Понял я это гораздо позже.
Через некоторое время после нашего переезда в дом Ольга Михайловна вышла замуж за молодого, очень веселого учителя Алексея, тоже Михайловича. Их свадьбу и наше новоселье мы справляли в доме, где еще пахло краской.
Все село перебывало в новом поповском доме, ахали и охали…
Отец сиял от радости: наконец-то и он обзавелся собственным домом. Он был самым вместительным и красивым в селе.
Юдоль
«Никто не знает, с кого повелись Дворики…»
Так начинается роман «Вечерний звон» – первый в трилогии, через которую проходит история семьи Луки Лукича Сторожева и его потомков.
И точно: ни в церковной летописи, ни в архивах близлежащих помещичьих усадеб, ни в делах уездной и губернской канцелярий я не нашел ничего определенного, что бы пролило хотя бы слабый луч света на историю нашего села. Расположенное вдали от столбовых и железных дорог, оно ничем не выделялось среди многочисленных других сел и деревень губернии – ни разгульными праздниками, ни шумными ярмарками, ни искусными кружевницами или славными кузнецами.
Томительно однообразное, тянулось оно версты на полторы вдоль пыльной дороги, и глазу человека, проезжавшего мимо, нечем было тут полюбоваться. Избы, сложенные большей частью из самана, до того походили одна на другую, будто их делал человек, напрочь лишенный фантазии. Саман быстро разрушался, стены оседали, или их выпирало, многие избушки кое-как держались на подпорках; соломенные крыши прорастали мохом, а к весне, особенно если она выдавалась поздней, солома шла на топку или на корм скоту. И тогда жерди, составлявшие клетку крыши, тоскливо торчали под белесыми небесами.
Плетни сгнили, покосились или завалились, и, куда бы ни упал взгляд – всюду ветхость, бедность, безысходная тоска…
И природа под стать селу. Плоская, как ладонь, равнина без единого кустика, речушка, высыхающая к началу июня, чахлые ветлы вдоль берегов ее, а вокруг поля, по которым гуляют привольно летние пыльные бури и зимние вьюги и стелются осенние туманы…
Ни тенистых лесов, ни хотя бы рощиц, ни тихих, прозрачных озерных вод… Лишь изредка набредешь на болото, звали их почему-то «окладнями», с бурой, гнилой водой. От нее даже скотина отворачивалась. Ни сенокосов, ни хорошего выгона для скота, ни водопоев, ни журчащих ручьев…
Скучные места, беспредельные, мутные дали…
В течение долгих времен в селе и округе не было отмечено каких-либо бросавшихся в глаза перемен: неизменным оставался внешний облик села и окрестных мест, уклад жизни, обычаи…
Село делилось на три более или менее точно обозначенные части: Дурачий конец, Большой порядок и Нахаловка.
На Дурачьем конце бедность была извечной. Люди как бы отдались в ее полную власть: ужасная нужда породила в здешних обитателях робость, похожую на тупость, отчего, вернее всего, и родилось название этой вечно унижаемой и оскорбляемой части села.
На противоположном краю села, в Нахаловке, жили те, у кого была земля собственная – вечная и арендуемая, у кого сундуки были набиты добром, у кого в конюшнях стояли сытые лошади, а в сараях молотилки и веялки… Нахаловка презирала и беспощадно эксплуатировала бедноту с Дурачьего конца, а те платили нахаловцам откровенной ненавистью, накапливаемой из года в год, из века в век…
Между этими крайними полюсами, на Большом порядке, обитало зажиточное и полузажиточное население, колеблемое социальными ветрами из стороны в сторону. Были еще три небольших порядка: Кочетовка, где, как уже сказано, жили мы с отцом, Калиновка и Чибизовка, с населением более или менее однородным: кулаками их никак не назовешь, но и в бедность они не впали. Исключения, разумеется, не в счет.
Бушевала в селе межусобица, часто набат и зарево будили людей… Кто поджег нахаловский двор? Ригу нахаловскую? Поди узнай! Трещали плетни, выламывались колья, появлялись ножи и топоры, и лилась кровь… Потом все утихало до следующего припадка ярости…
Слепой? Нет, осмысленной и тем более страшной!..
Против помещиков и царского начальства тамбовские мужики бунтовали беспрестанно.
Подушные подати в Тамбовской губернии достигали крайнего предела с половины зимы. Мужики испытывали полнейший недостаток во всем крайне необходимом для жизни, и дети часто вынуждены были идти по миру, побираться христовым именем…
Называлось это «уходить по кусочкам»…
Бунтовали эти вечно голодные, вечно притесняемые люди разрозненно, не имея в своих рядах полного единомыслия, целеустремленного вожака, не сообразуя силы с силами классового врага. Даже знаменитые аграрные волнения 1905 и последующих годов кончались для мужика порками, ссылками, каторгой…
Тогдашние газеты либерального толка завели специальную хронику крестьянских волнений.
Волосы встают дыбом, когда читаешь лаконичные сообщения о виселицах, издевательствах, о том, как донские казаки-усмирители терзали несчастных людей, повинных лишь в том, что не могли больше жить по-скотски.
Впрочем, и для тех бунтарей, кто по счастливой случайности не попадал в руки бесчеловечно жестоких карателей, жизнь была не менее каторжной…
Козел
Разумеется, в те предреволюционные годы я еще не мог разбираться в социальной борьбе, происходившей явно и подспудно, но несколько позже учительница Ольга Михайловна Виноградова и высланный из Тамбова за «политику» учитель Загуменный Илья Тимофеевич нет-нет да и намекнут нам, бывало, на неравенство жителей нашего села.
А неравенство это было рядом: в Кочетовке рядом с нами жил Андрей Андреевич, прозванный за живость характера Козлом. Часто бывая у него, играл я с его Машками и Яшками.
Этот несчастнейший, никогда не сводивший концы с концами человек выпрашивал у кулаков «работенку», лишь бы накормить (хотя и не досыта) ораву ребятишек. Жена его, Марфа, кроткая, «безответная», как о ней говорили, поднималась чуть свет. Чтобы заработать гроши, она пряла при свете гасника, днем мыла полы у вдового дьякона, бралась за любую бабью работу.
Однако общественная жилка резко выделяла Андрея из среды бедняков, задавленных нуждой. Веселость, бодрость, неунывающий нрав, язвительный тон в обращении с сельским начальством, разумные речи на сходках – все это делало Андрея Андреевича всеобщим любимцем. В домашних и сельских заботах и хлопотах, в общественной «помочи» растворялась горечь жизни… И то правда, что Андрей Андреевич верил (до поры до времени) в слово «мое» не менее крепко, чем в спасительное «Отче наш», и плел иной раз небылицы о «смутьянах-стюдентах»… Но проходили годы, и в сознание Андрея Андреевича постепенно проникали другие мысли и идеи…
Таких, как Андрей Андреевич, было в губернии бессчетно!
Тамбовская губерния слыла как одна из самых страшных в смысле кабалы, пережитков крепостничества, местом самого низкого уровня жизни крестьян.
На долю таких, как Андрей Андреевич, – а их было больше половины в губернии, – приходилось меньше одной трети пахотной земли.
Но и эти крохотные наделы часто нечем было обрабатывать. Больше трети Андреев Андреевичей не могли обзавестись лошадью…
Андрей Андреевич, выпрашивая у кулака лошаденку, чтобы вспахать свою землишку, выпрашивал у него и соху… Ему и соху не на что было купить. И не только ему, а почти половина тамбовских мужиков соху видели лишь во дворах зажиточных соседей.
Где ж там было Андрею Андреевичу и ему подобным думать о том, чтобы их детям жилось лучше, чем им самим! На народное образование деревенских жителей губернское правление (в конце девятнадцатого века) ассигновывало тридцать пять копеек (35!) на человека.
Отсюда почти поголовная неграмотность: восемьдесят четыре процента мужиков и их ребят не могли изобразить на бумаге свои фамилии, а ставили вместо подписи… кресты!
От такой жизни хочешь не хочешь запьешь, благо водки было в каждой деревушке сколько угодно: пей, веселись, душа мужицкая!
И шли Андреи Андреевичи в кабак, закладывали последнюю одежонку, дырявую шапку кабатчику, абы выпить «вина зеленого», утопить в нем хоть на миг тоску-злосчастье…
Кабак
Был (до нашего переезда) в Двориках кабак под замысловатым названием «Чаевное любовное свидание друзей». Держал его Иван Павлович – он же лавочник, он же мельник, он же, как упомянуто, церковный староста. Был он роста небольшого, плечи имел саженные. Все у него выглядело как-то необыкновенно широко: плоская голова, плоский нос, вдавленные вовнутрь широченные губы. Он походил на леща.
Все дни лещевидный Иван Павлович сидел в лавке, а к вечеру открывал свое заведение, над дверью которого висела грубо намалеванная вывеска, на которой, кроме названия, были изображены баранки, сахарные головы и самовар.
Открыв обшарпанную, визжащую дверь, посетитель, жаждущий чаевых утех, попадал в довольно темную избу, уставленную качающимися столами и грязными табуретками.
У стены напротив входа помещался неуклюжий дубовый буфет; здесь хранились баранки, колбаса, в просторечии называемая «собачьей радостью», монпансье в высоких железных банках с цветными наклейками, табак, папиросы, спички.
Внизу буфет имел ящик, откуда Иван Павлович извлекал водку, – он приторговывал ею по уговору с сидельцем монопольки, или, как звали мужики, «винопольки».
Иван Павлович подавал водку в чайниках – это действовало на воображение посетителей и спасало от возможных неприятностей: водкой он торговать не имел права. Для отвода глаз в углу за прилавком всегда кипел самовар. Чай пили те, у кого не было денег на водку; однако известно, что собрать денег на выпивку куда легче, чем на иное дело; поэтому Иван Павлович не жаловался на отсутствие любителей выпить, заведение его процветало.
Он восседал за прилавком около буфета на высоком табурете, единый в трех лицах – кабатчик, мельник, лавочник.
Его окружал пар, валивший из самовара, его освещало тусклое пламя лампы, висевшей на железном крюке.
На стене сбоку от него помещалась картина, изображающая русского солдата, насадившего на штык дюжину турок в фесках. Впрочем, картину так засидели мухи, что видны были только красные фески.
Пол чайной мылся редко, пар, валивший из самовара и чайников, мешался с табачным дымом, и все в избе казалось окутанным синим туманом. Таков был вид сельского кабака, где собирались веселые компании, бутылкой водки скреплявшие временную, шаткую дружбу. К вечеру сюда обычно приходили Андрей Андреевич и земский ямщик Никита Семенович Ивин, по прозвищу Зевластов; они дружили. Был Никита отчаянным буяном, горлодером, все скандалы на сходках возникали при его непременном участии; в Двориках он да Андрей Андреевич были воротилами сходки.
Зевластов пил водку, наливая ее из чайника в стакан, а из стакана в блюдце. Перед тем как отхлебнуть, он дул на блюдце – отгонял беса, который сидит в водке. Водку ямщик закусывал хлебом, густо посыпанным солью.
Андрей Андреевич пил жиденький чай… Случалось, ямщик раскошелится и угостит приятеля полуштофом водки; Андрей Андреевич мгновенно пьянел, обнимал друга и начинал петь:
Эх ты, горе мое, горемычное,
Распроклятое село, непривычное!
Все-то тут не наши, не наши, не свои,
Все-то тут чужие, чужеродна-а-а-и-и!
Люди
Некогда на этих равнинах между Доном и Вороной, Мокшей и Окой кочевали сарматы, гунны прошли на юг к теплым морям; половцы бродили по этим просторам; хазары и печенеги бряцали оружием, с грохотом и воем неслись на русские земли…
Лишь редкие курганы, лишь курганы, травой поросшие, остались от тех седых времен; глубоко в русской земле вечным сном спят чужие цари и ханы.
Где их былая слава? Кто помнит их имена?
Потом пришли сюда и поселились ратные московские люди; кровью поливали они эти земли, отвоевывая их от врагов; здесь они жили, воевали, плодили детей и умирали; умирали их дети и внуки – и всегда здесь, во все времена, сыны Руси жертвовали своей жизнью ради счастья тех, кто придет вослед за ними…
И хотя всегда тут слезы и пот мешались с кровью, и люди бывали обмануты, и счастье не приходило ни к детям, ни к внукам, ни к правнукам, и мор, и войны, и голод из века в век собирали богатую жатву, – Русь не исчезла с лица земли.
Как поднимается трава после буйного половодья, так поднимались ее новые поколенья; как из зерен, разбросанных рукою сеятеля, вздымаются злаки, и наливаются, и стоят бескрайней стеной, так наливалась ее сила; как дубовая поросль с веками становится тверже железа, так твердела и крепла воля ее людей; как льды в вешние дни мчатся к устью, все сметая на своем пути, так грозные российские рати устремлялись в походы и бились за наследие дедов.
…Но что же, однако, привело сюда первых поселенцев? Кто были эти люди? Быть может, какие-нибудь души, обуянные мечтой о вольных землях и теплых краях, шли с севера, заблудились, остались на зиму, поставили здесь первые дворы; быть может, ими были увечные ратники, отставшие в походе от войска, или беглые крепостные хоронились от царевых воевод в этих неисхоженных, неизъезженных местах… Бог весть!
Но что бы там ни было, вера в лучшее будущее, в скорый конец юдоли нищеты, горя и унижения не переставала согревать сердца здешних людей. Они верили, что придет счастье на эти поля, на эти тихие улицы.
Ночью
Непроглядна весенняя ночь!
Вокруг села – вспаханные и засеянные поля; едва приметное движение теплого ночного воздуха колышет верхушки лозняка – кусты его словно островки в этом беспредельном молчаливом пространстве. Ни единого звука, кроме еле-еле уловимого шелеста листвы; выйдешь сюда – и тебя со всех сторон охватывает молчание, ты погружаешься в него, будто в теплую густую массу.
Ты слышишь биение своего сердца, свое дыхание, стараешься ступать тише, хотя и без того ноги не производят никакого шума; ты идешь будто по ковру – то ли мягкая трава под тобой, то ли успевшая высохнув земля.
Вот ты удаляешься от кустов, где еще ощущается какое-то движение, останавливаешься, напрягаешь слух, стараешься уловить хоть какой-нибудь звук и чувствуешь, как сам растворяешься в волшебной тишине, словно зачарованное царство застыло под звездами, струящими жидкий нежный свет.
Твои мысли сковывает сладкое оцепенение, тебе начинает казаться, что конца этому зачарованному миру нет, что и ты живешь вне пространства и вне времени, и ты бессмертен и вечен, как этот вечный покой…
Тебя поглощаетбесконечность, ты перестаешь быть самим собою, сливаешься с миром, становишься невесомым, как все вокруг.
Тебе легко-легко!
Ты перестаешь ощущать свое тело, ты тоже зачарован волшебным кудесником и отныне принадлежишь всему свету, и весь свет – твой! Тебе ничего не стоит сделать плавное движение, и вот ты плывешь ввысь, к трепетно сияющим звездам, вздымаешься над миром и смотришь: там, внизу, темная масса строений, вытянувшаяся у дороги. Ты ничего не различаешь в темноте, кроме этой сплошной линии избушек, но тебе хочется раздвинуть тьму и заглянуть в тайны жизни… Ты протягиваешь руку, берешь один из звездных лучей – ты знаешь, он обладает странным, таинственным свойством: он вонзается не только в жилища людей, но и проникает в человеческие думы и чувства…
Ты осветил лучом низенькую сельскую колоколенку, потом на миг задержал его на поблекших звездах купола. Ты увидел мельницу с застывшими крыльями, потом провел лучом вдоль порядка…
Редкие, тусклые огоньки в мутных окнах, зыбкое движение фигур…
Ты осветил хилую избушку Андрея Андреевича, и острая жалость пронзает сердце. Долго и пристально наблюдаешь ты за жизнью в этой избе, но волшебный луч проникает дальше и глубже, чем твой человеческий взор, и ты счастлив: завеса будущего раскрывается перед тобой, и ты видишь конец этой юдоли нищеты и скорби.
На миг ты проникаешь в школу – перед тобой милое, кроткое лицо, учительницы, склонившееся над детскими тетрадями. И вместе с той, кому ты обязан всем, ибо она вложила в тебя первое познание добра и зла, тьмы и света, разбудила твою мысль, позвала тебя к прекрасному, – вместе с этой женщиной ты путешествуешь по миру ее мечты, залитому солнечным светом.
Ты возвращаешь звездам их луч, ты увидел главное, что возможно увидеть; в этом скорбном темном пространстве ты увидел проблески света, и ты познал: в мире, что лежит под небесным сводом, рядом с горем есть радости, есть будущее и ради него живут эти люди, и жизнь их не безысходна…
И снова теплая влажная ночь вокруг, и запах трав, и шелест кустов, и воздух ласкает тебя. Ты мягко ступаешь по родимой земле; все любимо, все мило тебе здесь, просторно тут мыслям, и ты спешишь, спешишь, чтобы прикоснуться к бревенчатой стене крайней хаты и снова ощутить жизнь.
Сторожевы
На основании каких-то туманных былей и небылиц и дедовских преданий Сторожевы приписывали честь основания нашего села своему клану. Так это или не так – вопрос, не решенный и поныне. Одно достоверно: изба, в которой жили Сторожевы, была самой старой в селе.
Древние старики утверждали, что изба эта стояла на том же самом месте и при их дедах и прадедах, что она старожиловская. Быть может, благодаря именно этому обстоятельству двор Луки Лукича получил название «сторожевского».
Лука Лукич жил на Большом порядке в старой половине избы, остальное помещение разделялось на клетушки, боковушки, спальни для замужних дочерей и женатых сыновей и внуков; все эти комнатки соединялись переходами, в которых постороннему человеку было легко заплутаться.
Семейство у Луки Лукича было огромное, и вековал тут закон – никого из дома на сторону не отпускать; женщины приводили в дом зятьев, мужчины – невесток.
В клетушках и спаленках, где ютилась эта орава, Лука Лукич появлялся только за тем, чтобы разнять баб, которые часто шумели, а порой и дрались из-за неудобств, то и дело возникающих в огромной семье.
Раздел был мечтой каждого, кто жил в стенах этого дома. Но как раз о разделе тут запрещалось не только говорить, но и думать. В этом смысле Лука Лукич был полновластным хозяином. Правда, деспотизм его проистекал из глубокого убеждения в том, что одному и у каши не споро.
Разговоры о разделе возбуждали в Луке Лукиче приступы необыкновенной ярости.
– Орда окаянная! – гремел он в такие часы. – Народил я вас на свою погибель! Я из вас дух повытрясу, я вас отучу думать о дележе! Пока жив, дележу не бывать! А я сто лет протяну!
Лука Лукич бушевал до того свирепо, что казалось – вот он сейчас подопрет могучими плечами притолоку и, подобно библейскому Самсону, обрушит стены и крышу своего древнего дома.
Визжали бабы, орали правнуки, внуки жались поближе к дверям – ярость Луки Лукича от этого разжигалась еще сильнее; он уходил на кладбище или в поле и бродил по пашням и лощинам – огромный, в белой развевающейся рубахе, в широченных портах, босой, с могучими руками, желтый, появляясь то там, то здесь, пугая людей своим диким видом.
Прожив несколько дней в кладбищенской сторожке, он возвращался домой, и все живое затихало, когда хозяин появлялся во дворе.
Осмотрев хозяйство, он звал семью обедать.
К обеду собирались в старой половине избы – она служила кухней и местом приема гостей; тут же по веснам в соломенных кошелках сидели на яйцах утки и гусыни, а несколько позднее – куры; сюда приносили ягнят и слабеньких телят; здесь же бродили и дрались кошки – им не было числа.
Все в этой избе было под стать хозяину: неимоверных размеров печь, почерневший от копоти, темно-коричневый потолок, огромная кровать, сколоченная сто лет назад и покрытая серой дерюгой, тяжелый стол, лавки, сделанные из досок толщиной в полтора вершка, грубые, тяжелые табуреты, в углу икона аршина два в поперечнике, изображающая здоровенного бога-отца, восседающего на престоле топорной работы и чем-то смахивающего на Луку Лукича.
Лука Лукич первым садился за стол, сам нарезал толстыми краюхами хлеб, сам раздавал его, первым брал свою ложку, похожую на ковш, первым опускал ее в миску.
Он хлебал щи, стараясь не пролить хотя бы каплю на стол, подставляя для этого под ложку ломоть хлеба; смачно чавкая, строго обводил глазами семейство; если кто заговаривал, вытягивал руку и бил провинившегося ложкой по лбу; беспрестанно пил воду из здоровущей глиняной кружки.
Бабы подливали да подливали похлебку в ведерные миски, пар поднимался к потолку, к толстым закопченным балкам.
Лука Лукич ел не торопясь. Отхлебнув варева, он откладывал ложку, разглаживал реденькую бородку, откусывал хлеба, медлительно брал ложку и снова зачерпывал щей. Он сидел в красном углу – под иконой. Рядом было место старшего сына Ивана. Страдающий какой-то непонятной иссушающей болезнью, Иван плохо ел; худой, бледный и немощный, он терпеливо ждал своего конца, беспрестанно молился, часто исповедовался и причащался. Лука Лукич втайне не любил его; он уважал людей сильных волей и телом; хилых презирал, трусливых ненавидел, болезни были чужды ему; больных он просто не понимал.
Уважал и любил Лука Лукич внука Петьку, но любил по-своему – круто, со спросом.
Петька был проворен и сметлив в работе и в хозяйственных делах, жаден и настойчив в желании выбиться в люди. Дед женил его на Прасковье Васяниной; взяли ее из бедной семьи.
Она ничего не принесла в сторожевский дом, кроме золотых рук, а здесь они целились дороже любого приданого. Кроме того, Прасковья привела с собой в семью Сторожевых брата Андрияна Федотыча, унтера, отломавшего два похода – Крымский и Турецкий.
Андриян нянчился с детьми, ухаживал за скотиной, плел лапти, бегал в лавочку, а по вечерам семейство слушало его рассказы о походах. О таких стариках в народе говорят: «Есть старик – убил бы, нет – купил бы».
…Со дня женитьбы Петра Лука Лукич начал величать внука Петром Ивановичем, как бы отмечая этим важный рубеж в жизни человека.
Всякий на месте Петра был бы счастлив, всякий, но не Петр.
Никто еще не знал его замыслов, никому и в голову не приходило, как старательно и последовательно подтачивал он основы семьи и расшатывал могущество деда.
Ему стало тесно жить. Он уже не мог выносить власти над собой; он чувствовал, как плотно стоят его ноги на земле, как много могут сделать его по-обезьяньему длинные, невероятной силы руки, как много и дельно может сообразить острый алчный ум.
– Эх, выбраться бы из-под власти деда! Он знал, что у старика водятся залежные денежки… Вырвать бы их – боже мой, всю бы округу укупил, всю помещичью землю на себя взял!
И шла в этих стенах невидимая война, и близился час, когда должно было рухнуть не только единство сторожевского и других семейств, но и согласие мужиков в общественных делах, согласие внешнее, конечно.
Надвигался ураган. Германская война, разрушив хозяйство страны, разрушила, казалось бы, нерушимые устои самодержавно-помещичьего строя. Свежий мартовский ветер смел с лица русской земли царя и царских сатрапов.
Лука Лукич умер в тот день, когда в Дворики пришла весть о революции…
Революция
И все страсти, бушевавшие лишь в сердцах, прорвались с невиданной яростью наружу.
Слухи перекатывались с одного конца села на другой: жгут, мол, помещиков, силой отнимают у них землю.
Сожгли в губернии в те времена полтораста барских имений. Ленин говорил, что это движение было восстанием и в физическом и в политическом смысле, восстанием, давшим столь великолепные политические результаты…
После февральский захват земель завершился величайшим актом: Декретом Советской власти о земле в Октябрьские дни семнадцатого года. Тамбовские мужики не только получили больше двух миллионов десятин земли, но были освобождены от арендных платежей и прочих долгов, а долги эти исчислялись в сотни миллионов рублей!
В Двориках Октябрьскую революцию, помню, отметили демонстрацией. На подводе везли сделанные из соломы и соответственно выряженные фигуры; а чтобы люди не ошиблись, кого они изображают, к каждой налепили лист бумаги с наименованиями «кулак», «помещик», и «стражник». За подводой шла, смеясь и крича, толпа бедноты. Почтенные середнячки покачивали головами, посмеивались втихомолку, но к толпе не примыкали. Кулаки Зорины, Акулинины и прочие, перед пятистенками которых подводы останавливались, попрятались, ворота позапирали да еще псов спустили, а были они у них чистые страшилища.
Потом пришел слух, будто в Жердевской волости, в селе Новорусанове (кажется, так) мужики – неслыханное дело! – порешили вести хозяйство сообща: скот, плуги, сеялки и веялки собрали на один двор, межи перепахали. И назвались артелью. Так артель «Дача» стала предшественницей будущих колхозов. Не знаю, долго ли она просуществовала, но важно, что начало было положено: к концу 1918 года об артельном ведении хозяйства заявили крестьяне шестидесяти сел и деревень, а тамбовские делегаты присутствовали на первом съезде артелей и коммун. Он состоялся в Москве. Это было начало отхода крестьян от единоличного хозяйства.
И в Двориках от речей и демонстраций перешли к делу: началась дележка кулацких земель, обстоятельств которой не помню, в сознание лишь врезался красный флаг, вывешенный над крыльцом избы, где заседал сельский Совет, о котором в нашем доме разговаривали шепотом и со страхом. И в домах богатеев тоже…
Заседал в Совете Сергей Бетин (тоже живший на Кочетовке), сын бабки Дарьи по прозвищу Чигага; кажется, не было в селе двора беднее этого. Власть с Сергеем Бетиным и другими бедняками в Совете делил Каллистрат Григорьевич, тоже Бетин.
Мать его, Леньки и Тимофея, рано постаревшая Прасковья, прозванная Хрипучкой (она фигурирует в «Одиночестве» под именем Аксиньи), голос свой потеряла от беспрерывных причитаний: ох, злосчастная судьба выпала на долю этой женщины!
Была она, как и бабка Чигага, беднее церковной мыши. Хата ее разваливалась, в хлеву стояла вечно голодная телка, которая никак не могла образоваться в настоящую корову: приходил час, нужда начинала качаться над головой Прасковьи петлей-удавой, телку вели на продажу, выплачивались долги, покупалась на зиму мука и на оставшиеся деньги – теленок. Он тоже вырастал в телку, и его ждала такая же судьба…
Большевики
Дом наш стоял рядом с избой Прасковьи Хрипучки. Вечерами к нам за «новостями» приходили соседи и мужики с Большого порядка. Помню вечер, когда отец читал в какой-то газете (очевидно, тамбовской) заметку о людях, приехавших из-за океана, из Америки, и поселившихся в Кирсановском уезде на земле, ранее принадлежавшей княгине Оболенской, а теперь – бедняцкой коммуне. В газете рассказывалось, что американцы привезли с собой тракторы, какие-то новые плуги, даже собственную паровую мельницу!
Только потом я узнал историю коммуны, теперь колхоза, носящего по праву имя Ленина: Владимир Ильич лично занимался делами коммуны и не раз запрашивал о ней тамбовских работников.
К слову сказать, Советская власть утвердилась навсегда в Тамбовской губернии позже, чем в других, соседних.
Эсеры держались тут у власти до марта 1918 года.
Губернский Учредительный съезд Советов провозгласил Советскую власть, но окрепла она не сразу: в Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов прочно окопались эсеры, меньшевики и анархисты.
Борису Васильеву, одному из видных тамбовских большевиков, Владимиру Благонадежину, Якимчику, Новикову, Мейснеру, Чичканову и многим другим большевикам-ленинцам пришлось выдержать бешеные атаки эсеров и их союзников в Совете.
В январе 1918 года тамбовские большевики обзавелись собственной вооруженной силой. В штаб первого красногвардейского отряда вошел большевик Иван Гаврилов, еще в 1915 году работавший в большевистском подполье среди рабочих одного из тамбовских пригородных поселков.
Советская власть поручила Гаврилову редактирование «Известий Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов».
Борис Васильев, первый председатель тамбовского губкома партии, передавая Гаврилову решение губкома, сказал: «Парень ты начитанный, давай делай большевистскую газету…»
Выгнав из типографии меньшевистскую газету «Земский вестник» и ее редакторов, Гаврилов выпустил первый номер «Известий»… Утром он был на столе председателя губкома.
– Справился! – сказал Васильев. – Спасибо.
К тому времени к этому замечательному созвездию руководителей тамбовских большевиков присоединился Николай Немцов; а в 1919 году здесь появился Вадим Подбельский, присланный Лениным в Тамбов чрезвычайным уполномоченным ЦК партии; правительство объявило губернию прифронтовой и главной продовольственной базой снабжения Красной Армии и промышленных центров; шла гражданская война, интервенты помогали Деникину, Колчаку…
Одним из ближайших и талантливых сотрудников Подбельского был Михаил Чичканов.
Восемнадцатилетним юношей Чичканов окончил Тамбовское реальное училище. Ему было девятнадцать лет, когда он впервые попал в тюрьму за большевистскую агитацию. В последующие годы Михаил Чичканов – пропагандист-ленинец на Путиловском заводе в Петербурге, потом сотрудник большевистской «Правды».
Вернувшись в Тамбов, он сразу попадает в водоворот классовой борьбы.
Чичканова выбирают заместителем председателя Тамбовского городского исполкома, но власть еще в руках эсеров. Их опора – так называемые отряды «ударников». Партия вводит Чичканова в чрезвычайную тройку. Ей поручено разоружить «ударников». Шестидесятый пехотный полк и вооруженные рабочие, поднятые Чичкановым, выполняют приказ партии. Тамбов очищен от контрреволюционеров. В 1919 году Чичканов – председатель Тамбовского городского исполкома, потом председатель губернского исполкома, где уже не было ни одного эсера и меньшевика.
В октябре 1919 года Чичканов в кругу друзей отпраздновал свое тридцатилетие. И тут же телеграмма из Москвы: Чичканов назначался комиссаром Южного фронта. Перед тем как выехать на фронт, Чичканов захотел отдохнуть. Он поехал на рыбалку: озеро Ильмень, пойма Вороны были излюбленными местами рыболовов. Там, на озере, он нашел свою смерть: пуля антоновца сразила его.








