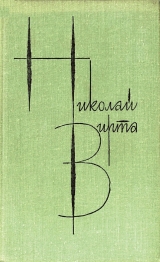
Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
– Да с теми, что за дом выручили. А их было сорок тысяч рублей без малого.
– Почему же вы не сдали их в сберегательную кассу?
– На станции в те времена ее не было, а ездить каждый раз в Алма-Ату за деньгами тоже не резон. Как положила я их в Диканьке в чемоданчик, так они и лежали у меня под подушкой… Бывало, среди ночи ветер завоет, а мне примерещится, будто воры из-под меня чемодан тянут… Чемоданчик-то небольшой, а лежать на нем было уж вот как негладко. До сей поры спину от него ломит.
Мы посмеялись.

– Однако уберегла я детишек от злой напасти, и денежки уцелели. Народ тут честный, у нас за эти годы гвоздя не пропало. Пригодились нам денежки. Как отпахали целину, начали дом строить. А построились мы как раз над тем местом, где стояла наша палатка. Я иной раз загляну вниз, и мурашки по коже пойдут… И как же, думаю, вытерпели мы такое? А ничего, человек все превозможет, если у него душа к делу лежит. Теперь все, слава богу, позади… Совхоз наш богатейший, Остапе мой и тут не в малой чести, специалист он по части хозяйства отменный, директор за него вот уж как держится. Да и молодежь его уважает – справедливый он человек, не в похвалу ему будь сказано. Вот и вся наша життя, милый человек.
Мы помолчали.
– Спать где будете? В дому или тут вам постель постелю?
– Постелите здесь, Матрена Федоровна.
Чубиха принесла тюфяк, одеяло, и я быстро заснул под рокот горного потока.
Снова о Диканьке
Остап Чуб разбудил меня на рассвете. Лиловатые краски лежали на горных пиках, тьма царила в ущельях и пропастях. На востоке занималась заря: розовое сияние предвещало скорый восход солнца. Оно появилось огромным, холодным, желтоватым шаром и медлительно поплыло над миром и пшеничными полями.
Позевывая и вздрагивая от утреннего холодка, люди выходили из домов и шли к рабочим местам, быстро просеменил в мастерскую Карл Больцман, худощавый, жилистый человек. Валом повалила куда-то молодежь. Верхом на лошади проскакал в степь парторг. Проехал, поздоровавшись со мной и Чубом, директор совхоза, пожилой мужчина с усталыми глазами и нездоровым цветом лица.
Минут десять спустя и мы выехали в степь, где важно шествовали комбайны, врезаясь в могучую стену золотисто-бронзовой пшеницы.
– Хочу я вас спросить, Остап Ондреевич, – начал я.
– Слушаю вас, – с готовностью отозвался Остап Чуб: он выспался и был в наилучшем настроении. – Сделайте милость, прошу.
– Никак не могу понять вас, вы уж меня простите. Очень все противоречиво в вашей жизни за последние годы. Вчера я выслушал от вас оду о Диканьке, ночью узнал от Матрены Федоровны, как вы сюда попали. Как-то не вяжется все это.
Остап Чуб усмехнулся в усы.
– А вы поглядите вокруг, – он повел рукой вдоль поля.
Тучные хлеба золотым морем катились к горизонту и пропадали в мареве начинающегося пекла.
– Да разве в Диканьке вы увидите такое? Нет, не увидите вы в Диканьке такого чуда!
– Но вчера вы говорили о Пушкине и Гоголе…
– Эге ж, говорил, – охотно согласился Остап Чуб. – Так если бы в те времена была целина, черта с два писал бы Гоголь и Пушкин о какой-то там Диканьке, о разных там Кочубеях и Собакевичах! Божже ж мой, да появился бы на свете белом Гоголь, да приехал бы сюда, он бы не о мертвых, а о живых душах написал свою поэму. О тех живых душах, которые только в одном нашем совхозе дают Родине десять миллионов пудов пшеницы каждый год… А Пушкин!.. Э, нет у нас Пушкина, чтобы изобразить в поэзии нашу молодежь, которая эту пустыню превратила в эдакое золотое раздолье! Скорблю, душой скорблю, но раз нет Гоголя и Пушкина, то что ж поделать!.. Когда-нибудь народятся они и расскажут им наши дети и внуки, как мы возвратили эти земли к жизни… А вы мне о Диканьке! Тоже, нашли о чем говорить…
Что мне было возразить на эту тираду? Я промолчал…
При чем здесь присказка?
Спросит меня пытливый читатель. Стало быть, нужна мораль… Хоть и не любитель я всяческой моралистики, но на этот раз откажусь от своей, быть может, прескверной привычки и подведу мораль под все рассказанное выше.
Громадная и неистребимая жажда света, свободы и тепла была у той травинки, разворотившей асфальт и вылезшей наружу, чтобы расти, размножаться и продолжать жизнь в бесконечных поколениях. Какова же сила воли должна быть у человека, чтобы покинуть родные места, в которые он был влюблен до беспамятства, где родился и возмужал, где родил детей и где лежит прах его родичей, и чтобы, не глядя ни на что: ни на лишения, которые невозможно представить, ни на чудовищные капризы природы, – презрев все это, оторвать свою пуповину, оторвать, быть может, с кровью, и начать новую жизнь, где все ново, непривычно и на первых порах чуждо душе.
Что же повело Остапа Чуба и ему подобных в пустынные места, в холодные палатки, в чадные землянки первых дней целины?
Мне скажут: долг.
Я скажу: и мечта.
1960
Рассказы

На проезжей дороге
Не доезжая километров полутораста до места назначения, мы вынуждены были остановиться – машина, которая везла меня и моих спутников в кавалерийскую дивизию, сломалась. Мы решили заночевать в деревушке, что была видна с крутого подъема проезжей дороги.
Комендант путевого участка – степенная девушка, гордая своим положением, но заботливая, – тщетно отыскивала способ помочь нам. Ремонтная база, по словам комендантши, была далеко, да там вряд ли могли что-либо сделать с машиной: поломка была очень сложная – требовались запасные части. Девушка останавливала грузовики, идущие на фронт с разным военным имуществом; сговорчивых шоферов она добром просила выручить нас из беды, строптивых и заносчивых заставляла показывать ей все, что было у них в машине. Но из того, что нам требовалось, ничего не находилось. Уже смеркалось, и стоять в поле было бессмысленно.
Девушка, убедившись, что все ее попытки тщетны, в конце концов предложила нам свое гостеприимство. Наш грузовик прицепили к громадному доджу и дотащили до окраины деревеньки. Называлась она, кажется, Клейменовкой и состояла из полусотни изб, вытянувшихся по ложбине вдоль шоссе.
Комната комендантши, какая-то слишком уж опрятная и поэтому немного скучная, оказалась столь маленькой, что нам – четырем мужчинам и одной девушке – разместиться не было никакой возможности.
– Ладно, – сказала комендантша, – в чем дело! Пойдемте к Юдичеву, там тепло и просторно. Устрою, будьте покойны!
Изба Юдичевых, с крыльцом и с большим двором, крытым тесом, стояла на самом краю деревни, около быстрой речушки. Мы поставили машину у крыльца и вошли в избу.
В передней комнате, служившей кухней, столовой, а также помещением для теленка, который топтался за перегородкой, человек в кожаном пальто сидел и чинил примус.
– Где хозяева? – спросила комендантша.
– Кто их знает! – ответил человек в кожаном пальто. – Во дворе или ушли в гости. Нынче суббота, вернее всего – в гостях.
– А вы кто будете?
– А я заезжий. С обеда здесь, жду машину. – Человек поглядел на нас; был он в летах: лоб его перерезали глубокие морщины, в черных волосах виднелась седина. – Постояльцев привели? Раздевайтесь, места хватит, устроимся.
– Откуда вы знаете, устроятся товарищи или нет? – строго спросила девушка. – Вы же здесь не хозяин.
– Как-нибудь разместимся, – усмехнулся заезжий. – С машиной что-нибудь? – спросил он водителя.
Как заезжий догадался, что именно этот вечно сонный парень и есть водитель, я не мог понять.
– С машиной, чтоб ей! – водитель лениво сплюнул. – Кто-то машины гробит, а я отвечай. Сукин сын, Васька! «Поезжай, – говорит, – все в порядке». Чтоб ему! – водитель хотел выругаться, но комендантша сурово взглянула на него, и он замолк.
– Тем более оставайтесь, – сказал человек в кожаном пальто, – починим Васькину машину.
– Легко сказать – оставайтесь, – что-то соображая, проговорила девушка. – Но, между прочим, идти больше некуда.
– Ничего, как-нибудь устроимся, – успокоил я ее.
– Конечно, устроитесь, – сказала она, – но как? Устроиться легко, а условия? Вам нужны условия, а тут… Ладно, посидите, я сейчас приду, – и комендантша вышла, сердито хлопнув дверью.
Теленок отчаянно замычал. Заезжий, слушая объяснения водителя, вытащил из печки горшок с пойлом и поставил за перегородку. Теленок кинулся к горшку и начал бестолково, торопливо пить теплое молоко, разбрызгивая его и топоча ногами.
– Э-э, дурашка? – ласково сказал заезжий. – Разве так едят, дурашка, а? – он погладил теленка, и тот вдруг утих и стал пить спокойно.
– Так, значит, только в этом и поломка? – выслушав водителя, сказал заезжий. – Починим!
– Это вам не примус! – обиделся водитель.
– Тем более починим.
– Деталей нет. Кочергой валик не заменишь! – язвительно проговорил Петр, наш второй шофер, ловкий и проворный парень с чубом, озорными, сощуренными глазами и странной, вечно блуждающей усмешкой.
– Найдем детали, найдем!
– Видал я таких чудотворцев! – Петр усмехнулся и вдруг, увидев кого-то в окне, сорвался с места и ушел.
Через несколько минут вернулась комендантша с худенькой, маленькой женщиной лет тридцати пяти.
– Вот и хозяйка, – сказал заезжий.
– Здравствуйте, ребятки! – хозяйка говорила с нами так, словно мы были давнишними ее знакомыми. – Напоил теленка? – обратилась она к заезжему.
– Напоил.
– И на том спасибо. Вот она говорит: условия, – хозяйка задержала на комендантше ласковый взгляд смешливых серых глаз. – А я ей: ты, мол, доченька, ступай отдохни. За день-то закрутилась, поди! Поживут, не обидятся. Я им сейчас самовар вскипячу, молока у соседки выпрошу, чего там! Иди, доченька, иди, не беспокойся – будут условия!
–«Доченька!» – нахмурилась девушка. – Доченька доченькой, а этих товарищей ты мне, мать, обеспечь, понятно? А вы, – она подозрительно посмотрела на человека в кожаном пальто, который снова возился с примусом. – Вы бы хоть из вежливости предъявили документы.
Заезжий вынул из кармана красную книжицу. Комендантша прочла и, почтительно козырнув, отдала документ.
– Прошу прощенья, но порядок, сами понимаете…
– Понимаю, – сказал заезжий.
– Так вот, значит, товарищ майор, – обратилась девушка ко мне, – все, значит, будет в полном порядке. Я хозяйку информировала. А вы, может быть, пойдете ко мне? – комендантша как-то боком посмотрела на нашу спутницу, совсем юную и курносую девицу – она служила переводчицей в дивизии, куда мы направлялись.
Наша спутница отказалась: ей не хотелось отбиваться от компании.
– Все-таки мужчины, неловко, – сурово сказала комендантша.
– Мужчины? – девушка усмехнулась. – Как раз к мужчинам я и привыкла. Мне с ними легче.
Комендантша укоризненно покачала головой и, попросив меня в случае чего обращаться прямо к ней, – понятно? – пожелала спокойной ночи и ушла.
– Строга-а! – сказал заезжий. – Сколько ей лет?
Хозяйка, хлопотавшая около самовара, сказала, что комендантша лет двадцати, не больше, но что она – человек, как бы сказать, самостоятельный… Ничего кроме этого к биографии ушедшей девушки хозяйка прибавить не могла.
«Добрая хозяйка», – подумал я и вслух спросил:
– Часто к вам наезжают?
– Гости-то? А каждую ночь человек шесть бывает. Да все хорошие люди идут: тот одно починит, другой – другое, которые керосину оставят. Пожалуй, вздуть лампу-то? Темно стало.
– Не надоели вам гости? – поинтересовался я. – Стесняем, хлопот из-за нас…
– Господи! Или мы истуканы?! – хозяйка с недоумением посмотрела на меня. – Или мы не русской породы? Конечно, иной раз будто и невмоготу становится, да как же можно? Ведь мой муж, поди, тоже не одну ночь в чужих избах ночевал. И скучно без вас. Привычка, что ли?
– А где ваш муж? – подала голос наша девушка.
– Муж-то? Да вот он идет, мой накостыльник. Эко стучит! По всей деревне слышно.
Действительно, в сенях послышалось постукивание.
Услышав знакомый звук, теленок снова высунул морду из-за загородки и замычал, на этот раз благодушно.
Хозяйка открыла дверь, и в избу вошел высокий, худой мужчина на костылях.
– Славно ты бегаешь, Иван Андреевич, – сказал заезжий.
– Куда тебе, постукивает вовсю! – хозяйка взяла костыли из рук мужа, сняла с него пиджак, шапку. – Набегался, сядь.
Я подвинулся на лавке, давая место пришедшему. Однако прежде, чем сесть, хозяин проковылял к загородке и легонько щелкнул теленка в лоб.
– Поили? – спросил он.
– Поили, поили, садись! – крикнула хозяйка. – Гостей нам бог послал.
– А-а, ну, здорово, ребята! Закурим, что ли? – предложил хозяин.
– Мы закурили, и мне вдруг показалось, что я очень давно сижу в этой новой, еще пахнущей смолой избе, и что теленок с рыжеватенькой мордой и глупыми круглыми глазами, доверчиво лизавший мою руку, знает меня с первого дня своего рождения. Вспомнилось что-то далекое и милое: детство, родной дом, яблоневый отцовский сад…
– Да, такие-то они, дела, ребятки! Был Иван пулеметчиком, стал Иван хромым, – как бы продолжая начатый разговор, сказал хозяин и пересел поближе к заезжему, под лампу.
Я увидел молодое, чисто выбритое лицо, лоб и умные, печальные глаза.
– Почти готово, – с облегчением ответил заезжий. – Одну машину починю, завтра – за другую. С рассветом встанем, а? – он посмотрел на дремлющего водителя.
– Все равно не починим, – сонно ответил водитель.
Третий мой спутник, старший лейтенант, адъютант заместителя командира дивизии, молчаливый положительный молодой человек, рассматривал шашку в восточных ножнах с серебряной насечкой.
– Какой может быть разговор? – начальственно сказал он. – Нечего пессимизм разводить! Встанем с рассветом!
Водитель засопел и ничего не ответил.
– Он вам, ребятки, все починит, у него золотые руки, – заступническим тоном сказала хозяйка. – Иван, а Иван, я к Марфе сбегаю, молока им принесу, а уж вы тут, – попросила она меня, – распорядитесь чаем.
Я было занялся чайной посудой, но девушка, переодевавшаяся за перегородкой, крикнула:
– Чай я соберу! – и вышла, одетая в свежую гимнастерку с погонами.
Над левым карманом мы увидели медаль.
– Вона что! – удивился хозяин. – Да ты никак, девушка, из храбрецов?
– Тоже храбрая! – отмахнулась девушка.
– А что? И правильно, храбрая! – с гордостью вставил адъютант. – Наша дивизия сорок два дня ходила рейдом по немецким тылам, а она все время была с нами. Фрицев допрашивала таких, что твоя колокольня! И конину ела.
– А я обожаю конину, – заметил заезжий.
– Обожаю! – саркастически усмехнулся адъютант. – Может, и обожаете, да только если она соленая. А вы попробуйте поесть эту самую конину две недели без соли и без хлеба, тогда небось перестанете обожать.
– Две недели – пустое дело! – Заезжий вытер тряпицей примус. – Готово. Ну и повозился я с этой чертовщиной! Две недели, говорю, – чепуха! Я целый месяц одной соленой треской питался, вот это – скучное занятие! Фу, упарился! – Он снял кожаное пальто: на смятом пиджаке ярко блеснули орден и Золотая Звезда.
– Как вас звать, девушка? – обратился он к переводчице.
– Нина, – ответил за нее адъютант. – Может быть, ее весь корпус знает! А у нас в корпусе Героев не один десяток! – прибавил он с важностью.
– Возможная вещь, – сказал хозяин. – У нас под Воронежем были санитарками девки, ох, знаменитые девки! Я мужчина, как видите, не малорослый. И как она меня на себе два километра тащила – не пойму! Ногу мне, конечно, отрезали, но уж это ее, конечно, не касается.
– Чем же это вас? – спросила Нина.
– Снарядом.
– А-а!
– Вот что, девушка, полейте мне на руки! – сказал заезжий после длинной паузы, когда были слышны лишь похрапывание водителя, свист самовара и вздохи теленка. – А я, между прочим, бортмеханик, – обернулся он ко мне. – Все ничего, но спина болит. Как мою машину подбили на севере, как я трахнулся в тундру, – болит и болит, черт бы ее взял!
Вошла хозяйка с молоком.
– Садитесь, – позвала она, сняла с загнетки кастрюлю, поставила на стол.
В кастрюле оказались блины.
– А где Петр? – спросил адъютант.
– Это ваш парень-то? А он у Марфы. Велел сказать, что ночевать не придет. У Марфы дочка Маняшка, лет на двадцать пять. И как это он разнюхал? Быстер! Сидит, зубы скалит, глазами играет. Этому скучно не будет!
Когда мы пили чай, в избу вошел подросток с тоненькой шеей, тоненькими руками, тонким, бледным и хмурым лицом.
– Вот и настоящий хозяин явился, – с болью сказал Иван, – Ну что, сын?
Сын сбросил в угол узду, ременные вожжи, разделся, плеснул на руки водой и только тогда нарочито грубым голосом ответил:
– А что? Все свезли. Здорово! – он оглядел нас серьезным, пристальным взглядом. – Пожалуй, мать, и я чайку выпью, – хозяйственно, по-взрослому проговорил мальчик.
Мать налила ему чаю. Он пил старательно, чинно, не торопясь. Заезжий вынул из вещевого мешка пару головок чеснока, ободрал шкурку и начал есть, присаливая, без хлеба.
– Любите чеснок? – спросила хозяйка.
– Люблю не люблю, а есть надо! Цинга, хозяйка, – паршивое дело!
– Где же вы ее подхватили?
– А все там же, на севере. Месяц шел по тундре из чужих тылов в свои. Чуть-чуть не погиб.
– Да, много людей загибло, – раздумчиво сказал хозяин. – Э-э, да что говорить! – он безнадежно махнул рукой.
– Перестань ты! – проворчала хозяйка. – Стояла семья на шести ногах, стояла на четверых, а на пяти тем и более устоит!
Адъютант стал будить водителя.
– Поешь, соня! – он дернул его за рукав.
Водитель пробормотал что-то невнятное и, еще глубже втиснувшись в угол, захрапел.
– Устал! – хозяйка зевнула. – Толя, принеси соломы для ребяток: спать им надо.
Когда солома была внесена, бурки разложены, хозяйка подошла к водителю:
– Сынок, а сынок, иди спать, родимый, чего там!
Водитель открыл глаза, сразу встал, молча побрел, пошатываясь, на чистую половину и захрапел там с новой силой.
– Здоров спать, – усмехнулся адъютант, но через несколько минут он снял шашку, ушел на солому и тоже в один миг был готов. Уснул заезжий, расстелив на скамейке пальто и подсунув под голову мешок, уснула хозяйка на печке, уснул сын, а Иван достал из-под лавки дырявые калоши, куски резины, клей и принялся за дело. Долго сидели мы при свете коптящей лампы, – Нина рассказывала о рейде дивизии, о сложной жизни девушек в военных частях.
– Доченька, спать бы ты шла! – сквозь сон пробормотала хозяйка. – Иди ко мне, тут тепло, мягко…
Девушка ушла на печку, я лег рядом с адъютантом, а Иван все сидел, клеил калоши. Думая о том, как, вероятно, порой хозяевам хочется побыть одним, и о том, с каким спокойным, суровым достоинством они несут тяготы жизни у проезжей дороги, я задремал. Вдруг я услышал стон хозяина и в свете ночника увидел, как Нина по-кошачьи ловко спрыгнула с печи, взяла его под руки, отвела на постель и снова одним движением маленького, гибкого тела взобралась на печь.
Все затихло в доме, лишь изредка глубоко вздыхал теленок, да за стеной весенняя капель звенела.
Меня разбудил разговор девушки с хозяйкой. Было часов девять, и солнце вливалось в окна могучим светлым потоком.
– Эка, говорю, ты дурень, дурень, непутевая твоя голова! Другие вовсе живота лишаются, иным глаза выжигают, руки отрубают, а у тебя одну ногу отняли, так ты вона какие речи повел! Дурень, говорю, ты дурень, мало ли дел на свете хромому? А по хозяйству, говорю, я да Толя и без тебя управлялись, а сейчас и тем более управимся… А потом все эдак в шутку и свела: накостыльник, мол, деревяшка одноногая. Каких только названий я ему не придумывала! Сама смеюсь, будто и в самом деле не бог весть что случилось, и он смеется. Этак и отошел… Теперь его в правление колхоза выбрали, а когда выпадает свободный час, – калоши чинит, за сорок верст кругом о нем слух пошел, на два месяца набрал заказов. Да разве это крестьянское дело? – хозяйка вздохнула. – Майору, доченька, каша на загнетке стоит, а прочим дашь блины. Ежели у него живот болит, ему есть блины не вели: блины для больного – тяжкая еда.
– Ладно, все сделаю.
– И телку накорми.
– Ладно, ладно.
– Я мигом обернусь. Нынче воскресенье, а мы возим сено для Красной Армии. Толя просился, а я не взяла, пусть отдохнет, а то ведь с эдаких-то лет по хозяйству! Он у меня дельный, худоват только. Ничего: корову начну доить – поправится. А молоко в сенцах, доченька, оставлено. Вы уедете к вечеру, не раньше, не прощаюсь.
Она вышла. Девушка чем-то занялась у печки. Я снова заснул и проснулся неизвестно от чего, словно меня кто-то толкнул в бок. Нина стояла перед зеркалом и примеривала адъютантскую шашку. Она то обнажала клинок и опиралась на него в воинственной позе, то снова вкладывала в ножны. Я засмеялся про себя. «Э, – подумал я, – хоть и ходила ты по немецким тылам, а все равно еще ребенок. И очень хорошо, что ребенок».
Вдоволь насладившись своим бравым видом, девушка вышла. Через несколько минут сквозь дремоту я услышал голос Толи:
– Ну, сыграй, дядя Семен, сыграй танец.
Кто-то сидевший на кухне и не видимый мне заиграл на губах краковяк. Я встал и вышел. На стуле около стены сидел человек в драной шинели с багрово-красным, одутловатым лицом, поросшим черными жесткими волосами. Водянистые глаза его были устремлены в пространство, грязными корявыми пальцами он пощелкивал по губам, изображая некий музыкальный инструмент. Увидев меня, он прекратил свое занятие.
– Здравствуй, дядя Семен! – сказал я. – Ты что, здешний?
Семен усмехнулся:
– Не-е!
– Он беженец, – объяснил Толя.
Рядом с ним сидела, подперев щеку рукой, толстая девочка лет пяти, с бледным нездоровым лицом и очень серьезным, неподвижным взглядом.
– Я из Смоленщины. – Семен улыбнулся неизвестно чему. – У нас все сожгли.
– Он свихнулся, – сказал Толя. – Фашисты его хотели застрелить, а он и свихнулся. Потом убежал. Иной раз все соображает, а иной – ничего. Позовут его на вечер, он на губах танцы играет.
Девочка все с тем же строгим видом смотрела на Семена.
– А это чья?
– У нас жили беженки, ее сестры. Ну, она и полюбила мою мать. Вот так сядет, подопрет щеку рукой и часов пять просидит, лишь бы мать не уходила из избы. Чудная!
Девочка перевела сосредоточенный взгляд на меня, потом снова воззрилась на Семена.
– Где же ты живешь, Семен?
– Везде. Добрые-то люди прикармливают. По весне пойду домой, на Смоленщину, – и заулыбался.
– Ну, сыграй еще что-нибудь, – попросил Толя.
– Не-е! Скучно!
Семен стал собираться. Толя дал ему пару блинов, и Семен, все так же улыбаясь, ушел.
Я выглянул в окно. У машины хлопотали заезжий, оба водителя, адъютант и Нина. По шоссе взад и вперед мчались автомобили.
Я умылся. Вошла Нина и заторопилась с завтраком.
– Ох, вы и спали! – сказала она и поспешно, чтобы я не видел, сняла с себя шашку. – Машину к вечеру починят. Этот герой – такой дока: все достал! Мы вам сварили кашу. Хозяйка блинов не велела давать.
– Тащи блины!
Девочка завтракала вместе со мной. Ела она все с тем же сосредоточенным, серьезным видом. Я пробовал рассмешить ее, но она ни разу не улыбнулась.
– Где твой отец?
– На войне, – едва слышно ответила она.
– А ее мать, – прибавил Толя, – гестаповцы убили. – Он встал. – Пойду скотину поить.
Теленок замычал. Девушка накормила его, потом она накормила шофера и заезжего – они пришли в избу грязные, потные и возбужденно толковали о поршнях и цилиндрах.
В полдень приехала хозяйка, а потом пришли гости: хозяйкин зять, артиллерийский сержант в отпуску, его жена – сестра хозяйки, молодая красивая женщина с годовалым ребенком и с братом – ровесником Толи. Этот мальчик был одет в новые брюки со складками и в новый пиджак. Одежда очень его стесняла: он ходил осторожно, не сгибаясь, садился с опаской, боясь помять складки на штанах.
– Вон и ковыляка наш прыгает, – объявила хозяйка.
Вошел хозяин, за ним появился Толя; в избе стало шумно, все наперебой разговаривали о чем-то и смеялись.
Я сидел на чистой половине, читал «Войну и мир». Ко мне подошел сержант, бравый парень с надменно сжатыми губами, и осведомился, что я читаю.
– Например, про артиллерию никто лучше его не написал, а почему? – разумея под «ним» Льва Толстого, проговорил сержант. – Например, капитан Тушин. Появляется всего три раза, а я вижу его, словно он живой. Пожалуй, нынешним писателям на такую горку не взобраться!
Оказалось, что сержант готовился стать учителем и, вероятно, считался в деревне самым умным человеком. Я слушал его и наблюдал за двумя девочками, сидевшими на полу в луче солнца. Они играли с кошкой, играли как-то по-своему, очень прилежно. Кошке эта игра нравилась, она жмурилась, потягивалась и мурлыкала от удовольствия.
Нас позвали обедать. Сержант ушел, я отказался. Нина тоже не хотела есть, она перешла на чистую половину и сидела, глубоко задумавшись, не слыша веселых выкриков, смеха и бренчания стаканов в первой комнате, где ели праздничный крестьянский обед.
– Сынкам, сынкам подлей, отец! – говорила хозяйка, и я не знал, кого она имела в виду: своего сына, или зятя, или всех нас.
Я читал о чувствах Пьера после того, как он полюбил Наташу Ростову, и о его безумии, состоявшем в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того, чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их.
И вместе с весенним солнцем душу мою заполняла волна безграничной любви и нежности к этой семье, где радости и беды разделяются без лицемерия, где живет сила, исцеляющая раны, обновляющая душу, неиссякаемая и непобедимая.
А к вечеру я уехал, чтобы никогда сюда не возвратиться и всегда возвращаться сердцем.
Шоссе то уходило вниз, то поднималось вверх и снова скатывалось вниз; по бескрайним полям лежала моя дорога – дальняя, дальняя…
1947








