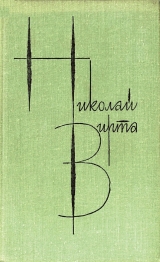
Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Воодушевленный Егор
1
Вот так каждое утро, часов в семь, а то и раньше, он приходил в лагерь, садился на бугорок и немигающими глазами смотрел на наши палатки, на машины, на женщин, готовящих завтрак, на речку, что катила быстрые валы, на развесистые старые-престарые ивы, росшие в два ряда вдоль берега и образовавшие тенистый, далеко уходящий свод, где мы расположились, чтобы пожить на воле пять-семь дней.
За ивами, примыкая к проселочной дороге, расстилался луг с пожухлой травой: кое-где возвышались кусты и росли сливы, принадлежавшие близлежащему колхозу. Впрочем, вряд ли он имел хоть какой-нибудь прибыток от этих деревьев, потому что ватага мальчишек очищала их, когда сливы были еще неспелыми, и лишь на верхушках сохранялись ягоды, черные, глянцевитые, отливавшие блеском на солнце.
По лугу бродило колхозное стадо. Единоличных стерегли ребятишки до девяти лет; те, что постарше, работали дома или в общем хозяйстве, помогая отцам и матерям.
Колхозное стадо оберегал этот странный парень лет тридцати. Был он поджарый, среднего роста, с лицом и глазами, ничего не выражавшими, ну абсолютно ничего; никакого проблеска мысли я не приметил в его тупом, равнодушном взгляде, обращенном к лагерю и ко всему, что находилось в нем.
Мы привыкли к его безмолвному обществу и перестали докучать обычными в таких случаях вопросами: откуда он, сколько у него коров, да что он получает за свою работу. На наши расспросы парень отвечал непонятным бормотанием.

Иногда приглашали его разделить с нами завтрак; он отрицательно мотал головой. Предлагали ему яблоки и груши. Фрукты он брал и жевал без всякого аппетита, равнодушно и молчаливо, слабым кивком благодарил за угощение, и снова бесстрастный взгляд устремлялся во что-то неведомое.
В полдень он собирал коров, гнал их к илистой части берега, коровы входили в речку и долго пили, а парень, опершись на посох, терпеливо ждал.
Затем он перегонял стадо на противоположный конец луга, а утром снова возвращался на свой бугорок рядом с моей палаткой, кивал нам и сидел неподвижно, не печальный и не радостный, безразличный ко всему на свете, даже к чудесной природе, что окружала нас. Мы жили здесь уже не первый год и всякий раз, возвращаясь сюда, благословляли этот пленительный уголок земли, где рокочущая речка, запахи луговой травы, прохлада, что волнами накатывалась издалека, располагали к бездумному отдыху и к мыслям обо всем и ни о чем.
Может быть, и этого парня тоже? А может, ему просто все пригляделось с детства, если он провел его в этих местах; пригляделось и надоело? Ведь все, в конце концов, надоедает, так уж устроен человек.
И все-таки как же обманчива внешность!
2
Дня через три или четыре мои друзья по лагерю уехали за покупками в соседний городок, где рынок был небольшой, но битком набитый всякой овощью и бесподобными дешевыми фруктами и ягодой.
Я остался сторожить палатки и весь наш скарб; в семь часов, как всегда, появился этот парень.
Стадо растеклось по лугу, оттуда доносилась веселая хлопотня ребят, пригнавших своих коров, смех, чей-то плач и возня: обычная ребячья кутерьма, к которой я уже привык.
Парень устроился на бугорке. И вдруг я услышал:
– Меня зовут Юрко.
Немой заговорил! Я обернулся к парню, он улыбался; улыбался его рот, глаза, улыбалось все лицо: он преобразился в единый миг.
– Есть такой святой, – добавил он.
– Нет такого святого! – сказал я первое, что пришло на ум. Пусть парень разговорится, раз уж начал, а уж потом я расспрошу его о четырехдневном безразличном молчании.
– Как нет? Есть. Меня бабка крестила, мать не хотела, а бабка тайком. – Парень рассмеялся. – У нас для купели воду берут из речки; весной она студеная, словно лед. Вот, должно быть, я надрожался! А бабка знает всех святых.
Парень качнул головой в сторону ярко-голубой церковной маковки. Церковь стояла на пригорке по ту сторону реки, в деревушке, утопающей в зелени садов.
– Вон там меня бабка и крестила.
– Так вот в святцах имени Юрко нет. Юрий, он же Георгий, он же Егор в просторечье – одно лицо.
– Ну, ну, – возразил парень. – Юрий – это Долгорукий, а Георгий – это Победоносец.
– А Егор?
– Егорий с теплом, Никола с кормом.
– Так вот ты Егор, а вовсе не Юрко, так и скажи бабке, если она жива.
– А что ей сделается? Тянет помаленьку.
– И такая же, как ты, немая? Словно воды в рот набрал за эти четыре дня, – укоризненно сказал я.
Парень рассмеялся.
– Да нет, она ужас какая говорливая, вроде меня.
– Да уж, – только и сказал я. – Очень ты говорлив, вижу.
– Это мне при них не хотелось. – Юрко мотнул головой в сторону пустых палаток моих лагерных товарищей.
– Почему?
– А какой во мне интерес? Пастух и пастух, эка невидаль. Мало ли их шатается с коровами на таких же лугах. Да и я их перевидал. Только всем им далеко до меня.
– Это отчего же?
– Я воодушевленный. Вроде вас. Я ведь знаю, что вы сюда приехали в четвертый раз. Значит, воодушевило вас все наше здешнее, правда ведь?
– Ты скажи!
– Правда.
– Вот и меня тоже. – Он помолчал. – Вы-то меня поймете, раз ваша душа тянется к этому месту. А для меня оно, не знаю, как сказать… Оно для меня роднее дома родного. Тут думать хорошо, широко тут кругом, вольно и тихо, вон только речка бормочет, а так тишина тут, всегда тишина. Ребята балуются, а я их не слышу, да и уберутся скоро. Тогда свой шаг по траве можно слышать, шелест листа в кустах, рыбий всплеск в речке, шепот тростника…
– И коровы мычат, – сказал я, удивляясь все больше и больше.
– Привык, тоже не слышу. – Безмятежная улыбка озарила лицо Юрко.
– В прошлые годы я вас не видел здесь.
– А я вас видел. Во-он там стадо стерег, да подойти стеснялся, ребятишки-то все знают, кто сюда приезжает. Шустрый народ! Вы ведь тоже не из разговорчивых: либо пишете, либо помалкиваете, я заметил.
– Я не знал, что сказать.
– Вы небось думаете, – продолжал Юрко, вовсе не нуждаясь, очевидно, в моем ответе или замечании, – что пастух – это так: ходит человек за стадом, гоняет коров, посвистывает, спит в тенечке, когда спят коровы, наевшись…
– Нет, я так не думаю, потому что сам был пастухом. Давно. Мальчишкой. Без отца остался в пятнадцать лет, подпаском нанялся.
– Подпаском, – повторил Юрко.
Мы помолчали. А я вспомнил те далекие-далекие времена, когда после годового испытания стал самостоятельным пастухом и мною все были довольны. Коровы и телята тучнели, вследствие чего хозяйки, у которых по древнему обычаю я питался, переходя по очереди из дома в дом, просто разрывались, не зная, куда меня усадить и чем накормить… Получал я за работу натурой; семья моя хоть и не роскошествовала, но была сыта в своем доме, обогреваемом соломой, которая мне тоже полагалась за пастуший труд.
Пастухи из соседних сел предрекали мне большое будущее в избранной профессии. Уверен, что пророчество сбылось бы, потому что был я парнем развитым не по годам. К четырнадцати годам я перечитал все книги, которыми был беспорядочно набит отцовский книжный шкаф. Не довольствуясь тем, я совершал походы в одну разрушенную барскую усадьбу, отстоявшую от нашего села в восьми верстах. Там, на чердаке, валялась гора книг. Добравшись до этого сокровища, я брал столько книг, сколько мог унести в заплечном пастушеском мешке, читал запоем в поле, по вечерам дома, а прочитав, возвращал по принадлежности и забирал очередную порцию.
И теперь я часто думаю, что из меня мог бы выйти замечательный чабан. Разумеется, я бы окончил зоотехнические курсы или что-либо в этом роде, может быть, даже вечерний университет, и сколько радостей и почестей могло бы выпасть на мою долю! Меня бы фотографировали так и эдак, ко мне приезжали бы за советами из дальних и ближних колхозов, что возбуждало бы во мне стремление стать чабаном еще более передовым. И я бы, возможно, стал им – первым чабаном среди лучших во всей стране.
Но все это несравнимо с тем, что я получил бы от постоянного пребывания на свежем воздухе: ведь некоторые чабаны живут сто и больше лет. А почему? Потому что дышат чистейшим кислородом, а не бензиновым перегаром… И нервы… Сколько бы можно было сберечь их! И скольких неприятностей избежал бы я, останься тем, чем занимался Юрко… Так нет тебе. В писатели угодил, будь оно неладно.
3
Юрко смеялся, слушая мой рассказ, а потом сказал, что все это почти в точности повторяет его историю, хотя пастухом он стал не в пятнадцать лет, а гораздо позже, точнее, спустя несколько лет после того как вернулся из армии, прослужив там отведенный солдату срок. В армии он был слесарем в авторемонтной мастерской. Колхоз был рад-радешенек появлению мастера на все руки. Юрко ремонтировал двигатели грузовиков и другие машины, чинил примусы и кастрюли; им были довольны, и доволен был он работой и заработком. Колхоз гордился парнем: такого работягу в округе поискать да поискать.
– Пожалуй, только Матвей ставил мне очко в этом деле, – заметил Юрко и попросил у меня сигарету.
Мы закурили. Синеватый дымок поплыл в неподвижном жарком воздухе. Отчаянно верещали кузнечики, какие-то птахи чирикали и свистели без умолку, скрытые листвой ив, играя, плескалась рыба в реке, и таяли легкие облачка в бездонно-голубом небе.
– Кто этот Матвей? – спросил я.
– А наш кузнец. Сведу вас к нему. Великий мастер! – Юрко помотал головой. – Тоже из нашего брата, воодушевленных.
На шестом году слесарничанья Юрка его мать (отец погиб на фронте) расстаралась коровой, как, впрочем, многие другие колхозники, прознавшие, что власти отныне не будут чинить препятствий в обзаведении личным скотом, даже, наоборот, приветствуют это дело.
– Вот с той коровы, – сказал Юрко, – все и началось. – В его глазах мелькнула озорная искорка. – Мать работала в колхозе, отдавать скотину в общее стадо не захотела. Был у нас пастухом пьянчужка, ему бы только надраться, а сыта корова, голодна, поена, не поена – это ему не в заботу и не в печаль. И вы правильно заметили, иная скотина куда сметливее человека. Так вот, до того невзлюбили коровы пастуха, должно быть, бил он их остервенело, только нашли его как-то полумертвым: то ли бык, то ли коровы, сговорившись, пропороли ему живот, аж кишки повылезали. Потом наняли мальчишку, он никакого понятия не имел, как содержать стадо в аккурате. Оно и давало молока с гулькин нос; колхоз наш не сходил с доски позора по удою. Ну, мать и говорит: «Ты, Юрко, попас бы скотинку. Бабка почти слепая, куда уж ей! А ты часов в пять встань да до семи, то есть до выхода на работу, постереги ее, пожалуйста. После тебя я часа три для коровенки выкрою». Поднял я мамашу на смех: дело ли колхозному слесарю корову пасти? Засмеют. А мамаша мне в лоб: «Молока в день две кринки выхлебываешь, а как ради того же молочка два часа на свежем воздухе побыть – так ты гонора напускаешь?» И бабка меня корит: «Обзавелись в кои-то веки коровушкой, а ты важничаешь. Твой дед этим занятием не брезговал, на что в высоких чинах ходил: псаломщиком в церкви!» Ну, вы знаете, одна баба – базар, две – ярмарка… Утром выгнал корову.
Был я, конечно, в том деле полным несмышленышем: черт ее знает, когда скотину поить, когда ей отдохнуть. Пристроился я к ребятишкам, они своих коров выгнали, глаз с них не спускаю, в оба уха слушаю, постигаю, так сказать, пастушью профессию… Что они делают, то и я: начал выбирать для коровы местечки, где трава пожирнее и посочнее, пасется моя скотника в свое удовольствие. И мне все в новинку. В эти часы я обыкновенным делом самого крепкого храпа пускал, а тут такое раздолье!
Солнце только что подсушило росу, все кругом свежее, молодое, прохладой веет, речка играет на камнях, бурлит, переливается, шелестят ветлы, птицы о своих делах переговариваются… Все это я будто впервые увидел. Выкупался, поел чего мать собрала и блаженствую, как никогда. Ну, мало-помалу освоился… Наука, как вы сами испытали, кажется, простая, да не тут-то было. Не нажрется коровенка до отвала, не напьется вдосталь, не отдохнет всласть – молока не жди, это уж законно.
– Правильно, – подтвердил я. – Или такое жидкое даст, хоть морду вороти.
– Ладно. В тот день пришел я в мастерскую и ни черта не могу делать, все из рук валится. Мастер на меня цыкает, а я молчу. «Что с тобой, – спрашивает, – Егор (он меня тоже Егором зовет), вроде ты сам не свой. Не приболел ли?» – Нет, отвечаю, хотя знаю, что действительно заболел, а как назвать эту болезнь, не соображу. Отпросился, пришел домой, мать с работы подоспела, хочет корову пасти, как обещала. «А ты, сынок, отдохни, мастер сказал, что занедужил». – «Нет, – говорю, – не занедужил, только в голове туман. Давай уж я попасу коровенку, может, продует на воздухе голову».
Вечером пришли мы с коровой домой, надоила мать ведро, а вымя еще полнехонько. Стою я рядом, думаю: неужели сумел угодить скотине? Однако помалкиваю. Утром опять с коровой на луг. Теперь уже знал, где трава еще слаще, где вода еще чище. В тот день полдневный удой был очень неплохой, а вечером два ведра корова нажикала! Мать вся светится от радости: вот так коровушка, вот так кормилица! Наутро я к мастеру. «Что-то у меня вроде трясенья в мозгах, Семен Прохорыч, не могу работать, отпусти недели на две, время тихое, все мы починили, срочного ничего». Мастер пошебаршил, но отпустил. Ну, подробности в сторону, одним словом, пристрастился я к пастушеству. В мастерскую зайду по бабьей просьбе, кастрюлю запаять, чувствую, будто я в клетке. Паяю, а в глазах эти ветлы, урчанье речки, гомон птичий, утренняя роса на лугу, туман клочьями стелется. Потом солнце как кинет лучи – и все заблестит, заиграет!
«Поэт, – думалось мне. – Талант!» А Юрко продолжал:
– В июле узнаю: прогнали мальчонку-пастуха, бабы взбунтовались. Я к председателю: «Хочу новую работу, говорю, Иван Силыч». Он на меня глаза вытаращил. «Какую?» – «Стадо стеречь». Он пощупал мой лоб. «Нет, – говорит, – жару вроде нет!» Я ему: «Шутки прочь, хочу быть пастухом, воодушевило меня это дело. Не возьмете, в соседний колхоз пойду, там, слышал, тоже пастух требуется…»
Уламывали они меня неделю, если не больше, чтобы остался в мастерской, да какое! Раз уж на меня это наехало, тут конец! Мать плачет, бабка ахает, невеста, теперь она жена, в рев: «Я механика полюбила, а не пастуха!», председатель к матери бегает, уговаривает, чтобы вернуть меня в мастерскую, мать – к председателю, чтобы не отпускал в пастухи… Доконали они меня.
«Ты что ж, – рычу, – Иван Силыч, век хочешь сидеть на позорной доске со своим животноводством?» – «Уж не ты ли, – говорит, – сделаешь его другим?» – «А ты полюбопытствуй у матери, сколько наша корова давала и сколько теперь дает». – «А сколько?» – «А в мае двенадцать литров, теперь двадцать пять».
Иван Силыч к матери: «Не брешет ли Юрко?»
Она ему: «Как начал корову пасти, вошла в полную силу скотинка!»
Я ему: «А ты молоко попробуй». Он пробует. «Ай-да-да-да! Четыре процента жирности, голову кладу». – «Бреши, – говорю. – Четыре с половиной, сам носил молоко в лабораторию!» – «Чудеса, – пожимает плечами Иван Силыч. – Неужто и наше стадо таким могло бы быть?» – «Через год, будь покоен».
Сладились. Только Иван Силыч предупредил: «Такого заработка, как в мастерской, не жди». – «А я такое заработаю, Иван Силыч, что ни за какие деньги не продается и не покупается. Только тебе этого не понять…»
– Ну что ж было потом? – спросил я.
– А что? В прошлом году, – он лениво сплюнул, – вместо доски позора, – доска Почета. Вы же понимаете, к скотинке подход нужен. Иная корова ласки ждет, другая злобится невесть с чего, а ты ее усмири; третья только к одной траве имеет вкус; четвертая отдохнуть хочет побольше. У меня их сто шестьдесят, я каждой коровы характер знаю; и характер, и на что она способна. И коровы меня, так сказать, приняли. Я животное никогда не ударю, это зверство – бить существо… Да вон, поглядите, шерсть у всех словно шелк, морды приветливые… Это гнусная сказка, будто нет животного глупее коровы! Только ее понимать надо. А этому я научился, не хвастаясь скажу… А уж что я стал вольным человеком на этом приволье, куда и вы душой стремитесь, – это, пожалуй, самое главное. – Юрко помолчал и, чуть покраснев, добавил: – И, вроде вас, читаю столько, сколько сроду не читывал… – Он вытащил из объемистого заднего кармана штанов томик Бернса в переводе Маршака. – Наизусть выучил все, что тут. Особо же Пришвина люблю. Тоже был на природу воодушевлен, ах, как пишет…
– Но не век же вам пастухом быть, – заметил я.
– Ясно. С осени начну учиться. Заочно, в зоотехническом.
– Ну, а что ж зимой делаете?
– Как что? При скотине, конечно! Зимой дел хватает. Молодняк пойдет, теляточки. Так-то я люблю смотреть на их мордашки, умора!
Солнце стояло в зените и поливало полыхающим жаром луг, реку и заречье, подернутое лиловато-сизой дымкой. Все притихло в природе. Замолчали птицы, даже неутомимые кузнечики, томясь от пекла, примолкли, и бессильно поникли жидкие ветви старых-престарых ив. Яркие солнечные блики играли на воде, лениво плескалась рыбешка, неподвижной статуей замер на противоположном берегу рыболов – толстый, полуголый дядька в соломенной шляпе. Где-то далеко прогрохотала машина.
Солнечный луч блеснул на позолоченном кресте церквушки; блеснул и исчез. Знойно, душно…
Послышалось рокотание автомобильных моторов: наши возвращались из поездки. И сразу лицо пастуха замкнулось: ни белозубой улыбки, ни озорного прищура глаз.
– Прощайте, – сказал Юрко. – Мне пора. – И протяжно свистнул.
Коровы, словно ожидая этого сигнала, заторопились к илистой кромке реки.
Юрко больше не приходил в лагерь. Лишь перед самым отъездом я нашел его: он сидел на пне возле речки и читал. Мне нужен был кузнец: Юрко свел меня с ним. Но это уже другой сказ.
1974
Как это было и как это есть
Автобиографическая повесть
Семья
Моя жизнь в деревне, и как результат романы «Одиночество», «Закономерность», «Вечерний звон», «Крутые горы», множество рассказов и пьес, богата событиями, порою самыми, казалось бы, невероятными.
Именно потому, очевидно, что жизнь эта до краев была насыщена разными происшествиями, отдельные ее эпизоды особенно ярко запечатлелись в памяти.
На всякий случай упомяну, что родился я в 1906 году в селе Каликино – это на юге Тамбовской области; село расположено километрах в трех от станции Токаревка Юго-Восточной железной дороги. Отец мой был священником; Каликино – первый приход, куда его высшее духовное начальство послало совершать свою в общем-то незамысловатую службу.
Из Каликина отца перевели сначала в село Волчки, потом в Горелое. Лишь в 1911 году мы надолго осели в селе Большая Лазовка – в романах «Вечерний звон», «Одиночество» и «Закономерность» оно названо Двориками. Здесь круг знакомств отца пополнился учителями, большинство которых были сосланы сюда за нелегальную и легальную (до поры до времени) борьбу с царским режимом.
Иногда, очень, впрочем, редко, отец ходил на Нахаловку. Там жил депутат Четвертой Государственной думы Молчанов, эмансипированный крестьянин из богатой семьи. Особенно часто отец бывал у Молчанова накануне февральской революции: тогда в Государственной думе произносились резкие антиправительственные речи, цензура не пропускала их, газеты выходили с белыми полосами… Молчанов рассказывал отцу о скандальном шуме вокруг Распутина, сетовал на царицу, жалел… царя… Домой отец возвращался еще более молчаливым и замкнутым. В числе его приятелей был Петр Иванович, названный мною в романе Сторожевым. На самом дело было два Петра Ивановича, оба активные эсеры и антоновцы, я соединил их в один образ. В дальнейшем я встречался именно с Петром Сторожевым.
По своим взглядам, как я теперь понимаю, отец был кадетствующим эсером. Будущее устройство России представлялось ему в виде резко ограниченной монархии с правительством из «образованных» классов, но с участием «умных» крестьян – вроде того же Сторожева.
Моими занятиями вне школы и вне дома отец не интересовался совершенно, не мешал дружить с сельскими ребятами и проводить время как мне вздумается. Не было случая, чтобы меня не пустили в ночное или в ночевку в поле. Когда приходил срок уборки подсолнечника, я помогал своим приятелям; уезжали мы в поле недели на полторы.
Никакого особенного религиозного воспитания в доме мы не получали; в церковь могли ходить, а могли и не ходить, посты соблюдать и не соблюдать…
Читал я запоем. Книги из отцовского шкафа проглотил годам к двенадцати. У отца было порядочно всякой литературы: русские классики, журналы «Нива», «Огонек», «Задушевное слово», «Мир приключений», «Вокруг света»… Потом я начал доставать книги где попало и у кого попало. И вдруг узнал, что в соседних селах, в помещичьих имениях, на чердаках свалены груды книг. С тех пор эти имения стали для меня целью книжного паломничества…
Отмахаешь, бывало, километров пятнадцать, заберешься на чердак барского дома, набьешь заплечный мешок книжками и домой… А дома мать сразу все книги запрет в комод и мне выдает одну-две книжки в день…
Так были прочитаны все сочинения Жюля Верна, Майна Рида, Фенимора Купера, Дюма, много книг русских авторов. До упада я смеялся над приключениями пана Халявского и лил слезы над страданиями Вертера, не понимая, конечно, философской сути произведения.
Однажды в потайном углу отцовского шкафа я разыскал связку книг, обернутых в синюю бумагу. Связка немедленно была выпотрошена… Взахлеб, тайно от всех прочитал я полдюжины книг, выпущенных полулегальным издательством «Донская речь».
Одна книга особенно запомнилась: там описывались характеры русских царей после Петра Великого. Написано это было так хлестко, что я обливался холодным потом от страха: вдруг меня застанут за чтением этой книги… То-то скандалу быть!.. Чтобы избежать неизбежного разоблачения, я запирался в уборной и там поглощал страницу за страницей о том, какие идиоты, вроде Петра III, правили Россией, сколько любовников было у Екатерины II, как оказался на престоле Николай I, почему все цари были вовсе не русскими, а сплошь немцами… Каждый шаг на улице настораживал меня, и я прятал очередную «запретную» книжку в такое место, о котором никто из домашних не мог догадаться…
А в общем-то был я мальчишкой, как все мои сельские сверстники, участвовал в ссорах и драках, играл с азартом в лапту, чижика и казанки (игры ныне забытые), предводительствовал шайкой ребят с Кочетовского порядка. Мы отчаянно враждовали с шайкой ребят с Большого порядка… Они прозвали меня почему-то Мешком и доводили меня до бешенства этой кличкой…
С детства нас приучали работать в поле, огороде и в саду.
До сих пор с содроганием вспоминаю изнурительную работу на прополке проса; пололи его по меньшей мере два раза, вырывая осот руками. Нагибаться каждый раз, чтобы выдрать кует осота с корнем, было невозможно. Мы ползали по полю, проклиная все на свете. Нещадно пекло солнце, колени болели, ужасно ныла спина, руки – в ссадинах и крови… С рассвета и до заката продолжалась эта пытка. Порой просо так зарастало осотом и другими сорными травами, что приходилось жить в поле неделями.
Только окончишь первую прополку, как начинается вторая, еще более тяжелая, потому что за это время осот снова вырастает и выдирать его из спекшейся земли невероятно трудно.
И все это делается впроголодь: времена были голодные.
Однако, как ни тяжело было работать в поле, работа закаливала нас, приучала к лишениям, что впоследствии мне и моим трем сестрам очень пригодилось.
С батраком отца у меня была крепкая мальчишеская дружба. Он скрывал от отца и матери мои проделки, я в свою очередь – его недоделки. Спали мы в кухне на полатях. Иной раз я до дрожи доводил Тимофея, по прозвищу «Патрет», россказнями о чем-нибудь очень страшном, например пересказывая гоголевского «Вия» или «Страшную месть»… А уж если заводил что-то смешное, тут прысканью и хохоту не было конца…
С Тимошей мы были друзья: вместе чистили хлев, убирали за овцами, делали для коровы «резку» (мелко нарубленную солому с отрубями), таскали из омета солому для топки печей в кухне и в чистой половине дома, возились в соломенных ворохах, боролись, тузили друг друга, пока на шум не выходили отец или мать и не прекращали кутерьму.
…Почему отец и мать выбрали Дворики, не знаю. Если принять во внимание удобства и разнообразие жизни, то в этом смысле Волчки, а Горелое в особенности, представляются мне идеальными. Волчки в те времена были красивым селом; Горелое – тем более.
Как бы то ни было, мы осели в Двориках надолго. Здесь отец впервые обзавелся своим домом: купил хилую покосившуюся развалюшку у священника, бывшего до него, влез в долги, расширил, перестроил дом и обставил на городской манер. Тогда же он начал деятельно готовиться к постройке новой церкви, о чем разговор шел давно.
Церковь
Старый храм был очень ветхий. Крыша протекала и грозила обвалом, сырость портила иконостас и степную роспись, краска на иконах потрескалась и лупилась. В ливни капли дождевые падали на престол, сквозь прорехи в крыше залетали голуби, стрижи носились под куполом с веселыми криками.
Обитая тесом, выкрашенная давным-давно желтой клеевой краской церковь была увенчана двумя куполами. Некогда золотые звезды украшали их, но золото со звезд облезло, и купола были покрыты ржавыми пятнами. Кресты уже давно не золотились, колоколов было мало, а самый большой колокол однажды упал – сгнила балка, на которой он висел.
Все в церкви было до крайности бедно: и алтарь, и старый, залитый воском ковер на амвоне, и полинявший занавес на царских вратах, и Евангелие неведомо как держалось в тяжелом железном переплете… Церковь плохо освещалась: Иван Павлович – церковный староста – на расходы был скупенек.
Как и обычно, к ранней обедне приходили Лука Лукич Сторожев и его внук Петр, Прасковья Хрипучка, пастух Илюха Чоба и несколько согбенных старух и стариков.
В полумраке выделялась огромная фигура Луки Лукича; он словно бы подпирал своими могучими плечами низкие церковные своды.
Рядом с ним стоял Петр, с черными горящими глазами, меднолицый, скуластый и жилистый, весь словно из железа, с огромными, длинными, дьявольской силы руками.
За ктиторской загородкой помещался Иван Павлович; остальные жались в самых темных углах.
Зажигались в алтаре свечи, молящиеся слышали в алтаре шорох и шаги, и души пришедших сюда наполнялись чем-то размягчающим, исходящим из алтаря… Казалось мне в эту минуту, что и свечи начинали гореть по-иному: пламя их, колеблющееся от проникающего сквозь щели ветерка, становилось спокойным, более ярким, и иконы оживали, потрескивали свечи, клубы дыма от кадильницы плыли ввысь, голоса священника и псаломщика казались далекими-далекими. Будто уходили горести, обиды, черные думы. И думалось, что мир царит во всем мире и во всех сердцах.
Огромные причудливые тени появлялись на стенах и исчезали, все гуще становился кадильный дым, все дальше, мнилось, уходили отсюда скорби бренной жизни, и ближе становилась жизнь, где несть печалей и воздыхания… Шептала что-то Прасковья, выпрашивала у божьей матери милости для себя, для сыновей, для мужа, для всех людей.
– Господи, по-о-ми-луй! – пел псаломщик.
«Кого помилуй? Как так помилуй? – думал Лука Лукич. – Помилуй их, они враз все разворуют!»
Петр Сторожев стоял столбняком. Он об одном думал, как бы поскорее вырваться из семьи да завести свое хозяйство, искоса посматривал на деда и злобно кусал губы: «Долго еще протянет, старый дьявол, долго не выбраться из-под его руки!»
Старик видел взгляды Петра, догадывался о его мыслях и хитро ухмылялся. «Поживу еще, собачий сын, – весело думал он. – Ты еще у меня попляшешь! Я есть здоров, и спать здоров, и работать здоров! А тебя, подлеца, уважаю, в меня пошел, карахтерный! Только мною подавишься – бог не выдаст, свинья не съест!» – притворно вздыхал, махал рукой, словно мельничным крылом, и подпевал псаломщику:
– О-о-оспо-ди-о-оилуй!
Пастух Чоба рассеянно смотрел на все происходящее: молитв он не понимал, но ему было тепло в церкви, и о я думал об Аленке, стряпухе сельского старосты Данила Наумыча: надо бы поговорить с ней, усовестить, пусть не ломается, пусть идет за него замуж.
«Эх, кабы достаток, тут бы уж Аленка не отказалась!»
И Чоба начинает мечтать о достатке, о собственной, хотя какой-нибудь избенке, о корове и серой лошади; он улыбается во весь рот и получает здоровую затрещину от Ивана Павловича, идущего «с кружкой».
Чего ухмыляешься, харя?
Чоба бухается на колени и начинает молиться, ни о чем уже не думая и ничего не соображая.
Вера
Никакого религиозного трепета за обедней или вечерней я нисколько не ощущал и никакого уважения к богу-отцу и его многочисленной родне не испытывал. Но мне нравилось слушать хоровое «Отче наш», «Верую» и другие напевы, доступные пониманию людей. И я, и громадное большинство приходивших в церковь смысла молитв не понимали и следили лишь за тем, чтобы вовремя стать на колени и подняться с них.
Вообще замечу, многие крестьяне никогда не были глубоко религиозными и по-настоящему верующими. Они любили обряд,им было тепло и светлов церкви, вкусно пахло ладаном, можно было испить сладенькой водички после причастия…
Особенно любили на селе все связанное с пасхой.
После пасхи самым веселым для нас, ребятишек, днем была троица. С утра я залезал на огромнейший вяз, росший в палисаднике, и рубил ветки; ими украшался дом. Мать пекла какую-то особенно вкусную пастилу из прошлогодних запасов смородины, вафли (если был в продаже сахар), сдобные пышки… Все это угощенье, запиваемое парным молоком, осталось в памяти навечно; вкус пастилы помню отчетливо.
Но до троицына дня нам, ребятам, приходилось здорово потрудиться в огороде. Он начинался за ригой и тянулся широкой полосой вплоть до порядка, называемого Калиновкой. Сажали мы картошку, свеклу, морковь, огурцы…
Учительница
Впервые я попробовал и узнал вкус салата в школе: им угостила меня моя первая учительница Ольга Михайловна, светлая память о которой уйдет в могилу вместе со мной… Она же уговорила мать сажать редиску, петрушку и кабачки – овощи в те времена чрезвычайно редкие.
Ольга Михайловна, к слову сказать, любила отца за то, что он не был похож на какого-нибудь заскорузлого сельского попика. Ей нравилось то, что отец много читает, не понуждает нас к исполнению религиозных обрядов, что не было в нем поповской алчности, хотя, как говорится, драл он с живого и мертвого, но в душе гнушался этой нелепой традицией.
И вся наша семья очень любила Ольгу Михайловну, милую, добрую, никогда не унывающую!
В «Вечернем звоне», в рассказах я не раз упоминал Ольгу Михайловну. Навсегда врезался в память один мой разговор с нею.








