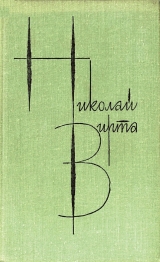
Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Он отмахал три километра на юг, вернулся, заглянул в окошко: тихо. Люба, должно быть, еще спала. Быстро обследовал северный участок и поспешил обратно: ноги словно бы сами подгоняли себя.
В домике Люба пела.
Антон Ильич слушал, не открывая двери.
Голос у Любы был глубокий, грудной.
…по людям ходила,
Где качала я детей,
Где коров доила…
пела Люба.
Хороша я, хороша,
Да плохо одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это…
И такая тоска слышалась в этих словах – захолонуло у Антон Ильича сердце.
Пойду с горя в монастырь,
Слезами зальюся,
Пред иконою святой
Богу помолюся…
Стародавняя была эта песня, еще в детстве слышал ее Антон Ильич. Теперь забыта, как забыто горе иных сирот, «по людям» ходивших.
Вошел он. Люба хозяйничала у стола.
– Складно у вас получается, Любовь Митревна. Доброе утречко. Матушка, помнится, все ее пела. Бедно мы жили. И по людям ходила матушка.
– Бабуня тоже, – чуть порозовев от похвалы, сказала Люба. – Ой, да вы испачкали полушубок. – Окунула в кипящую воду тряпицу, смыла пятнышко. – А то на самом видном месте. Садитесь, голодны, должно быть.
Оладьи, жаренные на постном масле, горкой возвышались на столе.
– Добрый аппетит у вас?
– Не очень. Все на сухомятку эти недели. А тут эк раздолье! Хозяюшка вы, однако. – Антон Ильич сполоснул руки и лицо у рукомойника и только тогда заметил эту хозяйственную вещь. – Где раздобыли?
– А зачем вы меня на «вы»? Мне неудобно даже, – просто заметила Люба. – А рукомойник нашла в чулане. Барахла там!..
– Это уж известно. Нужно, не нужно человеку, всяку дрянь в свою нору тащит. Сгодится, мол.
Посмеялись.
– А сама-то, сама-то что ж? – заторопился Антон Ильич, пододвигая к столу расшатанную табуретку. – Я, пожалуй, действительно тебя по-свойски…
– Давно бы.
– Садись, что ж ты?
– Да я поела. А вот и чай. Как оладушки?
– Спрашивай!
– Бабуня научила. Мастерица она. Щи готовит – объешься.
Присела.
– За компанию хоть один оладышек.
Люба потыкала в тарелке вилкой и побежала к чайнику.
– Ты ровно птичка по зернышку клюешь. За фигуру тебе беспокоиться рановато.
– Все-таки, – Люба пококетничала перед осколком зеркала над рукомойником.
«Где она его раздобыла? Надо быть, тоже в чулане… Запасливый был старикашка!»
– Когда начнем? – хлебнув чаю, спросила Люба.
– Чего?
– Малярничать?
– А чего спешить? – Неделя пройдет-пробежит быстро, да только он и видел Любу. У Антон Ильича запершило в горле. Он и сам не понимал, с чего омрачилась его душа. Ведь когда ехал сюда, об одном мечтал – лишь бы от людей подальше.
– Как чего спешить? У меня в совхозе много дел, в других местах работа… И личных дел хватает.
– Работа не медведь, – попробовал пошутить Антон Ильич.
– Стесню вас.
– Это ты из головы выбрось. Если, конечно, у тебя в совхозе какие-нибудь особые интересы. – Это прозвучало как намек.
– Нет, тех интересов у меня пока нет. Тут совсем другое. – Люба убирала со стола посуду, Антон Ильич курил, следя за каждым ее движением. – Я ведь нелюдимка, так меня и заклеймили. – Звонко рассмеялась. – Бабуня все пристает: вылезла бы из совхоза, побыла бы на людях, себя показала, на человечество посмотрела. – Люба фыркнула. – Все старается замуж меня…
«Старая карга!» – едва не вырвалось у Антон Ильича вслух.
– Что ж ты не слушаешься бабушку? – наигранно строго сказал он.
– Послушалась. Послушалась на свою беду. Ухаживал за мной председатель нашего рабочкома. – Люба поджала губы, и сразу что-то взрослое появилось в выражении ее лица. – Два года с ним мучилась, с пьяницей.
– Давно это было?
– Девчонкой выскочила. Девятнадцати не было.
– Без деточек обошлось? – Что-то остро кольнуло сердце. «Вот еще новость! – сказал себе Антон Ильич. – Мне-то что до ее дел!»
– Слава богу.
– Обожглась, значит.
– Да еще как!
Ходики знай похрипывают.
– Теперь надолго, – сказала Люба с тем же серьезным выражением. – Хлебнула досыта замужества.
Вздохнул Антон Ильич, поднялся.
– Вы куда?
– Займусь штакетником до обхода. – И быстро вышел, чтобы не видеть этих глаз с поволокой, этой девушки, которую никак не мог представить женщиной; не видеть тени той, другой, что порой являлась ему наяву и в сновидениях.
– А я все-таки начну, – крикнула ему Люба вслед.
Кивнул.
7
Выйдя на улицу, Антон Ильич воровато вынул из бумажника зеркальце, снял шапку, пригладил волосы, взглянул на свое отображение.
Худощавое, чуть скуластое лицо, побуревшее на ветру. Серые спокойные глаза могли прямо и честно смотреть на людей и на весь мир: не было на совести Антон Ильича ничего такого, что бы он прятал в глубине души. Слабо очерченный подбородок выдавал главную черту его характера: доброту.
Вспоминая военную службу на германском фронте, Антон Ильич дивился, как это он мог командовать людьми, хотя и немногими, а все ж. Но всякий солдат его отделения, встань он из праха, доложил бы, что командиром старшина Галкин был «железным» и педантично справедливым. Недаром его любили, но и побаивались. Разойдется, нашумит, наобещает всяких кар человеку и отойдет. Знал: у каждого своя слабинка.
Он сохранил еще солдатскую выправку, был не слишком высок ростом, кость имел крупную, жира не нагулял, так что выглядел бы молодцом, если бы… если бы не седые, как лунь седые волосы. А стали они такими после той контузии. Когда впервые (после выздоровления) глянул на себя в зеркало Антон Ильич, ахнул: старик!
А тут, как нельзя некстати, пришло на ум, что первого апреля исполнится ему сорок лет. Седой в сорок лет… Эхма!
И принялся Антон Ильич со злостью крушить штакетник, щепки так и летели!.. Расправившись с оградой, Антон Ильич осмотрел опорные столбы, привезенные Петром Семеновичем, и остался доволен: на совесть сделаны, даже толем обили заостренные концы. Начал он для столбов копать ямы. Земля смерзлась, подавалась туго, да что она для бывалого сапера?! С такой ли управлялись, роя окопы и блиндажи, в сорок первом под Москвой? Земля, схваченная лютыми тогдашними морозами, казалась сплавом материалов неземного происхождения. Словно детские, игрушечные, крошились саперные лопатки, лопались ломы…
Лопата скребнула обо что-то. По усвоенной привычке Антон Ильич обкопал осторожно землю вокруг какого-то округлого предмета, нагнулся.
Граната!
Кольцо не снято – значит, живая. Так же осторожно Антон Ильич извлек гранату из ямы, сдернул кольцо, бросил гранату в поле. Не разорвалась.
«Немец все подчистую истребил», – вспомнились слова Петра Семеновича. Стало быть, действительно в этих местах шли жестокие бои: каждая ямка исторгала из своих недр то пригоршни расстрелянных гильз, то остатки мины или осколок снаряда. Прошедшие тут сражения обильно усеяли землю своими мертвыми семенами.
В пятой яме Антон Ильич выкопал человеческий череп: посреди лба – дырка.
Наповал.
Антон Ильич отошел немного в сторону, чтобы схоронить останки солдата – нашего или чужого, кто ж знает!
Люба окликнула Антон Ильича от двери.
– Без четверти два. – И подошла. – Что это?
Антон Ильич закапывал череп.
– Солдат. Легкая была его смерть.
– Тут страшные бои шли, – тихо сказала Люба. – Бабуня рассказывала, в нашем селе – от него и кочерыжки не осталось, оно вон там, за холмом было, в полукилометре от путей. Так вот, стоял в селе штаб какого-то полка. Наши наступали вдоль линии, а штаб полка немцы отрезали от своих, загнали в эту выемку… Человек шестьдесят их было… Санитарка, бабуня рассказывала, забежала к ней испить водицы. Шинель в крови, голова перебинтована, совсем молоденькая… Никто из них, бабуня говорит, не уцелел, бились до последнего. Может быть, кто и ушел, этого бабуня не знает. Фашисты загнали мужиков и баб в избы и с двух концов село подожгли. Кто выбегал из изб, тех убивали, остальные живьем сгорели. – Люба помолчала, может быть сдерживая слезы. – Вот тогда и убило отца и мать. А бабуня со мной в погребе отсиделась. Вытащили ее неизвестно кто, отправили в «Первомай». Хотя там немцы тоже почти все пожгли, но люди накопали землянок, в них и жили. И мы с бабуней…
Что-то еще сказала Люба, но грохот товарного состава заглушил ее слова.
– Все, говоришь, до единого полегли? – отчего-то вдруг охрипшим голосом переспросил Антон Ильич.
– Все. А вам в обход пора. – Сунула ему сверточек. – На дорожку, подорожник. – Зябко передернула плечами и скрылась в домике.
8
Волна за волной набегало тепло с юга, с далекого моря, с далеких калмыцких степей. Люба начала ремонт. Привык к ней Антон Ильич, так привык, что даже и думать не хотел, каково ему будет без нее. Люба правду сказала, была она действительно тихоня. Словно бы жила она здесь, а словно бы и не жила. Бывают такие люди: ненавязчивые, какие-то вроде бы незаметные, но и незаменимые в жизни. Делают они все споро, без дерганья и возни, но обстоятельно. И незаметно. Попривыкнув к Антон Ильичу, Люба часто пела под сурдинку; Антон Ильич ковырялся со своими делами: то Любе валенки подошьет, то малярную раздрызганную кисть починит, то своей обувкой займется, то газету вслух почитает.
К вечеру следующего после отбытия Петра Семеновича дня из совхоза приехала машина-попуток. Привезли Любе узел с ее пожитками, две подушки. Одну из них Люба упросила Антон Ильича принять в подарок: на память.
– Ляжете, меня вспомните.
– Я и без того тебя не забуду.
– Ну да!
Антон Ильич отказывался: есть у него подушка.
– Этот блин?
А когда Антон Ильич ушел в обход, подушку сожгла. Антон Ильич только руками разводил.
Еще и потому, что вместе с вещами и горой всякой снеди прислала бабуня связку книг. Заглянул в них Антон Ильич, и оторопь его взяла: книги учебные, студенческие, сплошь мудреная наука.
– Это для чего ж?
– А я на заочном. На третьем курсе биологического факультета.
– Ты?
– А что вы удивляетесь? Или туповатой вам кажется совхозная маляриха? – Глаза так и прыгают, чертенята.
Антон Ильич смешался.
– Ну и ну, – только и нашелся сказать.
Так что все вечера Люба зналась только с книгами и тетрадями. Бывало, и за полуночь прихватит. Антон Ильич притворялся, будто спит, а сам глаз с нее не сводит.
И страшная боль, глухая тоска овладевали им в такие минуты. Вот окончит ремонт и уедет; уедет, скроется с глаз, и никогда не увидеть ему эту женщину… Найдет себе мужа в пару, забудет, как жила бок о бок с невежественным солдатом, с молодым еще стариком.
За полторы недели Люба управилась с ремонтом. Антон Ильич перестелил полы, пригнал рамы и расшатанную, отчаянно визжащую дверь, починил стол, скамейки, табуретки. Люба покрасила их. А в печку вставила изразцы, достала в совхозе из барского дома, там теперь размещалась контора. Только тот дом и спасся от фашистского погрома: стоял там их штаб, потому и уцелел дом.
Одним словом, вышла избушка – людям на зависть.
Постаралась Люба.
Был воскресный день, когда Петр Семенович снова пожаловал к другу-обходчику. Приехал принять работу и отвезти Любу домой.
Ходил.
Восторгался.
Приехал Петр Семенович не один: с двумя поллитровками. И с вестью лично для него очень приятной: переводили его заместителем начальника на узловую. Глаза поблескивали от распиравшего Петра Семеновича тщеславия…
В тот вечер Антон Ильич напился до бесчувствия. Даже не помнил, как он прощался с Любой, как многократно целовались они с Петром Семеновичем и клялись в вечной и нерушимой…
Во второй половине ночи, очухавшись и поняв, что спит он не на полу, как все эти мигом пролетевшие дни, тупо, уставился в окошко на бледный серп луны, плывшей над сонным миром. Встал, вылил на голову полведра воды, озноб его пронял, прилег. Тут-то и забрала его смертная тоска: такого он еще не переживал.
Один.
И Петр Семенович – отрезанный ломоть. Узловая в ста пятнадцати километрах, не наездишься. Да ведь истинно сказано: «С глаз долой, из сердца вон».
Из Любиного, значит, тоже.
Один.
Как мечталось, так и сбылось.
Угрюмо шагал теперь Антон Ильич вдоль путей. Лишь глаза работали, примечая неисправности, а голова будто отсутствовала в этой работе. В ней одна мысль: Люба.
Как-то встретился он в конце северного участка с соседом, с тем, кто его обучал, с несусветным болтуном. В гости набивался, новоселье-де пора бы справить. Отказал. Грубо и резко отклонил приглашение прибыть в гости к нему, к соседу. Сосед обиделся и ушел, с Антон Ильичом не попрощавшись. И пошел гулять слух, будто новый обходчик либо задавака, либо без винта в голове. Встретился Антон Ильич с южным соседом, попросил прикурить: забыл дома спички. Сосед как шарахнется он него!..
В одно из воскресений вернулся Антон Ильич из обхода – видит, около избушки околачивается конопатый мальчонка. Под пальтишком у него что-то шевелится.
– Тебе тут чего? – хмуро спросил Антон Ильич парнишку. Противен ему стал после ухода Любы весь род людской.
– Теть Люба прислала. – Мальчик потерся носом о то, что шевелилось.
– Люба? Перевалова?
– Ага.
– Да не врешь ли?
– Не-е.
Как укатила Люба в тот воскресный день с Петром Семеновичем, так и сгинула. Мелькнула чудесным виденьем, блеснула ласковым солнечным лучом, ясной утренней зорькой – и угасла.
Зачем прислала? Записку, что ли?
– Щенка. – Мальчик вынул из-за пазухи бурый, мягкий и лохматый комочек.
– Ишь ты! – впервые улыбнулся за эти дни Антон Ильич. Взял комочек. Тот заурчал, выражая неудовольствие. Пригрелся, а тут хоть и жарит солнце, да на ветерке – все-таки прохладно. Дрожит. Всем тельцем трясется.
– Кормить его чем? – Давно не было у Антон Ильича собаки. И все думал, с первого дня новопоселения думал обзавестись псом. Люба словно догадалась.
Добрейшая душа!
– Молочком его надо поить покамест. Кашки давать. – Мальчик шмыгнул носом.
– Ладно, пойдем, братишка, в дом. – Вспомнил Антон Ильич: даром собаку принимать нельзя. Обязательно – хоть пятак – заплати. Отвалил он парнишке полтинник, не столько за щенка, сколько за то, что пришел от Любы. Не забыла, выходит.
Полсвязки баранок не пожалел мальчику, десяток конфет в горсть.
– И еще вдобавок, держи карман шире, – и пихнул туда полдюжины пряников. – А вот эту коробочку монпансье передай тете Любе с сердечным приветом.
Мальчонка лишь сопел, а глазенки так и сияли: эк богатство привалило. Да как дернет через поле!..
Антон Ильич за ним.
– Стой, где она?
– В город уехала, экзамен держать, – донесся до него голос мальчика. Он улепетывал со всех ног. Должно быть, боялся: вдруг дядька сообразит, что щенок и гривенника не стоит.
– Когда уехала?
– Нынче.
Скрылся.
9
Сучонкой оказался щенок. Назвал ее Антон Ильич Зорькой. Теперь еще занятие: воспитывай собачонку. А удалась Зорька забавной-презабавной. Спала в постели с Антон Ильичом: притулится сбоку и сопит. И все норовила увязаться за хозяином в обход. Да куда ей, ножки еще слабенькие, проковыляет метров пять, заскулит… Антон Ильич сунет ее за пазуху – она тут же заснет, Зорька. И потеплеет на сердце у Антон Ильича, и вспомнит он вычитанное Любой в какой-то книжке: «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак».
Тем временем южный ветер согнал последние снежные закраины. Солнце пригревало, все щедрее становилось его тепло, вдоль путей зажурчали мутные потоки. Зорька увидит щепку, сунется лапкой – не получается. Мордочкой попробует и взвоет: холодище-то! Антон Ильич, глядя на эту глупышку, так и закатится смехом.
Нашла его душа отдушину, куда как светлее стало жить!
Начал он приглядываться к огороду. Хочешь не хочешь, пришлось съездить в совхоз. В питомнике рыжий мужчина о двух костылях ни в контору Антон Ильича не спровадил, ни сам денег не захотел взять за полдюжины яблонь и за дюжину ягодных кустов, когда узнал, что обходчик четыре года отгрохал на войне. Как и он.
– Бери, чего там, не разорю совхоз! – И предложил Антон Ильичу табакерку. – Очень пользительная вещь. Табак сам тру, специями обогащаю.
Отчихавшись, Антон Ильич завел деликатный разговор о том о сем. Потом, как бы невзначай, справился о Любе.
Рыжий мужчина отозвался о ней уважительно. Оказалось, экзамены сдала, сейчас работает на сахарном заводе. Чего-то там красит, белит.
– Девка раз-мое-мое! – сказал рыжий.
– Как же вы не ожените на ней кого-нибудь? – политично справился Антон Ильич. И еще раз чихнул.
Рыжий сказал, что многие парни присватывались к ней, только стыда не оберешься. Бабка у нее – старуха с фантазией. Вынесет жениху кавун: вот, мол, тебе бог, а вот порог…
Посмеялись.
У Антон Ильича отлегло от сердца. Думал: уехала в город, там образованной молодежью хоть пруд пруди. Задурят ей голову…
Домой он вернулся довольный разговором с рыжим добряком и приобретением посадочного материала. Зорька сидела на подоконнике, поджидая. Вошел Антон Ильич, она на него как тявкнет: прорезался голосок. Сердито и долго тявкала: где, дескать, пропадал, почему меня не взял? Трется возле ног, поскуливает…
10
Шел к концу апрель. Антон Ильич давно накопал ямы для яблонь и ягодников, разметил огородные грядки, выписал по почте семена. Сараи-развалюшки снес, поставил новые, покрасил штакетник, соорудил на верху выемки скамейку. В тихий субботний вечер отдыхал он, курил, прикидывал в уме, что завтра надо бы начать копать колодец. Надоело пить воду, привозимую в железном баке, тухлятина, не вода! Рядом, свернувшись калачиком, спала Зорька. Солнце садилось за холм, что высился перед Антон Ильичом по ту сторону выемки. Косые лучи скользнули по вершине холма, глухо пророкотал самолет, как в те дни, когда он был здесь. Это было мгновение; что-то пронзило мозг Антон Ильича, что-то набежало с влажным дыханием весны, и он вспомнил все!
Все, что было ровно двадцать лет назад, вот в такие же апрельские вечера: и как солнце, садясь, скользило лучом по вершине холма, и как рокотали самолеты, несшие смерть.
Шел здесь кромешный бой. Шестьдесят окруженных бойцов бились насмерть, а командовал ими тяжелораненый подполковник. Верно рассказывала Любина бабка: захватили фашисты внезапно штаб полка и случайно приставших к нему раненых бойцов, зажали в этой выемке, заперли ее с обоих концов танками.
Сердце Антон Ильича готово было вырваться из груди, бешено колотилось, прихватывая дыхание. И казалось, будто трясутся скамейка и земля. Он глубоко, с всхлипыванием втянул в себя воздух, прижал руки к груди. Сердце медленно возвращалось к обычному своему ритму. А он, один из шестидесяти, все сидел, уставившись взглядом в холм напротив.
Собачонка заерзала, потянулась, открыла глаза, увидела, что хозяин рядом, и дремота снова увлекла ее в свои глубины.
Антон Ильич вскочил и рысью побежал к избушке. Теперь он вспомнил, что унылая ветла, уже пустившая буро-желтоватые сережки, – та самая, чью вершину сбрил огонь немецких танков, а кору на стволе содрали пулеметные очереди.
Да вот он, оплывший след на коре, и ссохшаяся ветка торчит в выси, как культя безрукого.
Антон Ильич постоял у ветлы, потом помчался, спотыкаясь, вдоль кромки выемки. Наметанный глаз сапера улавливал едва приметные ломание очертания окопов: он же сам рыл их! А вот и впадинка, заросшая пожухлым за зиму бурьяном, – блиндаж и командный пункт подполковника.
И тут еще одна мысль пронеслась в голове: знамя!
Когда стало ясно, что дело идет к концу, когда от шестидесяти бойцов осталось вместе с командиром двенадцать бойцов, поливаемых пулеметным и минометным огнем, оглушаемых взрывами бомб, и умирал истекавший кровью командир, он приказал вестовому зарыть, надежно схоронить полковое знамя, чтобы не досталось оно, гвардейское, врагу.
Вестовой принес знамя, командир поцеловал его и через несколько минут скончался.
Антон Ильич выкопал рядом с ветлой яму, вестовой положил знамя в ящик из-под пулеметных лент, наспех составил донесение: чье это знамя и как бились в этом месте шестьдесят советских солдат. Всех их переписал, успел.
Антон Ильич закопал ящик со знаменем, реявшим над полком в битве за Сталинград, разровнял землю, присыпал ее прошлогодней травой и мусором.
Командира хоронили под ураганным огнем. Когда санитарка Люда бросила в его могилу последний ком земли, осколок снаряда ударил ее в висок. Кровью Люды полито надгробье, от которого не осталось и следа.
Люду похоронили невдалеке от командира. Похоронили первую любовь Антон Ильича, первой же любовью ответившую ему.
Что было потом, как его подобрали, полуживого, оглушенного взрывом бомбы, кто спрятал от немцев и доставил в госпиталь, этого Антон Ильич не мог вспомнить и теперь.
…Уже вызвездило, когда он вернулся в избушку. И не смежил глаз: горькие воспоминания набегали вал за валом, вал за валом… Лишь к рассвету сон сморил его.

Отшагав утром шесть километров – туда-обратно – на юг, шесть – тем же порядком на север, Антон Ильич отбросил от комля ветлы слой слежавшейся травы, поплевал на ладони, вонзил лопату на полштыка в землю… И остановился, вспомнив, читал где-то, если воздух коснется материи, давно лежавшей в земле и с виду будто свежей, она тотчас превратится в пыль.
И решил дать знать своему начальству: снеслись бы с военными властями, пусть пришлют сведущего в этих делах человека.
Снова припорошив то место землей и травой, Антон Ильич пошел искать могилу Люды. Чтобы убедиться, не ошибся ли он, не примерещилось ли ему все это, не обманули ли солнечный луч, скользнувший по вершине холма, и рокот самолета. Там, где похоронили Люду, вспомнил Антон Ильич, грунт был сухой, песчаный. В нем долго сохраняются останки человека.
Теперь лицо Люды уже не расплывалось, как раньше, в смутных видениях Антон Ильича. Нет, он не забыл ее золотистые волосы под солдатской шапкой, ее глаза с поволокой, звонкий голос и заливчатый смех, ее сплюснутый у переносицы нос, ее деловитую незаметность, уютную и женственную, как у той, что полторы недели согревала его своим житьем-бытьем рядом с ним.
Встретились они случайно в штабе полка, стоявшего в селе, куда Люда бегала за водой для раненых, и сожженного потом немцами. Люде и Антон Ильичу так и не пришлось сказать друг другу о своей любви, но это было понятно и без слов. Каждый из них знал, что теперь они всегда будут вместе и только смерть может разлучить их. Когда Люда в часы затишья встречалась с Антон Ильичом, ее глаза были полны радости и счастья. Лишь один раз поцеловал Антон Ильич свою возлюбленную. Солдаты беззлобно подшучивали над ним, но он не обижался, потому что знал, что и они радуются любви, пришедшей внезапно.
Люда даже не охнула, когда осколок снаряда сразил ее, склонившуюся над могилой командира. Сжав скулы, одеревеневшими губами прикоснулся Антон Ильич к ее холодеющему лбу.
Антон Ильич нашел то место, где, по его расчетам, должна быть могила Люды. Слеза капнула на сухую, порыжелую траву, из-под которой пробивалась молодая прозелень. И, сминая ее, пал на землю Антон Ильич…
…Люба нашла его лежащим возле разрытой могилы, куда она не посмела заглянуть.
И жалобно выла Зорька, сидя на краю откоса.
1976








