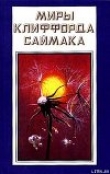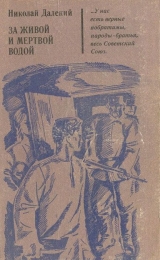
Текст книги "За живой и мертвой водой"
Автор книги: Николай Далекий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
– Добре. Вижу, ты ничего не скрываешь. Молодец! Теперь скажи, ваша семья была в России во время революции?
– Так. Мы были беженцами, сперва жили в Киевской губернии, потом в Саратовской. В 1920 году вернулись домой.
– Ты революцию помнишь?
– Нет. Я только родился тогда, в семнадцатом году.
– В России родился? В этой Саратовской губернии?
– Нет, мать в дороге родила. Где–то за Харьковом.
– Родился в России… – медленно, с нажимом произнес Вепрь, поворачиваясь к референту пропаганды. – Детство провел там же.
– Нет, друже Вепрь, – запротестовал Богдан, полагая, что его не поняли. – Мне всего три года было, когда мы из России в Польшу перебрались.
– А я разве говорю, что тебе было тринадцать? – засмеялся Вепрь. – Год, два, три или десять лет – это все равно считаются детские годы. Не взрослым же ты тогда был?
– Ну так, был еще совсем малым, – согласился Богдан и вздохнул обиженно. Не понимал он, к чему все эти тонкости, но чуял, что Вепрь спрашивает о них неспроста, а словно готовит ему какую–то западню. Ловушки Богдан не боялся, он был у своих, ему просто было обидно и немного смешно, что Вепрь как бы обнюхивает его со всех сторон. А что такого? Не один его отец, будучи хмельным, хвастался царской цацкой и пел русские песни. На Волыни бывших царских солдат тысячи. Не по своему желанию они пошли на войну… Богдан не то что успокоился, а стал более уверен в себе. Собственно, уверенность не покидала его все время с того момента, как хлопцы из эсбе разбудили его пьяного и сказали, что Вепрь срочно вызывает к себе. Испугался он только однажды, уже здесь, в хате, когда Вепрь приказал сдать оружие. Это была тягостная для Богдана минута. В голове его мелькнула мысль о близкой смерти, но он сумел взять себя в руки и не наделал глупостей. Вепрь штукарь, любит поиграть на нервах. Что они могут сделать с ним? Отстранят от командования сотней? Ну что ж, будет четовым, роевым или даже шеренговым. Не откажется. А может, пошлют в школу командиров? Это даже лучше для него, в школу командиров он давно просился.
– Скажи, друже, поляки садили твоего отца в тюрьму?
– В тюрьму? – удивился Богдан. – Нет, отец не сидел, это брата моего, старшего, Семена, посадили на два месяца.
– Подожди с братом. Сперва закончим с твоим отцом. Вспомни, может быть, поляки арестовывали его?
– Арестовать – арестовали, но в тюрьме он не сидел. Его держали двое суток при гмине, в холодной. А вышло так: наш полицай объявил, чтобы все заборы, тыны, какие выходят на улицы, были весной покрашены известью. Я не знаю, почему отец не покрасил, кажется, не достал извести. Ну, конечно, штраф… У поляков, знаете, как было. Отец штрафа не захотел платить, его сразу в холодную. Петом мать достала денег, заплатила штраф, и отца выпустили.
– Твой отец состоял в большевистской партии или в КПЗУ?
– Нет, – Богдан прижал руку к груди. – Слово чести, друже Вепрь Он неграмотным был, в политике не разбирался.
– Почему в вашем селе его называли большевиком?
– Люди его так не называли. Это полицай пан Кухарский так на него говорил. Так наш полицай всех украинцев считал большевиками. Он всегда кричал пьяный: «Тут на восточных кресах все большевики, пся крев!» Ну, а тем более наша семья вернулась из России…
– Добре, – кивнул головой Вепрь. – Теперь о старшем брате. Его за что посадили?
– Можно сказать – ни за что. Была какая–то забастовка, наши мужики в селе шумели, не хотели идти к пану на работу. А ночью хлопцы вывесили на дереве красный флаг. Кто–то на нашего Семена сказал – ему тогда лет шестнадцать было – и его забрали.
– Красный флаг… – повернув голову к Могиле, подчеркнул Вепрь.
– Тогда такая мода была – вешать красные флаги, – счел нужным объяснить Богдан. Он неприязненно поглядел на Могилу, безостановочно строчившего пером по бумаге. Богдан был крестьянином, а у крестьян веками вырабатывалось недоверие к писарям, протоколам и прочим «бумагам», от которых, как подсказывал опыт поколений, крестьянину не следовало ожидать добра.
Окружной, загадочно улыбаясь, полистал крохотную записную книжку, прочел что–то, вздохнул.
– Твоего отца и старшего брата убили немцы?
– Так, – печально сказал Богдан и тоже вздохнул.
– У меня есть сведения, что немцы убили их как коммунистов.
Богдан широко раскрыл глаза от удивления.
– Друже Вепрь… – сказал он с укором, – кто вам мог дать такие сведения? Это неправда, чьи–то выдумки! Я вам расскажу как было. Есть свидетели, полсела видело, как немцы убили моего отца и брата. – Сотенный перевел дыхание и горячо продолжал: – Началось все из–за теткиной коровы. Наш староста Василь Михайлюк негодяй, каких мало. Немцы приехали скот забирать. У старосты две коровы, он своей ни одной не отдал, а немцев к тетке Явдохе привел. Она вдова, четверо детей и одно спасение – корова. Отец пожалел сестру, начал спорить с Михайлюком. Немец толкнул отца карабином, отец сгоряча схватил руками карабин, и тут–то его начали бить другие солдаты. Подоспел Семен, хотел защитить отца. Кто–то из немцев крикнул: «Большевик!» Ну и… Положили их обоих тут же на улице, у хаты тетки. А корову у тетки все равно забрали…
– Значит, немец крикнул: «Большевик»?
– Так. Что немец понимает? Ему слово скажи напротив или не подчинись, сразу – большевик.
– Пошли дальше… В вашем селе был колхоз. Отец вступил в него?
– Нет. Тетка Явдоха вступила. Потому что ей было трудно: землю дали, а обрабатывать нечем. А отец сказал: «Я еще погляжу на тот колхоз»…
– Ясно. Теперь скажи, на сколько дней ты оставил сотню?
– Считайте, почти трое суток меня не было.
– Где был?
– Пришлось поехать в свое село. Мою сестру младшую, Олю, хотели в Германию на работы погнать, я ее решил забрать к себе в сотню, сделать медсестрой.
– Тебе кто–нибудь разрешал отлучаться?
– Вот тут я виноват, друже Вепрь, – сокрушенно вздохнул Богдан. – Я не брал разрешения, потому что боялся, что мне не разрешат. Так ведь ничего не случилось, хоть меня и не было.
– Значит, ты покинул сотню тайно?
– Ну как, тайно? Все знали…
– Тайно от своего начальства, – настаивал Вепрь.
– Так, куренной не знал, – вынужден был согласиться сотенный.
– Тайно покинул сотню… – сказал Вепрь в сторону референта. – Добре. Кто тебе приказал идти к железной дороге и нападать на эшелон?
– Друже Вепрь! – Богдан взъярился, вскочил на ноги. – Ну, сами посудите. Вашу бы сестру убили немцы, вы бы им подарили? Скажите? Я себе места не находил…
– Ты отвечай на вопрос – был приказ?
– Не было! – гневно закричал Богдан. – Если меня ударят по морде, – я приказа ждать буду? Сколько они наших людей убивают, а мы… Шляк бы их трафил!
– Только без истерик! – окружной сдержанно улыбнулся и бросил в сторону Могилы: – Приказа выступать против немцев не было. Добре. Скажи, беседу референт у вас проводил?
– Так это же пропаганда… Можно говорить, что угодно.
– Ну, друже… – Покачал головой Вепрь. – Это наша пропаганда. Ты что – считаешь нашу пропаганду лживой?
– Я так не говорил. Только пропаганда – одно, а… – Богдан понял, что может наговорить лишнего, запутаться, и замолчал, насупившись. Он не умел точно выражать свои мысли, а Вепрь цеплялся к каждому его слову.
– Вы слышали, друже Могила, что он сказал?
Референт впервые поднял голову от бумаги, сказал, пряча от Богдана глаза:
– У него, как я узнал, есть свой пропагандист – старшина Красной Армии…
– Старшину мне разрешили взять, – возмутился сотенный. – Друже Вепрь, скажите. Ведь вы же знаете, вы сами…
– Знаю, знаю. Старшину не будем трогать. Это особый разговор. Запишите – не согласен с нашей пропагандой.
Богдан молчал, стиснув зубы, он следил, как перо Могилы быстро бегает по бумаге, оставляя за собой ровные строчки. Он так быстро и красиво писать не умел.
Вепрь зажал подбородок в кулак, задумался. Улыбка на его лице приняла оттенок снисходительности. Он раздумывал над тем, стоит ли задавать Богдану вопросы, из которых станет ясным, какое обвинение против него выдвигается. Если бы референт по пропаганде не присутствовал при допросе, Вепрь не стал бы этого делать. Он многому научился у гитлеровцев и предпочитал, чтобы его жертвы до последнего момента не знали, что их ждет, и вели себя прилично. Однако у Могилы не должно было создаваться впечатление, будто Вепрь боялся спросить Богдана о самом главном. Еще появятся у этого слюнтяя угрызения совести, и тогда хлопот не оберешься. И без этого возможны неприятности – все–таки сотенный… Нужно придать вопросу шутливую форму.
– Слушай, Богдан, – прищурил один глаз окружной, – а может быть, ты приказ все–таки получил? А?
– Какой приказ? – удивился сотенный.
– Приказ или указание… Может быть, ты ездил специально, встречался там с кем–нибудь? Это не надо писать, друже Могила.
Богдан недоумевающе смотрел на Вепря. Смысл вопроса окружного коменданта ускользал от него. Он просто не представлял себе, что против него могут выдвинуть такое чудовищное обвинение.
– Видишь, Богдан, твоя акция может принести пользу только нашим врагам. – Вепрь умышленно повторял слова Могилы. – Ты действовал, как большевистский агент. Может быть, ты в самом деле агент большевиков?
Если бы не сбивавшая с толку улыбочка Вепря, Богдан бросился бы на него с кулаками. Он стоял, подавшись вперед, бледный, глядя на Вепря с ненавистью.
– Отрицаешь? Не агент? Значит – дурак… Богдан провел пальцами по лицу, отдышался, пришел в себя.
– Как вы могли сказать такое, друже Вепрь? Я требую суда…
– Шуток не понимаешь.
– Я вам не мальчишка какой–нибудь, чтобы со мной такие шутки выбрасывали, – угрожающе произнес сотенный. – Требую суда.
– Если требуешь, – будет суд. – Вепрь взял у Могилы листки протокола, пробежал по ним глазами, убедился, что последняя страница исписана только на треть, и передал листки Богдану. – Сядь, успокойся, прочти внимательно и подпиши.
Угрюмый Богдан, шевеля губами, долго читал протокол, дошел до последней страницы, задумался и начал читать сначала.
– Ну, все правильно? – спросил Вепрь, увидев, что сотенный положил на стол листки.
– Нет, неправильно, – сердито ответил Богдан. – Почему тут не написано, что немцы убили мою сестру Олю?
– А при чем тут твоя сестра? – пожал плечами Вепрь.
– Как при чем? – возмутился сотенный. – Ведь с этого и началось. Друже Могила, вы видели. Скажите.
– Ну, ладно, пусть будет по–твоему, – хлопнул ладонью по столу окружной. – Раз ты требуешь… Допишите, друже Могила: сотенный Богдан мотивирует свой поступок тем, что немцы убили его сестру. Так, Богдан?
– Ну а как же! – сотенный облизал пересохшие губы. – Что, я не человек? Сердца у меня нет?
Могила дописал на полях фразу, продиктованную ему окружным.
– Теперь правильно? Ведь здесь все так, как ты говорил.
Богдан с тоской посмотрел на листки, завертел головой.
– Что такое? – насмешливо спросил Вепрь. – Снова не слава богу?
– Зачем записали, что отец пел эти песни и крест показывал? Ну, ладно, пусть уж будет. Не страшно… Только я ведь говорил вам, что он это делал, когда напивался.
– Допишите, Могила, – согласился Вепрь. – Допишите. – «В пьяном виде». Теперь все?
– Как будто…
Вепрь передал сотенному ручку.
– Ну, раз все, то распишись. На каждой странице. Вот тут внизу. Пиши: читал, согласен и ставь подпись.
Богдан подписал первую страницу, рука его дрожала, и подпись получилась корявой. Его охватила тоска. Он чувствовал, что в этих листках, исписанных красивым почерком Могилы, таится какая–то опасность для него. В то же время он не мог что–либо возразить – в протоколе были записаны его ответы… И он поставил свою подпись внизу на каждой странице, куда окружной тыкал пальцем.
– Прекрасно! – сказал Вепрь. – Значит, ты требуешь суда?
– Так! – упрямо кивнул головой Богдан. – Пусть хлопцы разберутся. Я за свое буду отвечать, вы ответите за то, как называть меня агентом.
– Я тебя назвал дурнем.
– Большевистским агентом сперва. Могила слышал.
Вепрь открыл дверь, позвал охранника.
– Выведите его на свежий воздух. Оружие пока не отдавать.
Это «пока» обмануло простодушного Богдана, он настороженно посмотрел в глаза Вепря, тряхнул головой и послушно вышел из горницы вслед за охранниками. Это были свои, украинцы. Свои хлопцы из эсбе…
– Видели, друже Могила, какой это мерзавец? – сказал Вепрь, поворачиваясь к референту. – Предатель, самый настоящий большевистский прихвостень. Отец его не скрывал своей любви к москалям, был активным членом КПЗУ, организовывал забастовки. Это же ясно как божий день! Сыновей воспитывал в том же духе.
– Красный флаг… – задумчиво подтвердил Могила. – Если бы он был сознательным украинцем, то заставил бы сына вывесить наш, желто–блакитный флаг.
– Вы поняли?.. – Вепрь обрадованно взглянул на него. – Не будем тратить время попусту. Напишите донесение на мое имя. Коротко изложите факты: так–то и так–то, этот мерзавец не захотел слушать ваши советы, категорически протестовал. А в заключение сообщите, что у вас возникло твердое убеждение – сотенный Богдан действует по заданию врагов ОУН и является большевистским агентом. Это сразу же снимет с вас всякую ответственность.
Могила задумался, осторожно взял листок чистой бумаги, начал писать. Через несколько минут донесение было готово.
– Дату, – напомнил Вепрь, заглядывая через плечо референта. – Поставьте вчерашнее число. Прекрасно! А теперь допишем протокол и заготовим приговор. Там у вас осталось свободное место… Напишите в таком духе – сотенный Богдан вынужден был признать, что он тайно покинул сотню, чтобы встретиться с командиром советского партизанского отряда, и получил от него задание провести акцию против немцев.
Это было явным подлогом. Могила, судорожно двигая подбородком, пугливо и жалобно взглянул на Вепря, но тут же отвернулся, втянул голову в плечи.
– Добавьте еще, – продолжал Вепрь с таким видом, будто он не замечает состояния референта, – что Богдан объяснил свое предательство желанием отомстить немцам за смерть его отца и брата, которые были убиты как коммунисты. Так ведь? Пишите, пишите, друже, – там как раз должно хватить места. Давайте поскорее покончим с этим… Ведь вам первому стало ясно, какой опасный предатель пробрался в наши ряды.
Могила взял было ручку, но почувствовал, что его ладони становятся липкими от выступающего пота. Он вытер их о колени и принялся дописывать протокол.
…Богдана отвели в лес. Сперва это обеспокоило его, однако по поведению хлопцев, которые его сопровождали, не было похоже, что они замышляют что–то плохое. Спрашивать их о чем–либо Богдан не хотел.
Остановились у небольшого овражка, по дну которого белел песок. Хлопцы уселись, опустив ноги в овражек, закурили. Богдан постоял, постоял возле них, а затем снял френч и, постелив на землю, улегся на спину.
Стволы высоких сосен убегали в небо, внизу темные, с потрескавшейся бугристой корой, а дальше красновато–желтые, точно облепленные сухой шелухой луковиц, увенчанные зеленой сквозной кроной. Хорошо было смотреть на эти верхушки, выискивая глазами на ветвях маленькие пупырчатые шишечки, отличавшиеся от зеленой хвои всего лишь более нежным оттенком. Кроны сосен слегка раскачивались, по лесу шел легкий шум, он как бы подчеркивал тишину и спокойствие, царившие здесь. Но постепенно шум леса, такой ласковый и, казалось бы, успокаивающий, начал раздражать Богдана. Он понял вдруг, что раздражает его не шум, а что–то иное, какое–то несоответствие между безмятежностью в природе и тем, что происходит в его душе. Богдан перевернулся со спины на живот, уткнулся лицом в подкладку френча. Какого черта Вепрь докапывался до всяких мелочей, не имеющих никакого отношения к гибели Оли и его, Богдана, решению ударить по немцам? Ну, виноват, выступил без приказа, а при чем тут красный флаг, который бог знает когда их Семен повесил на тополь, или песни, что когда–то пел отец? Другое дело те мысли и сомнения, которые появлялись у него, Богдана, в последнее время все чаще и чаще, хотя он гнал их от себя. Но он этими мыслями ни с кем не делился. Мало ли о чем он раздумывал! Человек на то и создан, чтобы думать.
Хлопцы вели разговор о своих любках. Хвастались друг перед другом победами, употребляли такие скотские выражения, что Богдану хотелось выругать их. Жеребцы. Он вспомнил Карася и подумал, что за последнее время, пожалуй, никто не вызывал у него такого интереса к себе и скрытой зависти, как этот советский юноша. Да, он во многом завидовал Карасю, хотя тот был моложе его лет на восемь, выглядел смешно и жалко. Ну и голова у хлопца, ну и язык у него! А все потому, что много учился, грамотный. Нужно было сразу же отпустить Карася. Одеть, накормить и отпустить. Пусть бы пробирался к себе на Полтавщину. И старшину нужно было выгнать.
– Хлопцы, долго вы меня держать тут будете? – поднял голову Богдан.
– А что тебе? Отдыхай… – отозвался один, поворачивая к нему сытое, жестокое лицо.
– Шляк бы его трафил, вашего Вепря, – Богдан посмотрел на часы. Было начало одиннадцатого.
– Какая марка? – спросил бандеровец, заинтересовавшийся часами сотенного.
– Омега.
– Давай меняться? – бандеровец взглянул на товарища и засмеялся.
– Меняло без штанов ходит, – недовольно пробормотал сотенный, опуская голову.
Так лицом к земле пролежал он еще минут десять. Наконец послышались шаги, и, вскочив на ноги, Богдан увидел Вепря, Могилу и еще двух бандеровцев, тех, которые привели его в хутор. Один из них вел на поводке овчарку. Могила шел, глядя вниз, словно боялся зацепиться ногой за корни, а Вепрь держал голову ровно, горделиво, на его лице блуждала страдальческая улыбка, точно у него болели зубы, и он не хотел, чтобы кто–нибудь догадался о его мучениях.
– Внимание, – сказал Вепрь. – Друже Могила, читайте…
Два бандеровца приблизились к Богдану, стали по обе стороны его. Референт пропаганды выступил вперед, расправил листки. Богдан смотрел на Вепря, но тот упорно избегал его взгляда.
– Приговор, – Могила откашлялся, поставил на место непослушную челюсть. – Приговор по делу Хлебчука Миколы, псевдо Богдан, родился в 1917 году, в России…
В начале приговора все излагалось так, как говорил на допросе Богдан, и он, не замечая этого, подтверждающе кивал головой, но то, что последовало дальше, испугало его. Выходило так, что его отец пел русские революционные песни, потому что давно, еще в России, набрался большевисткого духу и заразил этим духом всю семью. Отец – член КПЗУ. Семен – комсомолец.
– Это неправда! – закричал Богдан. – Этого я не говорил! Друже Вепрь!..
Овчарка зарычала, рванула поводок.
– Только без истерик! – болезненно поморщился Вепрь. – Выслушай до конца. Продолжайте, Могила.
– Микола Хлебчук пробрался в ряды ОУН, – заикаясь читал приговор референт пропаганды, – с единственной целью – вести разлагающую работу, помогать врагам Украины, агентом которых, как было установлено на допросе, он являлся.
Богдан понял, что затевают Вепрь и Могила. Он не з^нал, что именно побудило их пойти на такой гнусный обман, но он знал главное – они хотят уничтожить его без настоящего следствия и суда. Земля качнулась под ногами Богдана, и он расставил ноги шире, чтобы не упасть.
– Что вы делаете, падлюки! – Богдан сжал кулаки. – Я требую суда! Хлопцы, это обман, я ни в чем не виноват. Богом присягаю, святую землю есть буду… – Он хотел нагнуться, чтобы схватить горсть земли, но бандеровцы удержали его, заломили руки назад.
– Именем организации украинских националистов, именем украинского народа предатель Микола Хлебчук…
– Я не предатель, хлопцы! – заорал Богдан и вдруг заметил, что кобура, висевшая спереди на поясе Вепря, растегнута и улыбающийся окружной держит правую руку за спиной.
– …приговаривается к смерти!
Эти слова донеслись к Богдану точно грохот взрыва, и дрогнула земля под ногами, и встрепенулись вечнозеленые кроны сосен. Казалось, все потемнело вокруг. Богдан почувствовал, что задыхается. Он жадно хватал губами воздух, а грудь распирала пустота и нестерпимая боль. Перед глазами замелькали лица дорогих ему людей – матери, отца, брата и сестер. Вот тела отца и брата, окровавленные, втоптанные в грязь возле хаты тетки Явдохи… Вот его сестричка Оля лежит в гробу, усыпанная цветами… И поднимается столб дыма, и летят под откос платформы с немецкими танками… Что–то кричит ему Карась – отчаянно и беззвучно, как будто зовет куда–то, торопит… Поздно! Все, все… Его, Миколы Хлебчука, уже нет, его сейчас убьют. За что? Разве он не любит Украину, свой народ? Разве он изменил Украине? Он мстил за гибель отца, брата, сестры, за то горе, которое принесли немцы украинскому народу. Он должен был мстить фашистам! О боже! Он жестоко ошибся, не захотел послушать разумного хлопца. Нужно было еще раз ударить всей сотней по герману и уйти с Карасем к советским партизанам. Они–то знают, кто настоящий враг Украины! Дурак… Теперь поздно… Смерть – вот она, в глазах Вепря – бессмысленная, позорная и неумолимая. Богдан увидел, как в руке окружного коменданта блеснул немецкий парабеллум. Вот и его, Богдана, нашла немецкая пуля…
– Будьте вы прокляты! – Богдан рванулся, хотел плюнуть в глаза шагнувшему к нему Вепрю, но не успел.
Вепрь вскинул руку и дважды выстрелил в искаженное яростью и гневом лицо сотенного.
– Одним врагом Украины меньше, – болезненно улыбнулся Вепрь, пряча пистолет в кобуру. – Друже Могила, запишите в протокол, что в последнюю минуту, услышав слова «организации украинских националистов», он крикнул: «Будьте вы прокляты!» Это еще одно доказательство…
И, собираясь уходить с места расправы, Вепрь бросил через плечо своим молодцам:
– Заройте собаку, чтоб не смердел на весь лес. Сапоги и что там у него… можете снять.
21. Что вы скажете, господин советник?
Герц холодно и, казалось бы, равнодушно смотрел на входившего в кабинет Хауссера. Сухо обменялись нацистскими приветствиями. Начальник гестапо сдержанно вежливым жестом пригласил Хауссера присесть.
– Ну, теперь что вы скажете, господин советник? – Герц поджал губы, напустил на себя скорбный, траурный вид, точно стоял в почетном карауле у гроба покойного.
Хауссер тяжело, без притворства вздохнул.
– Большое несчастье, господин штурмбаннфюрер. Мы потеряли товарища, очень ценного работника.
– По чьей вине?
Такого вопроса Хауссер не ожидал. Он даже смутился в первое мгновение и лишь затем сообразил, что Герц, очевидно, придумал какой–то новый ход. Не выйдет, господин штурмбаннфюрер…
– Я полагаю, что по этому поводу двух мнений не может быть, – по вине тех, кто должен обеспечивать безопасность немцев в этом городе.
– А может быть, все–таки по вине тех, кто своим потворством и заступничеством внушил этим негодяям мысль, что любое их преступление останется безнаказанным. Доигрались! Политики, философы…
На языке нацистов слово «философ» было равнозначно, пожалуй, самому оскорбительному ругательству. Хауссер застыл, он был не из тех, кто прощает оскорбления.
– Если можно, господин штурмбаннфюрер, я бы попросил вас выразить свою мысль менее туманно. Кого вы имеете в виду? Оуновцев?
– Именно их! Советника юстиции застрелил бандеровец.
«Все–таки штурмбаннфюрер непроходимо глуп, – решил Хауссер. – Неужели он надеется, что кто–либо поверит его нелепой выдумке и она сможет служить оправданием ему?»
– Какие у вас есть основания делать такой… – советник хотел сказать «глупый вывод», но воздержался, – утверждать это?
Герц вынул из лежавшего на столе большого конверта потертую записную книжку в голубоватой обложке.
– Вот полюбуйтесь! Это нашли на лестнице. Мерзавец обронил ее. Здесь имеются адреса хорошо известных нам украинских националистов. Трое из них живут здесь, четвертый в Здолбунове. По почерку, которым сделаны записи, установлено, что книжечка принадлежит крупному оуновцу по кличке «Ясный». В действительности он Петр Карабаш. Вот здесь на первой странице он изобразил свои инициалы – «П.К.» Вам известна такая, с позволения сказать, личность?
Хауссер с трудом расстегнул неподатливый, выскальзывающий из–под пальцев крючок воротника мундира, сильно оттопырил губы и начал листать книжечку, рассматривая записи. Ясного он знал по рассказам Вепря Это был один из тех фанатичных оуновских вожаков, которых даже их товарищи называли «бешеными» и какие в отличие от многих других никогда не были связаны с немецкой разведкой. Более того, Ясный был виновен в разоблачении одного ценного немецкого агента и добился, чтобы его расстреляли как предателя. Хауссеру не было жаль Ясного, и если бы речь шла только о нем, то он, пожалуй, не стал бы предпринимать каких–либо попыток доказать штурмбаннфюреру его ошибку. Он даже счел бы, что настал удобный случай разделаться с «бешеным», враждебно относившимся к немцам. Однако Ясный наверняка находится на нелегальном положении, его не найдут, разъяренный, скорый на руку штурмбаннфюрер начнет хватать оуновцев подряд, и положение сразу осложнится. Оуновцы могут ответить на казнь своих товарищей враждебными акциями, начнется неразбериха, кавардак. Но какой остолоп этот Герц! Неужели он не в состоянии разобраться, чья рука совершила преступление?
Советник подал книжечку штурмбаннфюреру.
– Это провокация и довольно грубая. Книжечку не обронили, а подбросили. Советника юстиции убили партизаны.
– Советские?
– Несомненно. Впрочем, возможно, кто–либо из поляков–террористов. Не исключено.
– Это очень удобная для вас тактика, господин советник. Националисты будут похищать немцев, стрелять в них, отбивать продовольственные обозы, взрывать воинские эшелоны, а вы будете сваливать их преступления на головы большевиков и поляков. Весьма оригинально! Не хватало, чтобы вы заявили, будто бы советника юстиции застрелил еврей.
Хауссер пропустил шпильку мимо ушей. Герцу не удастся разозлить его, вывести из равновесия. Нет, такого удовольствия он не собирается доставлять начальнику гестапо.
– Скажите, господин штурмбаннфюрер, какая причина побудила Ясного или кого–либо из его товарищей совершить этот террористический акт?
– Это психологические нюансы, – отмахнулся Герц. – Меня это не интересует.
– Вот как? – притворно удивился Хауссер. – Среди ваших подчиненных, несомненно, есть люди с юридическим образованием. Спросите их, сколь важно определить возможные причины преступления для того, чтобы установить, кто его мог совершить? – Это было сказано неплохо. Герц в свое время с трудом окончил гимназию и очень болезненно переживал всякие упоминания о высшем образовании.
– Причин сколько угодно, – набросился штурмбаннфюрер на советника. – Покойник вынес сотни смертных приговоров. Среди осужденных на смерть могли быть националисты или их родственники. Акт мести. Вас это устраивает в смысле психологии?
– Какие есть еще улики против Ясного, кроме этой книжки? – спросил Хауссер. – Вы можете утверждать, что во время убийства он находился в городе?
– Да! Он, правда, не был у меня на приеме, но оставил свою визитную карточку… – Герц потряс записной книжкой и спрятал ее в конверт.
Хауссер разгадал, какой ход собирается сделать Герц. Шеф гестапо отстаивал свою версию убийства советника юстиции не потому, что считал ее наиболее вероятной, просто она была наиболее приемлемой для него. Если бы было сочтено, что террористический акт совершили советские партизаны, вся ответственность за столь неприятное происшествие легла бы на него, но стоило на место убийцы поставить националиста, и картина менялась – он говорил, сообщал, предупреждал, но послушали не его, а другого… В хитрости штурмбаннфюреру нельзя было отказать.
«Ну, хорошо, Герц… С этим дураком я справлюсь, – думал Хауссер. – Но какова подоплека таинственной истории с подброшенной книжкой? Случайность это или часть какого–то хорошо продуманного плана, направленного на то, чтобы сорвать или хотя бы затруднить сотрудничество оуновцев с немцами? Если так, то каким образом те, кто руководит советским партизанским движением, узнали о моих планах? Впрочем, не обязательно им знать что–либо обо мне. Нельзя недооценивать противника. Это было бы не только глупо, но и опасно. У них мог найтись свой Хауссер… Он сделал анализ обстановки, пришел к правильному выводу, наметил ряд эффективных контрмер. Теперь это будет похоже на игру в шахматы по почте, когда игроки не знают друг друга, с той только разницей, что передвигать фигуры можно, не ожидая ответного хода. Один ход противник уже сделал, следует ожидать второго, третьего. Партизаны возьмут да и отобьют под видом оуновцев несколько продовольственных обозов. Может быть, они уже делали это не однажды. Во всяком случае, Вепрь несколько раз отрицал причастность оуновцев к таким нападениям. Начнутся недоразумения, вместо того чтобы помогать немцам, бандеровцы начнут вредить. Ведь нельзя всех их вожаков, больших и малых, посвящать в тайную политику – многие эту политику не поймут и даже могут отвергнуть. Массы следует не убеждать, а обманывать. Это легче. Впрочем, может быть, я преувеличиваю опасность и никакого «советского» Хауссера нет».
Молчание советника затянулось, и Герц не без злорадства поглядывал на него. Но оказалось, что Головастик и не думает сдаваться, отступать.
– Господин штурмбаннфюрер, вы могли бы познакомить меня со сводкой о количестве потерь оуновцев, когда их отряды совместно с нашими солдатами участвовали в карательных акциях против советских партизан?
– Мы не ведем такого учета, мы не успеваем подсчитывать свои потери… Зачем вам это понадобилось?
– Чтобы узнать, сколько жизней наших солдат было спасено в таких операциях, – ответил Хауссер многозначительно. – Очевидно, дело идет не об одной сотне, а может быть, и тысяче…
У Герца было такое ощущение, будто его мягким, но сильным толчком сбивают с ног. В словах советника была логика, и штурмбаннфюрер не мог не признать ее. Однако он уже запасся иным козырем. Логика становится бессильной, когда мыслят алогично.
– Я думаю, гаулейтер не примет в расчет ваши тонкие соображения, – сказал Герц с сердитой усмешкой.
– Как я понимаю, вы должны были в первую очередь сообщить о случившемся не Коху, а своему прямому начальству? – Хауссер был не на шутку обеспокоен.
– Гаулейтеру сообщили без меня. Представляю, в какое бешенство приведет его это сообщение. О том, что убийство совершил украинский националист, знают все немцы в городе и все негодуют. Если я сейчас же не повешу нескольких бандеровцев, меня съедят живьем. Свои! Никто не простит мне мягкотелости.
Хауссер хорошо знал свирепый нрав рейхсминистра, гаулейтера Восточной Пруссии и всея Украины Эриха Коха. Кох был вторым, ухудшенным изданием Геринга – та же прославленная немецкая тупость, та же чудовищная самонадеянность. Вмешательство гаулейтера было бы подобно появлению слона в посудной лавке. Нужно было действовать, пока не поздно.