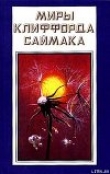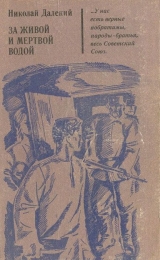
Текст книги "За живой и мертвой водой"
Автор книги: Николай Далекий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Колесник не знал о существовании польской Армии Крайовой и Армии Людовой, но с Казимиром все было ясно – кичливый, глупый молодчик, видимо, еще ни разу не побывавший в серьезном переплете. Все же Колесник счел возможным попытаться получить какую–нибудь информацию от поляков:
– Можно вас спросить, пан Казимир?
– Что такое?
– Где мы находимся?
– На границе Львовского и Волынского воеводств. Здесь начало Братынского леса.
– Фронт далеко?
– Где–то возле Киева…
– Павлуш, спроси, – встрепенулся Ахмет, – Киев забрали наши?
Подляский, точно выбивая пробку из бутылки, ударил ладонью одной руки о кулак другой, сказал:
– Киев – герман фьють!
Даже Пантелеймон просиял лицом при таком известии:
– Слава богу, слава богу!
– Скажите, пан Казимир, – Колесник умышленно обращался к молодому, чтобы польстить его самолюбию, – вы не слышали, советских партизан тут близко нет?
– Советская партизанка на полночь – Ковель – Луцк, – торопливо сказал Подляский. – Белоруссия. Дужо!
– Тут бандеровцы, – мрачно пояснил Казимир. – В этом лесу их полно. Это большой лес.
– Кто они такие?
– Не знаешь? – удивился Казимир и засмеялся злорадно. – О, это же ваши родные братья – украинцы, которых вы освободили в тридцать девятом. Вы целовались с ними, а теперь они помогают немцам уничтожать советских партизан.
– Украинский националист, фашист, – Подляский переплел пальцы рук и крепко стиснул их. – Бандеровец – герман так. Пану надо бояться бандеровцев. Пану на сход–полночь надо идти, за Луцк.
Колесник задумался на секунду, оглянулся на товарищей, вздохнул.
– Спасибо, пан Казимир, спасибо, пан Подляский. Желаю, чтобы ваша родина поскорее освободилась от фашистов. Можно идти нам?
Насупившийся Казимир молча кивнул головой.
«Этот может дать очередь в спину…» – подумал Колесник. Он шел среди деревьев, пропустив товарищей вперед, знал, что поляки смотрят им вслед, и все ждал выстрела.
И только когда удалились метров на двести, вздохнул с облегчением.
– Слава богу, – сказал Пантелеймон. – Они люди ничего, поляки–то. А сразу было… Слава богу, услышал мою молитву.
– Павлуш, скажи ему… – возмущенный Ахмет оглянулся на Колесника – Не могу я слышать этот дурной башка. На нервы действует своим аллахом.
– Так я и за тебя молился, хоть ты и татарин, – душевно сказал Пантелеймон. – Они ведь нас пострелять хотели. А господь отвел руку…
Ахмет от негодования затряс головой, несколько раз выругался по–своему. Колесник и не пытался возражать Пантелеймону: уже убедился, что это бессмысленное занятие. Но его нервы были все еще напряжены и болтовня этого блаженного раздражала, мешала думать. А после встречи с поляками ему было о чем поразмыслить.
– Пантелеймон, – строго сказал Колесник, – чтобы я больше не слышал о боге.
– Ребята, милые, – заныл Пантелеймон, – чем моя молитва вам помешала?
– Никто тебе молиться не запрещает, но только делай это про себя или отойди в сторонку. Последний раз предупреждаю. Будешь надоедать со своим богом – оставим тебя, пойдешь сам.
– Тогда узнаешь, как тебя твой аллах будет спасать, – добавил Ахмет. – Пока что нам с лейтенантом спасибо говори.
…Через полчаса они вышли к уже заросшим вырубкам и затаились до вечера в непролазных зарослях молоденьких берез, осин, переплетенных гибкими стеблями малины и ежевики.
18. Последний разговор
– Господин штурмбаннфюрер, разрешите сообщить последнюю новость: наш Головастик обзавелся секретаршей… Такая серьезная девица и, должен сказать, вполне привлекательной внешности.
Помощник начальника гестапо едва сдерживал улыбку, так как был уверен, что новость покажется шефу пикантной и позабавит его. Он не ошибся. Герц сложил губы трубочкой, тихо свистнул.
– Вот этого я не ожидал… Хороша собой, говоришь?
– Вполне. Но держится строго, на финтифлюшку не похожа. Военная выправка, чувствуется школа гитлерюгенда.
– Весьма занятно, весьма… – глаза штурмбаннфюрера стали веселыми, маслянистыми. – Постарайтесь узнать о их взаимоотношениях. Все с подробностями…
Когда помощник закрыл за собой дверь, Герц вынул из ящика стола овальное зеркальце и с удовольствием осмотрел свежевыбритую физиономию. Для своих сорока лет он выглядел прямо–таки отлично. Мужчина в соку. Но каков Головастик! Мужское самолюбие Герца было слегка раззадорено. Сам–то он не собирался стать соперником Хауссера, но решил, что было бы неплохо, если бы кто–либо из его подчиненных отбил девчонку у советника или хотя бы наставил ему рога.
В кабинет снова зашел помощник. От прежнего игривого выражения на его лице не осталось и следа.
– Только что получена депеша…,
Герц прочел сообщение. Всего три часа назад невдалеке от Братына был подорван воинский эшелон. Из числа сопровождающих только трое остались в живых. Половина танков сожжена, остальные потребуют капитального ремонта. Предполагается, что в нападении участвовал отряд численностью более ста человек. Возле железной дороги обнаружено большое количество стреляных гильз, преимущественно немецкого производства. Нападавшие, видимо, потерь не понесли.
Это сообщение ошеломило начальника гестапо. Его опасения подтвердились.
– Сейчас же найдите советника Хауссера, – тихо, не отрывая глаз от депеши, приказал Герц. – Пусть он немедленно явится ко мне.
Помощник щелкнул каблуками.
– Один момент! – остановил его шеф. – Пусть Карл принесет мне картотеку оуновцев.
Часа через полтора явился Хауссер. Он застал начальника гестапо за работой. Штурмбаннфюрер со скорбным видом перебирал карточки, стоявшие в узком лакированном ящике, и откладывал некоторые из них. Он молча кивнул головой советнику, подал ему депешу.
Как только Хауссер прочел о большом количестве стреляных гильз немецкого производства, он сразу понял, что на этот раз на железной дороге действовала какая–то бандеровская сотня. Предстоял трудный разговор со штурмбаннфюрером.
– Что вы скажете, господин советник? – могильным голосом спросил Герц, продолжая рассматривать карточки.
– Мне кажется, необходимо получить более подробное донесение о случившемся.
– Что вам неясно?
– Все очень странно, загадочно…
– Вы считаете, что и этот эшелон могли уничтожить советские партизаны? Возле Братына? Там, где никогда не случалось ничего подобного?
– Насколько мне известно, в Братынском лесу советские партизаны появлялись.
– Когда это было! Год назад. Партизаны были окружены и разбиты наголову. Больше они не совали свой нос в этот лес.
– От них всего можно ожидать…
– Только не этого. Партизаны действуют на железной дороге маленькими группами. В нападении на эшелон у Братына участвовало более сотни человек. Отряд! И затем вы обратили внимание, что, судя по гильзам, отряд был почти полностью вооружен немецкими винтовками?
– Кто же уничтожил эшелон? – довольно невинно спросил Хауссер.
– Те, кому по вашей рекомендации мы даем свое оружие и боеприпасы.
Советника Хауссера не так–то легко было припереть к стене.
– Я попрошу господина штурмбаннфюрера напомнить мне хотя бы один случай вооруженного нападения оуновцев на наши воинские эшелоны.
– Достаточно этого случая. Вполне! Мы лишились одиннадцати танков вместе с их экипажами. И мне известно, что буквально несколько дней назад оуновцы отправили в район Братына большую партию немецких винтовок и боеприпасов.
Хауссер еще раз прочел депешу, пожевал губами, сказал снисходительным тоном:
– Что ж! Могу допустить, что произошло какое–то прискорбное недоразумение…
– Недоразумение! – взорвался Герц. – Вы называете это недоразумением? Так вот, ставлю вас в известность: я арестую нескольких видных оуновцев и повешу их на площади, дабы такие прискорбные недоразумения не повторялись. Кроме того, я разгромлю ту банду, которая принимала участие в нападении на эшелон, истреблю их всех до одного!
– И освободите Братынский лес для советских партизан… – невозмутимо добавил Хауссер. – Кстати, именно бандеровцы помогли вам выкурить большевиков оттуда год назад. Без их помощи вы бы ничего не сделали.
– Из этого не следует, что мы должны прощать им любую неслыханную подлость.
Судя по всему, начальник гестапо был тверд в своем намерении обрушить суровую кару на головы оуновцев. Советник пожал плечами и поднялся.
– Вы несете полную ответственность за свои действия и можете поступать, как вам заблагорассудится. Единственное, на чем я настаиваю, – сообщите о предполагаемой акции вашему начальству.
– Спасибо за совет. Это я уже сделал.
– Тогда все в порядке, господин штурмбаннфюрер, – примирительно усмехнулся Хауссер. – Полагаю, что с этим делом особенно спешить не надо. Я убежден, что случившееся не является результатом изменившейся политики оуновских руководителей. Это произвол какого–то неосведомленного или недисциплинированного командира. В самом скором времени вы получите неоспоримые доказательства, что сами оуновцы сурово наказали всех, кто оказался повинен в этом трагическом происшествии.
Так как Герц сердито молчал, советник счел нужным добавить шутливым тоном:
– Надеюсь, такой вариант вас может устроить? Хотя бы потому, что вам не придется нести расходы на сооружение виселиц и вообще избавит вас от этих хлопот.
– Финансовые соображения меня не остановят! – фыркнул шеф гестапо. – Мы не жалеем денег на виселицы.
– И тем не менее такая национальная черта, как бережливость, никогда не мешала нам, немцам.
Герц понял, что Головастик откровенно подтрунивает над ним, и почувствовал себя оскорбленным. Нет, на этот раз советник не отделается своими шуточками. Начальство не посмотрит сквозь пальцы на проделки оуновцев, ему, Герцу, разрешат поступить с этими бандитами твердо, по–немецки. Только так можно прибрать их к рукам, миндальничание, дипломатия ничего не дадут. Да и Головастика одернут как следует. Все–таки эшелон с танками… Нашел повод для шуток!
Начальник гестапо холодно попрощался с советником. Он даже не догадывался, в какую ярость привело внешне спокойного Хауссера содержание депеши. Неожиданная акция оуновцев на железной дороге путала все карты эксперта по восточным вопросам, и в душе он полностью разделял гнев гестаповца. Однако Хауссер считал самообладание самым высшим качеством характера и даже в разговоре с перепуганным паном Тимощуком не дал воли своим чувствам.
Разговор этот состоялся в комнате Хауссера через полчаса после того, как советник покинул кабинет начальника гестапо.
– Пан Тимощук, – Хауссер говорил тихо и спокойно, точно читал заранее заготовленный текст заявления, – сегодня утром какая–то бандеровская сотня уничтожила наш воинский эшелон, шедший на Восточный фронт. Это неслыханное по своему коварству чудовищное злодеяние. То оружие, что мы даем вам для борьбы с большевиками, советскими партизанами, было обращено против нас. Моему возмущению нет предела… Немедленно свяжитесь с Вепрем. Я требую, чтобы он покарал смертной казнью виновников и принял решительные меры, дабы такие случаи не могли повториться. Если еще раз произойдет что–либо подобное, мы не будем считаться с прежними заслугами Вепря, хотя очень ценим его. Вепрь будет разоблачен и уничтожен вашими же товарищами как немецкий агент. Пусть не сомневается, что мы пойдем на такой шаг. Обойдемся без него. Агентов среди оуновцев у нас достаточно…
Во время этой тирады Хауссер ни разу не повысил голоса, но у стоявшего навытяжку Тимощука ладони становились влажными, холодными. Он прекрасно понимал, что угроза в адрес Вепря в равной степени относится и к нему.
*
Сотня вернулась в хутор. Выставили усиленные посты и завалились спать.
На следующий день утром Тарас увидел Богдана. Сотенный был небрит, глаза и щеки запали. Несмотря на полный успех операции, Богдан казался невеселым, задумчивым, ни во что не вмешивался. Вряд ли его мучило раскаяние, но наверняка он догадывался, что его самовольство так просто не пройдет и серьезной взбучки от начальства не избежать. И, конечно, для него все еще оставалось неясным, кого следует считать главным врагом Украины, хотя референт пропаганды в своей «задушевной» беседе, казалось бы, дал недвусмысленный ответ на этот вопрос… Богдан ходил по хутору, заложив руки за спину, хмуро поглядывая по сторонам, гонял желваки на скулах.
Сидоренко, наоборот, оживился, проявлял кипучую деятельность. Утром было осмотрено, вычищено и смазано все оружие, взяты на учет оставшиеся у вояк патроны. Сейчас же после завтрака начали оборудовать стрельбище. Мертвый час после обеда был отменен – занялись огневой подготовкой. Все шло быстро, организованно, без крика и обычной для «военспеца» ругани. Он поспевал всюду, отдавал толковые приказы, инструктировал четовых и роевых.
Почему так спешил старшина, к чему он готовился? Может быть, он опасался нападения гитлеровского карательного отряда, может быть, надеялся, что Богдан не остановится на разгроме эшелона и нанесет хотя бы еще один удар по оккупантам. В любом случае Сидоренко нужны были обученные бойцы. Бить гитлеровцев старшина был охоч. Тарас уже убедился в этом. Видать, имелись у Сидоренко какие–то сложные расчеты со своей совестью и он хотел хоть немного оправдаться перед самим собой.
Референта пропаганды не было видно. Следовало предположить, что огорченный Могила отбыл из хутора восвояси.
Вояки приободрились, держались лихо, воинственно. Многие щеголяли в новеньких немецких мундирах, сапогах, ремнях с портупеями. Корень отважился напялить на себя кожаную куртку с погонами лейтенанта. Куртка была велика на него, рукава пришлось подвернуть, но вид у Корня, несмотря на рваную смушковую шапку, был прямо–таки генеральский. Вечером только и разговору: кто, как и сколько убил германов. Показывали друг другу трофеи. Чего только ни увидел Тарас – кинжалы, пистолеты, бритвенные приборы, часы, зажигалки, портсигары, деньги, открытки. Можно было только подивиться, когда они успели все это нахватать. Впрочем, хвастовство трофеями прекратилось после того, как Довбня, якобы по приказу сотенного, сделал ревизию, отобрал деньги, пистолеты, часы, прихватив при этом понравившуюся ему кожаную куртку Корня, и мелочь – флакон французского одеколона, пачку носовых платков и открытки с голыми красотками.
Корень получил взамен новенький офицерский мундир, но не утешился этим, проклиная себя за то, что не сумел спрятать добычу и передать ее тайком своей жене.
– Учат, учат глупого человека, – плакался он Тарасу, – а дураку наука не впрок. Лошадей упустил, и куртка пропала…
Поздно вечером, когда уже готовились ко сну, Тараса вызвали к сотенному. Богдан был один, на столе коптил каганец, стояла начатая бутылка самогона.
– Садись, друже, – печально сказал сотенный. – Выпей со мной. Помянем Олю, сестричку…
Пришлось выпить. Богдан нарезал Тарасу хлеба и сала, сам закусывать не стал, только понюхал корочку.
– Не берет меня водка – и все! Спать не могу, болит вот тут, в груди.
– Я понимаю, Богдан…
– Нет, ты не знаешь. Ты не знаешь… Ведь как все получилось, как все сошлось! В то утро я думал Олю сюда забрать. Была бы жива. А тут – оружие, шляк бы его трафил. Нужно было Довбню послать, так нет, Поехал сам, обрадовался…
– Богдан, что казнить себя? Уже не вернешь…
– То правда – не вернешь! – Богдан покачал головой, плеснул в свою чашку самогонки. – Троих уже нет… И все от немецкой пули. Будто проклятие какое над нашей фамилией, родом. Скажи, может быть такое? Проклятие?
– Нет, конечно, – хмуро сказал Тарас. – Бабские сказки.
Сотенный влил в рот самогона.
– Э, друже, не говори. Бывает…
– Ерунда! – Тарасу стало тоскливо. Он сочувствовал горю Богдана, хотел его как–то утешить и в то же время начал досадовать на то, что сотенный ищет причины несчастий, свалившихся на его семью, совсем не там, где следовало бы.
– Двух братьев отца еще на той, царской, войне убило, – задумчиво глядя на пустую кружку, сказал Богдан. – Тоже немцы. Я знаю, меня тоже убьют.
– Ну, Богдан, зачем такое говорить? Никто ничего не знает.
– Убьют… Ты веришь в сны?
– Нет. Ни в сны, ни в гадания, ни в предсказания.
– А в то, что в библии написано?
Тарас почувствовал в голосе Богдана улыбку и промолчал.
– Ты – совет, в бога тоже не веришь. Не веришь ведь? Так? Скажи, не бойся.
– Что ты душу из меня тянешь? – шутливо взмолился хлопец.
– О–о! – обрадовался сотенный. – Я твою душу узнать хочу. В бога ты не веришь, во что ты веришь? – Он потянулся к бутылке рукой, но Тарас остановил его. – Хорошо, не буду пить. Но ты мне скажи, раскрой душу.
– Я верю в людей.
– Люди… – Богдан склонил голову набок, скептически поджал губы. – Хороша А кто воюет, убивает друг друга? Немцы ведь тоже люди и культурные, а шляк бы их трафил. Скажи?
– Немцы не все одинаковы.
– Байка! Ты видел хоть одного хорошего немца?
– Видел!
– Брешешь?.. – опешил Богдан. – Такого немца, чтобы был против своего Гитлера?
– Да. Такого, который с оружием в руках сражался против Гитлера.
Богдан долго смотрел на Тараса. Спросил тихо, настороженно:
– Где ты видел такого немца?
Тут в дверь постучали. Вошел Довбня. Четовой, увидев бутылку на столе, понимающе ухмыльнулся, но Богдан приглашать к чарке не стал, только строго, вопросительно взглянул на него. Довбня отрапортовал, что приказ выполнен, часовые выставлены и один рой в полной боевой готовности будет дежурить всю ночь. Сотенный кивком головы отпустил своего помощника. В эту минуту он казался совершенно трезвым.
– Так, – произнес Богдан, когда дверь за Довбней закрылась, – где ты видел такого немца?
– А не все равно? Видел…
– Нет, друже, ты расскажи, – уперся сотенный. Тарас изложил безобидную версию своей встречи с
Куртом Мюллером. Его рассказ был прост и правдоподобен: ходил он по селам, менял барахло на хлеб и вдруг в одном селе на гитлеровцев напали партизаны. Среди партизан оказались два немца. Они были в немецком обмундировании, с оружием, плохо говорили по–русски. Партизаны объяснили жителям села, что эти немецкие солдаты добровольно перешли на их сторону, чтобы сражаться с фашистами.
– То были немецкие коммунисты?
– Не скажу, Богдан. Чего не знаю, того не знаю… Только своими ушами слышал, как один сказал: «Гитлеру капут!»
Богдан походил, походил по комнате и остановился, глядя на Тараса.
– Не пойму я тебя, Карась…
– Почему?
– Холера, а не хлопец, – скривил лицо сотенный. – Много ты всего знаешь и чего–то не договариваешь, что–то прячешь от меня.
– Спрашивай, я скажу.
– Хорошо, спрошу. Ты помнишь, у меня ленту в пулемете заело, а ты раз–два и направил?
– Было, Богдан. Что тут плохого?
– Ничего. Только откуда ты так хорошо устройство немецкого пулемета знаешь?
– А у меня с детства интерес ко всяким железякам, – сказал Тарас и почувствовал, что краснеет – поймал–таки его Богдан. – Ну, и голова на плечах, соображаю…
– У меня тоже голова.
– Вы горячились, спешили, а я… Как говорится, со стороны виднее.
Богдан упрямо сжал губы, налил в кружку самогона.
– Выпей, друже Тарас. Только все до дна. У меня к тебе еще один вопрос есть. Серьезный.
– Может, перенесем? Не пьяным говорить о серьезном.
– Я не пьян, меня водка не берет. Выпей, выпей.
– Не буду, не могу. Я не старшина, у меня, что на уме, то и на языке.
– Тогда скажи, – уставился на него сотенный. – Ты часом не того… Ты у советов–партизан не служил? Признавайся?
– У советов? – изумился Тарас. – Н–не. Такого не помню… Я в эсэсовской дивизии служил, в личной охране Гитлера. Пулемет–то немецкий!
– Начинаешь свои фокусы? – побледнел Богдан. – Говори правду!
Тараса начала разбирать злость. Не хватало, чтобы этот пьяный дурак взялся за пистолет. Хлопец решил перейти в наступление. Он поднялся, вытянулся по стойке «смирно» и отрапортовал с вызовом:
– Друже Богдан! Я – шеренговый Карась, сознательный украинец, волыняк, родом из Ровно. Так мне было приказано отвечать… Хотите верьте, хотите нет. Службу несу исправно, в бою труса не праздновал. Какие будут еще вопросы?
Вот так следует разговаривать с Богданом. Какого ему черта надо?
Сотенный не ожидал такого отпора. Карась предстал перед ним еще в одном качестве – бесстрашии и достоинстве. Богдан едва выдержал взгляд хлопца, с сожалением покачал головой.
– Ну ты… Доиграешься! Я ведь по–хорошему спрашиваю.
– Так что я должен отвечать? – продолжал наступать Тарас. – Сказать, что специально послан к вам советским командованием за шкурой четового Довбни? Пожалуйста! Между прочим, напутал Могила: не на портянки используют дикие чеченцы кожу, снятую с сознательных украинцев, а парашюты шьют из нее вместо шелка. Крепкие парашюты получаются…
– Не кричи, – покосился на дверь Богдан. – Я в это не верю. Пропаганда…
– Хорошо хоть это понял!
Богдан вздохнул, поправил фитилек в каганце, взялся за свою чашку.
– Не пей больше. Хватит! – попросил Тарас. – Не надо, Богдан, ты и так пьян.
Богдан не послушался, выпил, тряхнул головой.
– За что я полюбил тебя, Карась, скажи? Как будто ты брат мой. Слово чести!
– Мы – братья, украинцы.
– Развесели меня, друже. Сердце болит. Давай запоем?
– Не надо, Богдан. Услышат… Лучше я стихи прочитаю.
– Давай! Шевченко?
– Можно. Но сперва…
Тарас закрыл на секунду глаза, припоминая первые строки, и начал торжественно, печально, радуясь каждому слову:
Я бачив дивний сон. Немов передо мною
Безмірна та пуста і дика площина,
І я, прикований ланцем залізним, стою
Під височенною гранітною скалою,
А далі тисячі таких самих, як я.
Давно не читал вот так вслух любимые стихи Тарас. Все беды отошли в сторону, он испытывал счастье. Чудесные слова, казалось, сами рвались из его груди, и перед глазами появились живые символические картины – обнаженные по пояс люди бьют кирками и молотами в гранитную скалу, прокладывая себе и другим путь в будущее.
Богдан слушал восхищенно, приоткрыв рот, и на его лице появлялась радостно–глуповатая улыбка.
Дал волю себе Тарас. За «Каменярами» Франко пошли «Думи мої, думи» Шевченко, стихи Леси Украинки, Сосюры, Тычины. И когда в заключение прочел «Заповіт», то увидел, что по щекам Богдана текут слезы.
Сотенный подошел к Тарасу, схватил руками его голову, сжал ее в ладонях.
– Ну и голова у тебя, друже, ну и память, – сказал он и неожиданно добавил: – Что мне с тобой делать, не придумаю…
– Давайте вместе думать.
Богдан тряхнул головой, опустил руки, в глазах его появилась враждебность.
– Нельзя нам вместе, – сказал он со вздохом. – И ты пропадешь, и я пропаду. Знаешь, Карась, кажется, отпущу я тебя. Иди к чертовой матери на все четыре стороны. Так будет лучше. От греха подальше. Ты сам понимаешь…
Теперь все было ясно. Да, они были друзьями и врагами. Они как бы стояли на острой грани между враждой и дружбой, и каждый знал, что долго удержаться на этой грани нельзя; обязательно свалишься на какую–нибудь сторону.
– Если без шуток, – могу пойти, – тихо сказал Тарас. – Когда прикажешь?
– Не спеши, успеешь, – тихо ответил Богдан и закрыл глаза. – Мне еще поговорить с тобой надо. Выскажешься на прощание.
– Это я могу, – усмехнулся Тарас. – Насчет главного врага? Это можно.
Богдан стоял с закрытыми глазами, кусал губы. Пошатнулся, взглянул на Тараса осуждающе.
– Дурак ты, Карась. Смотрю на тебя и удивляюсь… Ты знаешь, с чем играешься? Мне стоит слово сказать – и нет тебя. Был Карась и нет его.
– Почему, я все понимаю… – согласился Тарас. – Что хитрого для такой щуки карася слопать.
Пьяная муть ушла из глаз Богдана. В них отразилось удивление, злое любопытство:
– Не боишься, дразнишь? Отчаянный!
– Не в храбрости дело. Я верю, что ты человек, Богдан, хороший, честный, смелый человек. А хорошего человека мне бояться нечего.
– Хитришь, казаче. Испугался все–таки… На добрые чувства бьешь?
– Тю на тебя, Богдан. Ведь мы же с тобой в открытую.
– Хитришь, хитришь.
– Опять! У тебя все козыри, а у меня один – правда. Это ты боишься. Не меня – правды.
– Брешешь, я правды не боюсь. Я ничего не боюсь. Видел, как я германа разделал?
– А чем кончится? Что Могила говорил?
– Плевал я на Могилу. Пока жив – бил германа и буду бить.
– Ой Богдан, не в ту ты компанию попал…
– Договаривай, раз в открытую пошло, – кивнул головой Богдан. – Какую компанию ты мне присоветуешь?
– Ту, которая знает, кто настоящий враг Украины.
– Договаривай…
– По–моему, и так ясно.
– Ясно, – согласился сотенный и усмехнулся одним углом рта. – Ты меня к советам–партизанам приглашаешь. Спасибо. – Посмотрел осоловелыми глазами на Карася и медленно поднес к самому носу хлопца сложенный в кукиш кулак. – Вот. Видел? Сейчас так трахну!
– Бей… – пожал плечами Тарас. – Мне не привыкать. Меня немцы не таким кулаком угощали – прикладами.
– Холера, а не хлопец! – засмеялся Богдан, опуская кулак. – Не бойся, волоса с твоей головы не упадет. Слово чести! Мы – побратимы. Побратима я не предам. Ты Олю спас, а я, дурак, ее погубил.
– Не ты, – с внезапной злостью воскликнул Тарас. – Как ты не понимаешь, Богдан? Фашисты ее погубили, твою сестру. И не ее одну, – тысячи, сотни тысяч украинцев погубили они. И весь наш народ хотели погубить.
– Это я знаю… – Богдан как бы обмяк. – У них такая политика. Немцы только себя любят. – Подумал и сказал печально: – А к советам я не пойду. Ясно? И не заикайся, а то буду бить. Слово чести!
Сотенный вздрогнул, провел рукой по лицу, удивленно замигал глазами. Водка, наконец–то, разобрала его как следует. Тарас решил, что пора уходить. На этот раз было сказано достаточно. Пусть Богдан проспится, подумает.
Расстались по–дружески. Богдан долго тряс руку Тараса, хлопал его по плечу, смеялся и повторял:
– А помнишь, как мы того германа–ефрейтора? А? Как сноп, выскочил из вагона! Я люблю тебя, Карась, ты веселый. Только ты подлец и дурак. Шляк бы тебя трафил, холеру. Ясно? И чтоб никому ни слова. Слышишь? То все байка…
Наконец он схватил Тараса за уши, притянул его голову к себе и чмокнул мокрыми губами в щеку.
Это был последний разговор Тараса с лихим сотенным. Через два дня сотню принял Довбня. Богдан исчез, ни с кем не попрощавшись.
За ним пришли ночью.
19. Среди бела дня
Ева Фильк, помощница советника Хауссера, была легализована. Она получила маленькую комнату в том же доме, где жил советник, продовольственные карточки, пропуск для хождения по городу в ночное время Воспользоваться этим пропуском Оксане еще не пришлось, но днем она появлялась на улицах города довольно часто. Офицеры и солдаты заглядывались на красивую, стройную девушку, деловито шагавшую рядом с низеньким цивильным чиновником в очках. Ровный, уверенный шаг умеющей маршировать молодой немки, голова гордо поднята, правая рука сунута в карман жакета… И никаких взглядов по сторонам.
Зачем потребовался союзникам эксперт по восточным вопросам? Какие новые идеи зреют в голове загадочною и опасного мастера провокации? Ответ на первый вопрос должны были дать радиограммы, но только в том случае, если их удастся расшифровать… Чем занимается советник сейчас, какую очередную провокацию он готовит – это Оксана должна была узнать сама.
Нужно было спешить, времени могло оказаться мало. Первый день ничего не дал. Все осторожные попытки Оксаны выведать что–либо ни к чему не привели. Хауссер даже близко не подпускал «помощницу» к своей тайне. Он согласился, что должна быть создана видимость, будто Ева Фильк занимается чем–то серьезным, усиленно помогает ему. Оксане было предложено читать оккупационные газеты, издающиеся на украинском и польском языках, и делать выписки. «Что именно выписывать?» – спросила Оксана. «Не имеет значения, – пожал плечами советник. – Выписывайте все, что вас заинтересует. Ведь это для проформы». То оружие, каким хотела воспользоваться Оксана, Хауссер старался обратить против нее же. Он, видимо, желал составить более точное представление об ее уме, осведомленности, интересах. По выпискам это было бы нетрудно сделать. Есть мудрая пословица – покажи мне твои книги, и я скажу, кто ты…
Оксана охотно согласилась читать газеты и делать выписки, но тут же высказала сомнение, сможет ли служить такая работа достаточной маскировкой. Если она будет сидеть в комнате, может создаться впечатление, что Хауссер прячет ее, боится показать людям. Неизбежно возникнут кривотолки и подозрения. Гораздо выгоднее показать, что она активно помогает советнику, выполняет хотя бы какую–нибудь черновую работу. К тому же – она не может объяснить советнику причин – ей необходимо почаще появляться на улицах в самых различных местах города. Но это не должны быть бесцельные прогулки. «Ваша помощница, – убеждала Оксана советника, – должна выглядеть как серьезный, деловой человек, сознающий свою ответственность, торопящийся выполнить каждое поручение шефа». Доводы были убедительными, и Хауссер согласился, хотя и с явной неохотой.
Советник решил, что Ева может посещать различные цивильные учреждения, брать там для него всевозможные справки, не носящие секретного характера.
В первый же день они успели (Оксана настояла, чтобы Хауссер пошел вместе с ней) побывать на бирже труда. Советник представил начальнику биржи свою «помощницу» и сказал, что в ее функции входит изучение настроений будущих рабочих Германии и вопросы психологической обработки. Оксана поняла, что здесь, на бирже труда, она вряд ли узнает что–либо новое о Хауссере, но ничем не выдала своего разочарования. Ее внимание привлек красочный плакат, висевший на стене. На фоне прекрасно возделанных полей, ферм с племенным скотом и прячущимся в долине прелестным поселком с островерхими черепичными крышами стояли румянощекие веселые юноша и девушка в вышитых сорочках. Они прямо–таки едва сдерживали свой восторг. Надпись раскрывала причину их необыкновенной радости – «Мы увидим Германию!»
Оксана похвалила плакат. Особенно ей понравилась надпись.
– Тут что–то есть от туризма, а романтика путешествий всегда увлекает молодежь, – глубокомысленно заметила «помощница» советника.
На этом можно было и закончить первый визит, но в разговор вмешался заместитель начальника биржи пап Герасимчук. Это был прилизанный юркий человек с лицом, похожим на мордочку побывавшей у парикмахера крысы… Пан Герасимчук – ему, видимо, не терпелось выслужиться, показать полезность своей персоны – попросил ознакомиться с текстом заготовленного им послания анонимного духовного пастыря к украинским хлопцам и девчатам, отправляющимся на работы в Германию. Обращение называлось «В трудную минуту уповай на бога». По мнению Герасимчука, послание следовало отпечатать на полосках розовой бумаги в большом количестве, чтобы каждый уезжающий в Германию мог хранить эту памятку о родине возле сердца.
Хауссер, недовольно хмурясь, взял листки у Герасимчука. Он держал их перед собой так, чтобы могла читать и его «помощница». Уже первые строки убедили Оксану, что послание написано рукой опытного иезуита. Ничего похожего на висевший на стене дурацкий плакат, который вряд ли мог кого–либо соблазнить или обмануть. Духовный пастырь знал дорогу к сердцам – никакой радости, никакого ликования по поводу «Мы увидим Германию!» Нет, в каждом слове елейное сочувствие и даже скорбь. «Дети мои! Вы оторваны от своих близких и дорогих, покинули родные, милые Вашему сердцу места, едете в чужой, неизведанный край. Что ждет Вас там, на чужбине? Труд и труд, может быть, нелегкий. Он покажется Вам вдвое тяжелее, потому что Вы будете среди чужих людей, язык которых многие из Вас не знают. Верю, будут трудные минуты у Вас, не один раз Ваши сердца сожмутся от тоски по дому, и слезы потекут ручьями от незаслуженной обиды. Не теряйте веры, уповайте на господа, молитесь, молитва ободрит и успокоит Вас. Ничего легкого в жизни нет. Будьте терпеливы и послушны. Покажите тем людям, среди которых Вы будете жить, что украинцы не боятся труда, даже самого черного, и Вы заставите Ваших хозяев и начальников относиться к Вам, трудолюбивым украинцам, по–иному. Только честным трудом, образцовым поведением, преданностью к своей религии Вы можете вызвать уважение, любовь не только к себе лично, но и ко всей украинской нации».