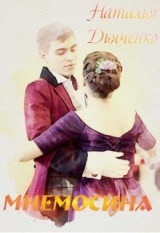
Текст книги "Мнемосина (СИ)"
Автор книги: Наталья Дьяченко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Выслушав вердикт Горчакова, Лизандр покачал головой и прошептал:
– Ведь я предупреждал его, зачем только он не послушал!
[1] Габриэль цитирует Кодекс чести русского офицера 1804 г.
[2] Со щитом или на щите (лат.)
XII. Последние часы Звездочадского. Клятва
XII. Последние часы Звездочадского. Клятва
Последняя дружба,
Последнее рядом,
Грудь с грудью…
Марина Цветаева
Потянулись мучительные часы. Доктор то отъезжал, то посылал слуг за инструментами, лекарствами или бинтами. Январа почти все время проводила подле брата, но не могла избавить его от мучительной боли. Когда Ночной Тени становилось совсем худо, он просил сестру спуститься к матушке, или принести цветов из оранжереи, или выдумывал другой предлог отослать, чтобы она не слышала его стонов. Пульхерия Андреевна металась по дому, хваталась за предметы, роняла их, отдавала распоряжения слугам и тотчас их отменяла. Лизандр то сидел, понурившись, в кресле и твердил: «Я знал, знал, что так будет!», то вдруг под влиянием неких незримых течений его отчаяние сменялась воодушевлением, тогда пиит вскакивал, начинал мерять гостиную кругами, шептал: «Нет, не будет! Я все исправлю! Я напишу другие стихи, правильные, славящие жизнь, а не смерть».
– Умоляю вас, не произносите этого слова! – останавливала его Пульхерия Андреевна.
Не слыша ее, пиит хватался за карандаш, принимался быстро строчить и столь быстро перечеркивать написанное, комкал и отшвыривал бумагу, точно она была злейшим его врагом, утыкал лицо в ладони:
– Все, все напрасно! Зачем только он не послушал!
Узнав о случившемся, приезжали друзья Габриэля – не то поддержать, не то попрощаться, кто во что верил. Горчаков не разрешал посетителям утомлять раненого, позволял пробыть с ним несколько минут, а затем бесцеремонно выпроваживал. Приехавшие толпились в гостиной либо слонялись по дому, одинаково потерянные и печальные.
С разницей в несколько минут приехали Арик и Гар. Столкнувшись в передней, они замерли, глядя друг на друга, желая говорить, но говорить гораздо больше, чем могла бы вместить пара незначительных слов, а оттого оба молчали. Гар нерешительно подал Арику руку. Жест приветствия походил на просьбу о прощении. На краткий миг рука повисла в воздухе. Бежали секунды, молчание затягивалось. Наконец Арик нервным движением откинул челку со лба и прошел в гостиную, так и не сделав ответного жеста. Рука Гара опустилась, за ней вослед опустились и плечи, певец ссутулился, поник, побитой собакой поплелся следом.
– Как Габриэль? – спросил Арик после скупого приветствия.
Пульхерия Андреевна вскинула на него заплаканные глаза, попыталась сказать что-то, но только разрыдалась еще пуще.
Вместо хозяйки отвечал Лизандр:
– Он очень, очень плох. Остается уповать на чудо.
– С ним Горчаков и Януся, – добавил я.
– Можно его видеть?
Судя по тому, что Ночная Тень не выпроводил сестру, состояние его было без изменений. Я предложил:
– Хотите, спрошу?
– Не утруждайтесь, я спрошу сам, – и Арик пошел наверх, а Гар остался в гостиной.
К вечеру Габриэлю сделалось хуже. Горчаков через Янусю просил меня подняться – зная, что видом крови меня не испугать, доктор определил меня себе в помощники. Несмотря на отворенные окна, воздух в спальне был тяжелым. На невысоком столике близ кровати громоздились пузырьки, коробки и склянки с лекарствами, лежали различные медицинские инструменты, назначения которых я не ведал; на краю ютился медный таз со льдом, что доктор прикладывал к ране для остановки кровотечения. Все в комнате: и мрачное сосредоточенное лицо Горчакова, и заострившиеся черты Звездочадского, и темная от крови постель безжалостно облачали истину. Небрежно брошенный на стуле лежал мундир Габриэля. И отчего-то именно этот растерзанный, в алых пятнах мундир, предмет неизбывной офицерской гордости, окончательно уверил меня в свершившемся. Лгать ни себе, ни другим больше не было нужды.
Я помог Горчакову сделать примочку к ране, хотя кровотечение действительно замедлилось, один ее вид – неряшливой, вздутой, побагровевшей отрицал любую возможность исцеления.
– Все пустое, – бормотал Звездочадский. – Горчаков, бросайте свои медицинские штучки, дайте лучше мне опиум.
– Я послал за ним.
– Вот и ладно, не то неровен час, мои стоны достигнут нежных ушек матушки или сестры. Никак не ждал, что будет так больно.
– У вас началось воспаление, следует сделать внутреннее промывание.
Доктор взял один из своих пузырьков, высыпал в ложку белый порошок и протянул Габриэлю:
– Примите пока вот это.
– Что это?
– Каломель. Слабительное.
– К черту слабительное. Лучше дайте пить, меня мучит жажда. И вы, и я знаем, что я не жилец, так позвольте мне помереть безо всяких унизительных процедур, как подобает мужчине и солдату.
Звездочадский попытался отвернуться, но даже это казалось бы простое движение было ему болезненно. Он застонал от боли и от злости на собственную беспомощность. Его страдания отзывалась в моем сердце, словно мои собственные. Если бы такое было возможно, я радостью разделил бы его боль, но увы – здесь я был абсолютно бессилен.
– Михаил, ответьте, не справлялась ли обо мне кузина Ангелика? – хрипло спросил Габриэль, дождавшись минутного облегчения.
Я покачал головой.
– Правильно, ни к чему ей меня видеть в столь плачевном состоянии. Она сама радость, ангел во плоти… Но все-таки, мой друг, коли Ангелика приедет, скажите мне о том без промедления в любое время дня и ночи.
– Хорошо, хорошо… – спешно согласился я, полагая, что он бредит.
От опиума Звездочадскому полегчало. Согрелись руки, сделался реже пульс. Габриэль заметно оживился, просил матушку и сестру быть с ним, велел звать друзей.
Все, кто был в доме, собрались у его ложа. Январа села на стул, который специально придвинула к кровати, и на котором провела последние часы. Поправила белье, отерла пот со лба. Пульхерия Андреевна тяжело опустилась на порезанный мундир. Прочие, не найдя себе места, остались стоять.
– Да не чинитесь! Вот, присядьте подле меня, на кровать, места всем хватит. Я выписал ее из-за стены, такой роскоши нет даже у князя Магнатского. Арик, Гар, отчего вы сторонитесь друг друга? Гряньте дуэтом да погромче, чтобы встряхнуть эту гробовую тишину!
– Пир во время чумы, – пробормотал Горчаков, отойдя в сторону. Серьезный человек, он не понимал, как Звездочадский умудряется шутить. Я же восхищался мужеством друга. Я не знал, смог бы сам, ощущая за плечом дыхание смерти и предвидя близкую разлуку с дорогими людьми, не захлебнуться на дне беспросветного отчаяния.
Ангелика приехала утром. Она застала нас всех в состоянии полу-сна, полу-бодрствования. Арик и Гар, ради спокойствия Габриэля вынужденные изображать перемирие, расположились в библиотеке, туда же отправился Разумовский. Он появился далеко за полночь и не успел перемолвиться со Звездочадским, но надеялся непременно сделать это. Пульхерия Андреевна прикорнула на диване в гостиной, даже во сне продолжая плакать. Януся сидела за низеньким столиком, готовая сорваться по первому зову брата, да там и задремала, положив головку на сложенные руки; покрывалом ей служила подаренная братом шаль, с которой она не расставалась ни на миг, точно боялась, что с утратой подарка потеряет и дарителя. Возле напольных часов в кресле спал Лизандр, вплетая свой храп в мерное тиканье. Под ногами пиита валялось с дюжину смятых бумажных листов.
Я несколько раз поднимался помочь Горчакову, а остальное время мерил шагами гостиную. Взад и вперед, от двери к окну, по вытканным на ковре райским птицам, мимо дивана с подлокотниками в виде фигурок богини Ники, мимо столика, поправив шаль на плечах Януси, мимо часов и кресла, по хрустящим листкам со стихами и обратно от окна до двери. Спать, зная, что там, наверху, Габриэль ведет свою последнюю схватку со смертью, казалось мне предательством, оттого я ходил и ходил, как заведенный. Будучи единственным, кого не сморил сон, я встретил Ангелику первым. Вопреки обыкновению, красавица была одна. В простом синем платье с глухим воротом, в темной накидке-пелерине, с собранными в строгий узел волосами.
– Михаил, как чувствует себя кузен? Я приехала, едва узнала о несчастье. Это все из-за меня, из-за меня одной, оттого, что Габриэль ревновал. Мне не стоило говорить со стражем, и танцевать с ним тоже не стоило. Он вовсе не нравится мне. Но он рассыпался в комплиментах, был так предупредителен, так мил, что оттолкнуть его было бы дурным тоном. Отчего только Габриэль не спросил? Я смогла бы ему все объяснить. А теперь он ранен, и страдает из-за пустяка. Знаете, порой моя красота кажется мне проклятьем. Как легко было бы, родись я простушкой с заурядной внешностью, – выпалила Ангелика на одном дыхании. Тонкие пальцы комкали кружевной платок, волнение добавляло одухотворенности ее прелестным чертам. Также винил себя Лизандр, также и я полагал себя причиной несчастья. Отец Деметрий учил, что на все воля Божья, что никакие действия либо события не случаются без Его попустительства, а считать себя проводником Его воли есть проявление гордыни. Но вряд ли слова моего духовного наставника могли бы успокоить Ангелику, как не могли они умерить и моего собственного чувства вины. Да и так ли важна была причина, если она не имела влияния на последствия?
– Не терзайтесь понапрасну. Габриэль мужчина, военный и, разумеется, он отдавал себе отчет в принятом решении.
Красавица вздохнула:
– Мужчины едва ли отдают себе отчет, когда влюблены. Кузен открылся мне и даже имел разговор с папенькой. Это было нашей тайной. Габриэль ведь не умрет, правда? Скажите, что рана легкая! Пожалуйста, не молчите, это пугает меня!
Я ушел от ответа:
– Вы можете сами взглянуть на него, если только он не спит.
Звездочадский не спал. Когда я понялся, чтобы сказать ему об Ангелике, улучшение, вызванное приемом опия, уже сошло на нет. Лоб Габриэля покрывал холодный пот, дыхание было отрывистым, точно ему не хватало воздуха, зрачки расширились почти на всю радужку, делая взгляд блестящим и безумным.
– Как вы? – спросил я и тотчас, поняв всю нелепость своего вопроса, пояснил, – Здесь ваша кузина. Хотите говорить с ней?
Ночная Тень взглянул на меня с усилием, пытаясь понять, о чем я спрашиваю, затем попросил:
– Дайте мне несколько минут.
Я отвернулся к окну. Занимавшийся день обещал быть ясным и солнечным. Легкий ветерок ерошил мне волосы, я слышал щебет благополучно переживших ночь птах, вдыхал запах влаги, испаряющейся от земли, и понимал, что этот день станет последним в жизни моего друга. Он пройдет, и время не обернется вспять, и земля будет двигаться дальше вокруг солнца и вместе с солнцем лететь через вселенную, также будут шуметь ветра и петь птицы, и люди будут верить, любить и мечтать. Не изменится ничего за одним лишь исключением, незначительным для целого мира и величиной с целый мир для родных и близких Габриэля.
Как же так, думал я, блестящий офицер с незапятнанной репутацией, перед которым раскрыты все двери, которого уважают солдаты и ценит начальство, любящий сын и нежный брат, завидный жених. Казалось бы, впереди жизнь, полная счастливых свершений, и вот все закончено влет, нелепо и трагично.
– Передайте кузине, что я ее жду, – прервал мои невеселые раздумья голос Звездочадского.
Я обернулся – и обомлел. Точно мой друг не умирал несколько минут назад. Улыбающийся, с пылающими щеками, с глазами, сияющими ожиданием встречи, с тонкими, аристократическими кистями рук поверх одеяла – ни дать, ни взять улан, красующийся легким ранением после победы в сражении.
Я поманил за собой Горчакова, и вместе мы вышли из спальни.
– Он ждет вас, – кивнул я Ангелике.
Красавица дернула бархатные ленты своей накидки, сбрасывая ее на пол, подняла точеную головку, подхватила подол платья и быстро взбежала по лестнице – воплощенное изящество и легкость. Скрипнула и затворилась дверь, отрезая Габриэля и Ангелику от мира.
Пользуясь тем, что мы остались вдвоем, я спросил Горчакова о состоянии моего друга.
Ответ был удручающ:
– Скверно. Начался воспалительный процесс, Габриэля Петровича лихорадит, да, впрочем, вы и сами видели. Я даю ему средства от жара и капли с опиумом.
– Сколько? – спросил я, чувствуя на языке горечь от слов.
– Достаточно, чтобы ослабить боль, но недостаточно, чтобы унять воспаление. От слабительного и внутренних промываний, показанных при лечении ранения в живот, Габриэль Петрович наотрез отказывается, так что я крайне ограничен в выборе средств.
– Я не о том. Сколько ему осталось?
– Судя по внешним признакам, все завершится сегодня.
Часто заходя в спальню Габриэля, я видел, что ему становится хуже, и имел некоторые предположения на этот счет. Но одно дело строить догадки и совсем другое – услышать их подтверждение от врача. Точно ледяная ладонь сжала мне сердце, которое сделалось тяжелым и неповоротливым, вмиг разучившись стучать. Я опустился на стул, упер локти в колени, сдавил руками голову, желая проникнуть сквозь черепную коробку и вынуть оттуда все мысли до единой. Вследствие усталости из состояния тяжелого бодрствования я провалился в не менее тяжкий сон, где, словно в кривом зеркале, отобразились мои переживания: растянутые, искаженные, гротескные. Я встряхнул головой, с трудом выбираясь на поверхность сознания, кривое зеркало разлетелось вместе с обрывками сна, оставляя ощущение непоправимого.
Моя внутренняя борьба заняла куда больше времени, чем я думал. Когда я очнулся, Ангелика уже собиралась домой, убежденная в том, что Габриэль непременно поправится, и что ему полегчало от одного лишь ее присутствия.
– Я изо всех сил надеюсь на скорое исцеление, я верю в живительную силу любви. Нам с Габриэлем столько нужно сказать друг другу, у нас впереди много дел и счастливых событий. Он не может оставить меня теперь.
Лизандр, кутавший Ангелику в пелерину, старательно разглядывал что-то за ее плечом.
– Пусть хотя бы кто-то верит в его исцеление, – негромко пробормотал Горчаков.
На разговор с Ангеликой ушли последние силы Звездочадского. После ухода кузины он стал быстро гаснуть. То и дело впадал в забытье, постоянно просил пить, но уже не мог удержать чашку, вода проливалась ему грудь, чего он не замечал. Частое рваное дыхание перемежалось паузами. Его мучили страшные боли, он с трудом сдерживал крики. Нельзя было глядеть без жалости на его страдания.
– Нужно послать за священником, – сказал я Горчакову. Больше никто в доме не подумал об очищении души, поэтому я взял это вопрос на себя. – Не знаю, какому духовному отцу обычно исповедовался Габриэль, но, наверное, это сейчас не важно. Напишите какой-нибудь адрес, по которому можно послать.
Горчаков написал. Я передал листок слуге с припиской, поясняющей наши обстоятельства. На зов явился маленький сухонький священник. Он исповедовал Звездочадского и дал ему причаститься. Конец был близок. В агонии Габриэль пробыл остаток дня, вечер и половину ночи. Рядом с ним остался Горчаков и я. Январу, невзирая на все ее сопротивление, доктор отослал. Приехала Сибель, но Звездочадский был уже так плох, что никого не узнавал. С минуты на минуту мы ожидали печальной развязки.
Я сидел в ногах Ночной Тени и, верно, опять задремал. Очнулся от тишины. Рядом на стуле клевал носом порядком осунувшийся Горчаков. Звездочадский, последние часы бредивший не переставая, смотрел на меня абсолютно ясным взором.
– Вам лучше? – спросил я, не веря своим глазам.
Он печально улыбнулся. Возвеличенный страданием, в этот момент он был красив, точно архангел Гавриил. Мне почудилось сияние, исходящее от его лица.
Габриэль грустно улыбнулся.
– Обещайте мне одну вещь, Михаил. Когда меня не станет, позаботьтесь о матушке и сестре. Поддержите их, будьте рядом, сколько сможете. Нежные, трепетные создания, они не приспособлены к тяготам окружающего мира. Без меня им предстоит столкнуться с той стороной жизни, которую мы, мужчины, обычно скрываем от женщин, оберегая их тонкую душевную организацию.
Разве мог я отказать другу в его последней просьбе?
– Клянусь сделать все, что в моих силах.
– Благослови вас Бог, вы не представляете, какой груз снимаете с моих плеч.
Он попросил воды, пил жадно. Затем глаза его закрылись и им вновь овладело лихорадочное состояние. Смерть не спешила даровать Габриэлю свое милосердие. Среди отрывистых и бессвязных речей неясно было, какие Габриэль говорит в сознании, а какие – находясь под влиянием лихорадки. Я отвечал, уверенный, что Ночная Тень меня не понимает, но надеясь, что звуки знакомого голоса достигнут его через пелену боли. Он упоминал давно прошедшие события, даты, имена. Несколько раз называл меня отцом, затем одним мигом перемещался в армию, звал в наступление, грозил всеми карами небесными, если сейчас – прямо сейчас мы не выдвинемся на врага.
– Разведка заметила конный отряд в двух верстах от нас. Револьвер, Михаил, ваш револьвер при вас? Дайте мне его, умоляю! – расслышал я, но, полагая, что друг бредит, не предпринимал никаких действий. Однако на сей раз Габриэль был в рассудке, голос его звучал настойчиво, нетерпеливо. – Будьте же милосердны, черт возьми! Я не в силах больше терпеть эту боль. Она раздирает меня на части, ей не видно конца. Я не раз видел, как умирают, но, черт возьми, не знал, что будет так больно.
– Пожалуйста, не просите меня взять грех на душу. Я не могу позволить вам прервать свою жизнь, самоубийцам закрыто Царство Божие. Я готов исполнить любую просьбу, только не эту.
Крупные капли пота блестели на лице Габриэля, волосы слиплись, гармоничные черты застыли в маске страдания. Он долго, напряженно молчал, потом решился:
– Не могу терпеть. Мне нужно отдать… одну вещь. Пока она со мной, смерть боится ко мне подступиться.
– Можете смело довериться мне, я передам ее, кому следует.
– Вы и впрямь согласны забрать ее у меня?
– Плохим бы я был другом, кабы отказал вам сейчас.
– Нет, отвечайте прямо, что согласны.
Я был уверен, что Габриэль снова бредит, как был уверен и в том, что ради его спокойствия следует непременно с ним соглашаться.
– Да, согласен.
– Скажите еще раз. Трижды. Так надо.
Судя по настойчивости моего друга, этот ритуал с троекратным согласием либо отказом мнемотеррионцы впитывали с молоком матери, раз уж он преследовал Ночную Тень даже в горячке.
– Подтверждаю, что готов принять от вас, что вы пожелаете мне отдать и передать любому, на кого укажете.
– Дайте вашу руку, Михаил.
Я исполнил его просьбу. Пальцы Звездочадского были мертвенно холодны, точно другой рукой он уже отворил дверь в загробный мир, и, стоя на пороге, служил проводником текущей оттуда стыни. Он с силой обхватил мое запястье. Вернее, хотел бы с силой, но из-за мучавшей его боли вышло едва-едва. Однако этого достало, чтобы холод загробного мира беспрепятственно проник сквозь мою кожу и по пальцам устремился вверх, вверх, вверх, заливая сердце и легкие, усмиряя биение жизни. Грудная клетка закаменела, противясь любым попыткам протолкнуть в нее хоть глоток воздуха – я не ни мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Мне сделалось страшно, но я сказал себе, что это лишь игры утомленного ночным бдением разума. Между тем пронизывающий холод добрался до горла и сковал его, закупорил поры, забился в ноздри, глаза, уши, отрешив от окружающего мира. Если переход в загробный мир означает погружение в вечную стынь, я понимал теперь, отчего призраки умерших не торопятся покидать нашу бренную землю. Казалось, что мы с Габриэлем прикованы друг к другу ледяной спайкой до скончания времен, и даже смерть не станет достаточной причиной нашему разъединению. Но это только казалось.
Звездочадский легко разжал пальцы, шепот его был едва слышим:
– Надеюсь, это поможет вам исполнить данное обещание.
– Вы позабыли сказать, кому и что я должен отдать.
Ответом мне послужило молчание. Мой друг, офицер без страха и упрека, один из лучших разведчиков, отменный стрелок и в высшей степени порядочный человек был мертв. И это было навсегда.
XIII. Остановившееся время. Между сном и явью
XIII. Остановившееся время. Между сном и явью
Из царства видений слетая,
Лазурным огнем залитая,
Нисходит на землю она,
Вся сказочной тайны полна,
И слезы,
И грезы
Так дивно дарит мне она.
Эдмон Ростан
(пер. Татьяны Щепкиной – Куперник)
Матушка и сестра Габриэля пребывали в полнейшем душевном расстройстве. Но если у Пульхерии Андреевны оно проявлялось в безумолчной болтовне, то Януся, напротив, замкнулась внутри себя, сделалась безучастна и тиха. Лицо ее было точно иконописный лик, отрешено и печально, слезы струились по щекам, и тем горше было их видеть, что они не сопровождались спазмами или всхлипами, а просто бежали и бежали сами собой. Я не решился беспокоить ни мать, ни дочь в их скорби, и взял на себя печальную обязанность организации похорон. Однако едва начав, я понял, что средств, которыми я располагаю, достанет разве на цветы да услуги гробовщика, а ведь нужно еще было заплатить Горчакову за его бессменное бдение у постели Звездочадского и заказать панихиду. Выручила традиция мнемотеррионцев рассчитываться обещанием услуги, от которой предостерегал меня приятель. Едва ли теперь его предостережение имело значение, да и выбора у меня не было, поэтому я соглашался, соглашался и соглашался (непременно трижды) принять на себе неведомые обязательства. Неизвестно, в какую кабалу я бы угодил в итоге, кабы не неожиданный визит Магнатского.
Князь Сергей Михайлович пожаловал по-старомодному: при кучере и выездном лакее, в лакированной коляске с гербами, куда была впряжена широкогрудая лошадка мышастой масти, подвижная и быстрая. Оставив в передней трость и цилиндр, князь уверенным шагом вошел в гостиную, целиком заполнив ее своим присутствием: холеный, во фраке темно-коричневого бархата и цветном шелковом жилете, с позлащенными усами кверху кончиками. Принеся семье соболезнования, князь сказал, что чувствует вину в случившемся, поскольку он способствовал знакомству Габриэля со стражем, и ради ее искупления готов принять на себя расходы по похоронам, на чем категорически настаивает. Не дожидаясь согласия, Магнатский извлек из кармана чековую книжку, вырвал оттуда страницу, подписал размашисто и уверено.
– Впишите сами необходимую сумму. Возражений я не приемлю, – сказал он, придавив чек к столу крупными пальцами, покрытыми жесткими темными волосками и унизанными тяжелыми перстнями, от которых отскакивали солнечные блики.
Пульхерия Андреевна бросилась целовать эти пальцы и перстни на них, через слово именуя князя благодетелем.
– Мне не выпало чести знать Габриэля Петровича при жизни, однако не сомневаюсь, что он был достойнейшим человеком. Мне бы хотелось проводить его в последний путь.
– Это большая честь для нас и для бедного моего сына. Ах, если бы он только мог видеть…
Что именно следовало увидеть Габриэлю, госпожа Звездочадская не договорила, захлебнувшись рыданиями.
– А что скажет Январа Петровна?
Услыхав, что к ней обращаются, Януся подняла на князя глаза. Очевидно, она не следила за разговором.
– Сергей Михайлович хочет проводить Габриэля в последний путь, – поторопилась пояснить Пульхерия Андреевна.
– Вы ведь не станете возражать против моего присутствия на похоронах? – спросил князь Янусю.
– Да, конечно, – немного невпопад отвечала девушка, стараясь быть любезной.
Когда князь собрался было уходить, его внимание привлекли напольные часы в темном корпусе, стрелки которых замерли на цифре четыре – времени смерти Габриэля. Сергей Михайлович заметно оживился, полез в карман жилета, извлек оттуда собственные часы, щелчком откинул крышку и вгляделся в циферблат. Золоченые княжьи усы задрались еще выше, почти упираясь острыми кончиками в потолок.
– Нерадивость слуг выдает отсутствие в доме твердой руки. Не успел хозяин почить, как лакеи тут же забыли о своих обязанностях. Вам повезло, что в поездках за стену я не тратил времени даром. Я уделял много внимания самым разным вещам и, среди прочего, механическим устройствам. Крайне занимательная штука эта механика.
Январа была равнодушна к происходящему, Пульхерия Андреевна зачарованно смотрела на Магнатского, ловя каждое слово. Кабы Сергей Михайлович спросил меня, я бы непременно рассказал ему, как застиг жалобы слуги о поломке: «Ничего не пойму, только выставлю верное время – и вот те раз: снова стоят. Ровно на том же месте. Колдовство какое-то!». Я бы добавил даже, что часы в библиотеке, те, которые с блестящими дисками и амурами, также застыли на четырех часах и вовсю противятся попыткам их воскресить. Но князь будто не замечал меня, а сам я мало разбирался в часовых механизмах, солдату в том не было нужды.
Воспользовавшись торчавшим в дверце ключом, Магнатский распахнул деревянный корпус, нырнул в него головой и всем туловищем, оставив снаружи лишь обтянутую темным бархатом спину – точь-в-точь жук-древоточец за работой. Некоторое время слышалось лишь сосредоточенное кряхтение князя, позвякивания да пощелкивания. Затем стрелки вдруг стронулись с места, торопливо побежали по циферблату, нагоняя ушедшее далеко вперед время. Дрогнул и закачался маятник, отбивая удары. Князь выпрямился, захлопнул часовой механизм, тщательно вытер руки извлеченным из кармана носовым платком. Лицо Сергея Михайловича покраснело от усердия.
– Вот теперь любо-дорого взглянуть, настроены точнейшим образом. А у слуг за проявленную нерадивость следует вычесть из жалования, а коли такое повториться, то не зазорно и рассчитать. Мера самая надежная, я сам ее регулярно употребляю.
Казалось бы, извинения князя были уместны, а помощь пришлась как нельзя кстати, однако визит Магнатского оставил у меня тягостное впечатление. Со своей деловитой настырностью Сергей Михайлович был абсолютно чужд царящим в семье Звездочадских нравам и всей атмосфере их гостеприимного дружелюбного дома. При этом магнетизм князя был настолько силен, что домочадцы неизменно подпадали под его влияние и стремились соответствовать высочайшим требованиям, отчего превращались в полные свои противоположности: Януся окончательно замирала, а Пульхрия Андреевна бесповоротно терялась и путалась в словах.
Мне предстояло еще многое сделать и обо многом сговориться, чем я и занимался оставшуюся часть дня. Поздно вечером я зашел в комнату, где под образами в гробу лежал мой друг с ликом Спасителя на груди, и где приглашенные плакальщицы читали псалмы. Вместе с ними я долго молился о душе Звездочадского. Ко сну я отошел далеко за полночь, вымотанный душевно и физически. Пользуясь отсутствием сторонних глаз, я позволил выплеснуться наружу своей скорби. Пока Габриэль был жив, я не задумывался о том, что и насколько прочно связывает нас, теперь же, когда эти связи рвались на живую, отдача била в уязвимые места, о существовании которых я не подозревал прежде. Наша дружба складывалась многими моментами, среди которых не было важных либо второстепенных, каждый занимал свое, строго определенное место: разделенные хлеб и табак, пройденные вместе бессчетные версты, проливные дожди и солнечное пекло напополам, друзья, с корнем вырванные из сердца, офицерские попойки с их неизбывными сплетнями, долг и честь, – от всего этого нельзя было отрешиться в одночасье.
Мало-помалу воспоминания принялись перемежаться сонными видениями, тогда-то мне и примерещился негромкий стук в дверь. Отнеся его к миру снов, я не придал ему значения, как не придал значения скрипу петель и тихим шагам. Сквозь сомкнутые веки я видел, как к моей кровати скользит призрачная тень. Сперва неясная, она медленно проявлялась из темноты: девичья фигурка, уже лишенная подростковой угловатости, но не обретшая еще плавных изгибов, а так и застывшая в междувременьи возрастов. Тонкий пеньюар дымкой обволакивал ее контуры, размывая их и делая частью полуночной зыби. Темные волосы сливались с клубящейся вокруг чернотой.
Это была моя любимая греза, самое сокровенное мечтание, которого я не смел позволить себе наяву, но которое раз за разом беспрепятственно вторгалось в свободное от запретов разума ночное сознание. Однажды я спросил отца Деметрия, как быть с грехом, содеянным во сне: молить о его прощении также, как если бы он был совершен наяву, или забыть? Отец Деметрий сказал: в ночных дремах нет нашей вины, однако они суть отголоски дневных дум. Скверно поступив во сне, нам следует просить Господа об избавлении от дурных мыслей, делающих грех желанным. Я просил, однако моя греза упорно не желала меня покидать.
Видение заструилось сквозь мрак, рассеченный падающим от окна лунным светом. От движения тонкая ткань льнула к телу, делая видимым то плечо, то абрис бедра, то колено. Крыльями взметнулись руки, расплетая ленты пеньюара. Такого не бывало прежде в моих снах, но, верно, горе и усталость сорвали последние барьеры, являя предо мной ту, о которой я не смел мечтать наяву. Ткань взметнулась и осела на пол, обнажая четкие линии. Я не мог отвести взгляда от хрупкого девичьего стана: узких плеч, маленьких грудей с темными тенями сосков, тонкой – в охват ладоней – талии, ровных и гладких бедер, переходящих в стройные голени с изящными лодыжками и крохотными ступнями, на которых я готов был перецеловать каждый пальчик. Сам дух воздуха сошел ко мне, соткавшись из грез и лунного света.
Моя легкокрылая сильфида сделала шаг, другой. Заскрипели половицы. И вдруг меня пробило, точно электрическим разрядом: это не сон. Передо мной во всем совершенстве своей наготы стояла настоящая, невымышленная Январа. И она была прекраснее любой из грез.
Я вскочил, от состояния полудремы разом переходя к пробуждению, подхватил с пола упавший пеньюар, принялся кутать девушку:
– Януся, что же вы, Януся. Не нужно, опомнитесь!
Мои движения были неловки и торопливы. Сквозь невесомую ткань я ощущал тепло ее кожи цвета расплавленного лунного серебра, и она жгла мне ладони, словно я пытался удержать жидкий металл в горсти. И чем быстрее я стремился избавиться от искушения, тем вернее жар проникал вовнутрь. Постепенно огонь охватил меня целиком, исторгая из памяти прощальное рукопожатие Габриэля. Огонь бился в моем сердце, застил глаза, гудел в ушах, заглушая голос рассудка.
– Мне не удается уснуть. Я сама не своя, точно потерялась между навью и явью. Так пусто в груди, так одиноко и стыло. Словно это не брат, а я лежу в гробу, погруженная в беспробудный сон. Разбудите меня, Микаэль! Дайте поверить в то, что я все еще живу!
Не обращая внимание на мои попытки прикрыть ее, Януся приблизилась вплотную, прислонила ладони к моему лицу, прижалась грудью к груди и, поднявшись на цыпочки, принялась покрывать мои веки, лицо, шею частыми легкими поцелуями.








