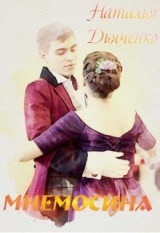
Текст книги "Мнемосина (СИ)"
Автор книги: Наталья Дьяченко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Поскольку Александр Павлович, как и я, был новым человеком среди собравшихся, мы с ним быстро нашли общий язык. Это оказался в высшей степени интеллигентный и тактичный собеседник, тонко чувствующий и начитанный, но нимало не кичащийся своим кругозором. Звездочадский оказался прав – его сестра обладала талантом собирать вокруг себя незаурядных людей, и я получал истинное наслаждение от нахождения в их обществе.
Когда вновь прибывшие привыкли друг к другу, обменялись новостями и последними сплетнями, слуги погасили электричество, оставив освещенными лишь фортепиано да столики с шампанским. К фортепиано, за которым так и сидела Сибель, вышел Лизандр и под музыку принялся декламировать. Маленький и круглый пиит будто сделался выше ростом, заполнив своим присутствием залу целиком, голос его взлетел к расписному плафону потолка:
Сослепу, ощупью —
Нравишься очень мне! -
Словно иду на свет,
Чувствуя кожей век,
Пространства меряя
Плотностью времени,
Сердца звучанием,
Ритмом молчания.
Явью ли, бредом ли
Путь неизведанный,
Фантасмагорией —
В радость? К агонии ль?
В мире, где счастья нет,
Страсть, что превыше бед,
Солнца и звезд ясней.
Слепо иду за ней!
– Charmante! – воскликнула Ангелика и захлопала в ладоши от избытка чувств. – Я не слышала этих стихов прежде. Они из новых? – спросила она не то у Габриэля, который расположился по правую руку от нее, не то у самого пиита. Акустика залы была рассчитана на музыкальные вечера – любое, даже тихое слово тотчас достигало самых отдаленных ее уголков.
– Наш поэт не устает воспевать любовь, – ответил Звездочадский, склоняясь к украшенному рубиновой серьгой ушку красавицы. – Какой сильный образ: любовь как свет, который сияет сквозь сомкнутые веки. Глядя на вас, дорогая кузина, я соглашусь с Лизандром. Ваш ослепительный образ отныне будет преследовать меня во снах.
– Война странно действует на вас, кузен, – рассмеялась Ангелика, и ее смех был подобен перезвону серебряных колокольчиков. – Когда вы уезжали, то твердили лишь об атаках и перестрелках, а вернулись записным сердцеедом. Но продолжайте же!
– Не война, дорогая Ангелика, а ваша красота способствовала моему преображению. За годы, прошедшие с момента нашей последней встречи, вы неузнаваемо изменились. Я оставил гадкого утенка, а нашел – лебедя.
Звездочадский взял руку Ангелики с гранатовым браслетом вкруг тонкого запястья, с ободками золотых колец на пальцах – и прижался губами к ладони.
– Не припоминаю, чтобы лебедей дергали за косы, – прервал их обмен любезностями Горностаев.
– Мы были детьми тогда, – ответил Габриель, вновь целуя ладонь кузины. Ангелика не спешила отнять руки. На ее щечках цвел румянец.
– Слишком просто было бы сводить услышанное только к любви, – заспорил Разумовский, поправляя указательным пальцем пенсне. – В стихах Лизандра заложено куда больше. Его строки о дороге, о жизненном пути. Недавние открытия доказывают, что наше бытие слагается двумя координатами: как пространством, так и временем. Мы привыкли оценивать пространство через расстояние, однако это абсолютно лишено логики, ведь нельзя мерить что-то самим собой. Время – вот мера пространства. А это означает, что любой путь должен быть пройден, иначе откуда бы нам узнать его длину?
Мысль показалась мне интересной, и я принялся развивать ее. Я подумал, что время действительно обладает большим потенциалом, нежели пространство, ведь когда идет бой, в пространстве не найти укрытия от пуль, которых порой бывает так много, что они сталкиваются даже друг с другом. Однако если прийти на то же поле боя раньше или позже, тогда пули не страшны, ведь в другом времени их не существует. Но поделиться своими соображениями с другими мне не дали.
– Ни за что не поверю, что душка Лизандр читает толстые и скучные журналы, какие запоем поглощаете вы! В них же нет картинок, – капризно скривила губки Ангелика.
– Помилуйте, не всем быть поклонниками мод, кто-то должен изучать приземленные материи. Но речь не обо мне. Поэту довольно чувствовать, а здесь Лизандр заткнет за пояс любого из нас. Вам известно, что поэты – немного провидцы? Виной тому их обостренное мировосприятие, способность к сверхчувствованию, коли желаете.
– Ах, оставьте словоблудие, – вздохнула красавица. – Мы собрались отдыхать, а вы по своему обыкновению превращаете вечер в скучный мужской клуб.
Горностаев едко усмехнулся:
– Мне вспоминаются слова классика: разум бессилен перед криком сердца[10]. Вы в алом, дорогая Ангелица, вы пылки и страстны, и это дает мне право назначить вас сердцем нашей компании. Вам же, Илья, придется довольствоваться ролью разума, молчание – вот ваш удел.
– Сколько раз я просила не называть меня так! – взвилась Ангелика. – В ваших устах мое имя звучит как дьяволица!
– Но в этом-то и соль, верно? – было видно, что Горностаеву доставляет удовольствие ее дразнить.
– Вы совершенно несносны! Постоянно раздражаете. А вы что думаете об очередном творении Лизандра, cher ami? – и Ангелика повернулась к своему спутнику, доселе не участвовавшему в беседе. – Ведь, если верить вашим заверениями, вы любите меня?
Этот вопрос поставил Александра Павловича в неловкое положение, однако он все же попытался ответить:
– Сравнения любви можно искать бесконечно. Один мой знакомый уподоблял любовь алмазу – камню прекрасному и прочному, однако невероятно хрупкому. Он может резать стекло, но один неудачный удар – и он рассыплется в прах. Не собрать.
– Как это: любовь – в прах? Не пытаетесь ли вы сказать, что разлюбили меня?
– Ну что вы, нет, конечно же нет, – еще больше смутился Александр Павлович. – Вас невозможно разлюбить.
– Тогда зачем говорите такие обидные вещи?
– Вы же знаете, я не силен в красивых речах. Гораздо лучше мне удается слушать. Если я невольно вас обидел, готов забрать свои слова обратно.
– Мне кажется, я понимаю, что имел ввиду ваш знакомый, – пришла на помощь Александру Павловичу Январа. – Не любовь, а разочарование. Я заберу у вас брата? Простите мне мой эгоизм, но мы так долго были в разлуке, а ведь свои первые детские пьесы я пела под его аккомпанемент.
Сопровождаемая Ночной Тенью, Януся прошла к фортепиано. Габриэль сел перед черно-белыми клавишами вместо Сибель, поставил на пюпитр нотные листы, протянутые ему сестрой.
– Я исполню романс, который на днях сочинил всеми нами любимый Лизандр.
Слова Януси застигли пиита в тот момент, когда он дожевывал печенье. Нимало не смутившись, Лизандр проворно закинул в рот последний сладкий кусочек, запил его шампанским и театрально поклонился. Я почти слышал, как трещат швы его синего фрака. В отличие от Александра Павловича, Лизандр совершенно естественно чувствовал себя в центре внимания. Он улыбался и посылал шутливые воздушные поцелуи. При этом он исхитрился опрокинуть на себя бокал шампанского, которое споро принялся вытирать подбежавший лакей.
– Оставьте, само высохнет, – нетерпеливо отмахнулся от него пиит. – Мой новый романс называется «Не сули мне с неба звезды». Я бы спел его сам – но – увы! – таланта музицировать себе так и не приобрел.
– Нельзя обладать всеми талантами, оставьте что-нибудь другим, – засмеялся Горностаев и Разумовский поддержал его:
– Зато по части стихосложения вам нет равных.
Я не стану тебя ревновать уже,
Перестану ждать и не буду звать.
Просто что-то сломалось в душе,
Что теперь не собрать,
не собрать.
Просто звезды однажды сошли с орбит,
Просто воздух вдруг загустел, как ртуть.
Я тебя не прошу у судьбы,
Ведь любви не вернуть,
не вернуть.
Я позволю сердцу навеки остыть,
Я позволю блеску уйти из глаз.
Мне тебя ни забыть, ни простить -
В жизни все только раз,
только раз.
И когда ты вновь постучишь в мою дверь,
Словно солнца луч воплощеньем грез,
Я уже не смогу поверить
В то, что раз не сбылось,
не сбылось.
И слова будут сечь, как струи дождей,
И обиды станут глухой стеной.
Что мне делать с тобою теперь,
Коль ты был не со мной,
не со мной?
Не со мной делил хлеб, не отвел беды,
Не сцеловывал соль моих слез.
Не сули мне с неба звезды,
будь – навсегда и всерьез.
Я наслаждался пленительной музыкальностью голоса Январы. Для камерных вечеров, подобных этому, он подходил идеально – в меру громкий, чистый и нежный. Благодаря врожденному артистизму девушке прекрасно удавалось те передать чувства, о которых она пела. Януся не боялась ни улыбаться, ни плакать, и оттого была естественна. Пламя свечей бросало теплые отсветы на ее плечи, шею и лицо, таяло в омутах глаз. Ее волосы, черные и мягкие, были похожи на дорогой мех.
Я подумал о сестрах, которым непременно понравился бы этот вечер. Дома мы были лишены возможности собирать друзей из-за безденежья и болезни отца. На миг меня захлестнула ностальгия, в памяти всплыли милые лица сестер и их старенькие, не раз перешитые платья.
Из задумчивости меня вывел звонкий голос Ангелики:
– Откройте, Лизандр, кто она?
– Она?
Подле нас стоял пиит с новым бокалом.
– Таинственная муза, которой вы пишете свои стихи, – нетерпеливо пояснила красавица.
– Я не пишу стихов, – Лизандр покачал головой. – Их нашептывает мне ветер, дарят перелетные птицы и вызванивают по стеклам проливные дожди. Образы являются ко мне во снах и просят выпустить в мир, я лишь облекаю их в слова.
– То есть имени своей музы вы нам не откроете? – продолжала настаивать Ангелика.
– Я бы с радостью открыл для вас все, чем только обладаю, и даже сверх того, но никакой музы у меня нет.
– И вы не влюблены?
– Я влюблен в целый мир, – последовал ответ.
Вслед за Январой пели Арик и Гар, затем Лизандр, порозовевший от шампанского и всеобщего восхищения, вновь читал стихи. Понемногу я растворился в окружающей атмосфере, перестав испытывать какую бы то ни было неловкость. Даже высказывания Ангелики уже не смущали, а вызывали улыбку. Я заметил, что и прочие не столько слушали красавицу, сколько любовались ею, а оттого ее попытки привлечь к себе внимание воспринимались вполне благосклонно, – красоте свойственно требовать восхищения. Один Горностаев не прекращал подначки, балансировавшие порой на самой грани приличия, отчего у меня укрепилось представление о нем как о довольно неприятном типе.
Однако моим вниманием владела не Ангелика, а Январа. Я ловил звуки ее нежного голоса, прислушивался к тихому шелесту платья, упивался каждым движением, исполненным простоты и неосознанной врожденной грации. Само присутствие Януси я воспринимал необыкновенно остро, тянулся за ней всем своим существом, как тянется к солнцу цветок подсолнечника. Впервые в жизни я был влюблен.
[1] Ад полон добрыми намерениями и желаниями (англ., Джордж Герберт, «Остроты мудрецов»).
[2] Делай, что должно и будь, что будет (французская поговорка, ошибочно приписываемая Льву Толстому).
[3] Здесь Иван Федорович передает идею И.К. Айвазовского: «Человек, не одаренный памятью, сохраняющий впечатления живой природы, может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником – никогда. Движение живых стихий неуловимо для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны немыслимо с натуры».
[4] Помню, следовательно, существую. Перефразировка знаменитого изречения Рене Декарта: мыслю, следовательно, существую.
[5] В языческой мифологии река символизирует течение времени, вечность и забвение. Отсюда родственные обороты: кануть в Лету, кануть в вечность, как в воду кануть.
[6] Карт-бланш – здесь: полная свобода действий.
[7] Мой брат по оружию (фр.)
[8] Михаил цитирует Эпикура.
[9] Мой дорогой друг (фр.)
[10] Горностаев дословно повторяет Альберта Камю.
V. Обливион и окрестности. Объяснение
V. Окрестности Обливиона. Объяснение
Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать;
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверять…
Михаил Лермонтов
Наутро после музыкального вечера Звездочадский уехал.
– Не ждите моего возращения скоро. Я обещал вам экскурсию по нашим местам, но боюсь, в ближайшее время буду лишен возможности ее устроить, а оттого препоручаю вас сестре. Она знает окрестности Обливиона ничуть не хуже меня, а как собеседник куда интереснее. Не обманывайтесь ее юностью и кротостью. В седле сестренка сидит не хуже улана, а по части пешей ходьбы легко заткнет за пояс любого пехотинца, час-другой – и вы взмолитесь о пощаде.
С таким напутствием Звездочадский вышел вон.
Я отправился в библиотеку скоротать время среди прохладного безмолвия книг и многозначительного молчания альбомов с гравюрами. Общество мне составили бронзовые статуэтки античных героев, портреты сановитых деятелей да мраморные бюсты мудрецов и писателей. От окон падал палевый утренний свет. У входа дзынькали напольные часы на подставке-колонке: два блестящих диска двигались мимо небольшой прорези, отмечая сочетанием цифр часы и минуты, деревянный корпус украшали фигурки резвящихся амуров.
Я настроился на долгое ожидание, но Январа появилась вскоре, причем полностью одетая для прогулки. На ее ногах были легкие ботфорты с низким широким каблуком, какие обычно используют для верховой езды, тонкий стан охватывало элегантное серое платье с рядом деревянных пуговиц на груди и воротником-стойкой, украшенным рюшью. Изящную головку венчала крохотная кокетливая шляпка.
– Доброго утра, Микаэль, – напевно произнесла девушка. – Как вам спалось?
– Благодарю, спал как убитый.
– Если вы ищите свежие газеты, то слуги обычно кладут их сюда, – Январа коснулась резного бюро красного дерева. Доска его была откинута, а дверцы верхнего шкафчика раздвинуты, создавая пространство для письма. На бюро стояли чернильница и пресс-папье. Рядом замерло в ожидании кожаное кресло на мощных изогнутых ножках в виде львиных лап. – Брат любит работать в библиотеке. После его отъезда мы не стали менять заведенный порядок. Хоть мы с маменькой и не читаем газет, нам хотелось, чтобы все оставалось по-прежнему, будто Габриэль не уехал, а только вышел на минутку и вот-вот вернется. Вы скажете, мы суеверны?
Я покачал головой:
– Моему другу очень повезло с семьей. Любому человеку важно знать, что его ждут.
– А еще маменька устраивает здесь свои спектакли. Габриэль не рассказывал? Она переводит античных классиков, и драматургов современности, и даже сочиняет пьесы сама. Слуги расставляют кругом стулья, задвигают портьеры, зажигают старую масляную лампу, и мы погружаемся в мир чудесных историй. Но что я все болтаю да болтаю! Брат просил показать вам наши места. Вы готовы к прогулке? Я рада компании, ведь маменька не большая любительница выходить из дому, а бродить в одиночестве рано или поздно прискучивает.
Под щебетание Януси мы прошли в большую переднюю, где слуга подал девушке накидку-пелерину, украшенную цельной шкуркой чернобурки, а мне – шинель. Лисица на плечах Януси выглядела совсем как живая: с острой мордочкой, блестящими глазами, лапами с темными коготочками и роскошным пушистым хвостом.
– Это тоже подарок брата? – не сдержал я любопытства.
– Как вы угадали? – удивилась Январа.
– Он сравнил вас однажды с лисой.
– Разве между нами есть сходство?
– Полагаю, Габриэлю виднее. Я слишком мало знаком с вами, чтобы судить, – честно отвечал я.
– Но какое-то мнение у вас сложилось? Мне очень хотелось бы знать, как я выгляжу в ваших глазах.
Януся была серьезна, она смотрела на меня пытливо, чуть склонив голову на бок, нетерпеливо постукивая ножкой, хотя последнее – едва ли осознано. Я поддался ее нетерпению.
– Вы очаровательны своей непосредственностью. Вы кажетесь воплощением стихийных сил – лукавый эльфёнок, дитя природы. Вы естественны, как ветер, как яркий блик на воде, как дождь в лицо. Вас нужно либо принимать сразу, безоговорочно либо не принимать вовсе.
– И что же решили вы?
– Кто я такой, чтобы противиться стихии?
День стоял погожий, напоенный свежестью и солнечным сиянием. Пригревало. Мы миновали туевую аллею с выпрашивающими лакомства белками и вышли за ворота усадьбы. Через сплетение ветвей проглядывали очертания соседних домов, цветные окошки летних веранд, кружевная резьба наличников и фронтонов, печные трубы, блестящие скаты крыш. Мы то поднимались, то пускались в обход выступающих из земли камней, то шли под гору. Вскоре мне сделалось жарко в шинели, я снял ее и перебросил через локоть.
Январа вела меня вдоль реки. По обеим берегам высились могучие стволы деревьев. Ложе реки складывалось округлыми глыбами желтоватых и голубоватых цветов, в которых течение пробило себя путь. Я смотрел, как вода преодолевает каменные преграды, пенясь бурунчиками.
– Обычно Селемн[1] куда уже, – охотно пояснила Януся, перехватывая мой взгляд. – Но теперь весна, в горах тают снега и спускаются к нам, сюда. Ниже по течению есть мост, там мы переберемся на другую сторону.
От быстрой ходьбы девушка разрумянилась, но ее голос оставался размеренным, а дыхание ровным – подъемы и спуски не утомили Январу ничуть. Плавной была походка: девушка точно скользила сквозь воздух. Если бы не стук мелких камешков, отбрасываемых ее сапожками, я бы подумал, что делю тропу с существом, сотканным из эфира и солнечного света.
– Как вам понравился вчерашний вечер? – спросила Януся.
– Никогда прежде не видел ничего подобного, – нимало не покривив душой, отвечал я.
– Вы смеетесь надо мной! Не такие уж мы здесь, в нашей оторванности от мира, дремучие провинциалы. Ни за что не поверю, будто в вашем доме не музицируют! Габриэль рассказывал, у вас три сестры.
Я боялся, что, узнав о болезни моего отца, Январа примется жалеть меня, мне же хотелось видеть в ее глазах восхищение, а не жалость, поэтому я сказал уклончиво:
– У сестер другие увлечения.
– И вы расскажете, какие? Хотя, позвольте, я угадаю сама! Сад? Верховая езда? Благотворительность? Танцы?
Желая избежать дальнейших расспросов и последующей за ними неминуемой лжи, я кивнул.
– А я мечтала бы поездить по свету. Наши мужчины путешествуют много, и по возвращении рассказывают о дальних землях, где все непривычно и странно. Женщинам положен иной удел. Традиции предписывают нам ждать возвращения братьев и мужей и хранить очаг. Но как же это несправедливо: мир меняется, а мы по-прежнему следуем заветам, выдуманным столетия тому назад! – от избытка чувств Январа тряхнула своими черными кудряшками.
Я вдруг понял, чем могу удивить эту необыкновенную девушку. Ведь если для меня была в новинку родина Габриэля, то Январе могли показаться увлекательными мои родные места. И я принялся рассказывать про отчий дом и старый парк, про речку Бобровку, перегороженную запрудой и разлившуюся в целое озеро, хорошо видное из окон нашего имения. Я говорил про закаты, отражавшиеся в зеркале водной глади, про старенький, местами прогнивший причал, где летом мы садились в лодку, чтобы покататься по отраженным небесам; про церковь на пригорке, где нашли упокоение мои предки, и где когда-нибудь буду лежать и я, внимая колокольному звону и шелесту берез.
Януся завороженно слушала, и неподдельное восхищение на ее очаровательном личике заставляло мое сердце биться сильнее. Тем временем мы дошли до моста. Я ожидал увидеть грандиозное сооружение, подобное стене, однако оказался разочарован. Мостом были всего лишь шаткие деревянные мостки, наведенные через поток и требующие немалой ловкости от желающих их преодолеть.
Пользуясь возможностью оказаться ближе к Янусе, я подал девушке руку, на которую она оперлась больше из вежливости, нежели по необходимости. По мосткам она шла, ни разу не покачнувшись. Я сошел с досок первым и, шалея от собственной смелости, подхватил Январу за талию и поднял. Ее лицо в ореоле черных кудряшек заслонило от меня солнце, и это было хорошо и правильно, потому что отныне моим солнцем была она.
– Ах, Микаэль, как же с вами легко, как отрадно! Будто я знаю вас целую жизнь! И отчего мой брат не приглашал вас прежде? Непременно попеняю ему!
Януся положила руки мне на плечи, пелерина ее распахнулась, и я почувствовал жар крепкого молодого тела. Ощущение длилось всего миг, пока я не поставил девушку на землю, но дальнейший путь я шел точно пьяный, точно именно этого мига мне недоставало, чтобы окончательно и безнадежно захмелеть вином, имя которому Январа.
У едва заметной тропинки между деревьев девушка остановилась.
– Мы можем продолжить путь вдоль течения Селемна, это дорога к городу. Там пахнет ванилью и кофе, сверкают витрины, по тенистым аллеям чинно вышагивают горожане. Если же теперь свернем, то выйдем звериными тропками на вершину Кабан-горы. На вершине сохранились развалины цитадели, где в незапамятные времена жили наши предки. Близ руин выходят из земли родники. Там обязательно нужно смотреть в оба, чтобы не провалиться в какое-нибудь подземелье и не достаться на ужин лепреконам.
Мне показалось, что самой девушке не хочется мерить шагами ровные аллеи, поэтому раздумывал я недолго:
– Отложим город на потом? Такой чудесный день хорошо провести в единении с природой.
Январа кивнула и свернула на тропинку, оставляя реку в стороне. Мы углубились в лес. Мягкий покров прошлогодней листвы пружинил под ногами, сквозь него пробивались острые молодые травинки. На ветвях деревьев набухли готовые вот-вот прорваться почки. Я узнал рябину и березу, по оставшимся с осени семенам нашел ясень и по мощным, выпирающим из земли корням, дуб. То тут, то там между стволов мелькали покрытые мхом скалы. Дорога забирала вверх. Порой мы выходили на каменные площадки, свободные от всякой растительности, откуда можно было обозревать окрестности и ориентироваться, как далеко мы продвинулись.
На одной из таких площадок Январа указала вершину в значительном отделении от нас. Гора была невысока, склоны и гребень ее густо поросли лесом.
– Вот она, наша цель. Не правда ли, гора похожа на прилегшего отдохнуть кабана? Здесь пятачок, выше – уши, а вдоль горизонта пролег изгиб хребта.
Девушка принялась очерчивать контуры воображаемого зверя, но сколько я ни приглядывался, мне не удалось его разглядеть. Для меня любая гора представлялась массой земли, зачем-то вообразившей себя волной и поднявшейся на дыбы, а все волны на одно лицо.
– Мы ищем сходство гор со знакомыми вещами, – пояснила Януся. – Когда вы привыкните к этому, то сможете угадывать их названия либо именовать по-своему. Взгляните, высокий и узкий пик слева от Кабана напоминает Кинжал, а тот, что справа похож на Клык, дальше высится Улей, чья толща которого изрезана пещерами и гротами, а эти два шарика, поставленные один поверх другого, словно Кукла-кувыркан, которую как ни бросай, все равно встает на ноги. Есть еще Кокон, и Замок, и Свеча, на чьей вершине в день летнего солнцестояния догорает закат.
– Помилосердствуйте, столько имен мне не запомнить вовек!
– Не переживайте, с вершины Кабана горы видны куда лучше, я покажу еще раз. Если утомитесь дорогой, не молчите, мы всегда можем повернуть обратно.
– На дневном марше мы проходили значительные расстояния при полной амуниции, с шашкой у пояса и винтовкой за плечами. Смею надеяться, необходимая закалка у меня имеется, – я немного лукавил, потому что обычно ехал верхом, но то была невинная ложь, вызванная желанием понравиться Янусе.
– Никак не привыкну к тому, что вы военный, как и брат. Габриэль верно говорил вам, что у нас военных? И армии тоже нет. Кинжалы носят все, от мальчишек до стариков. Если один сосед зарежет другого, разбирается сельский староста либо градоначальник, а кто не согласен, идет за решением к стражам, чья воля сомнению не подлежит. Мальчишкой Габриэль отличался обостренным чувством справедливости, он мечтал сделаться стражем. Однако единственная тому возможность – это иметь родича среди стражей, который дал бы свое ручательство. У нас в роду стражей нет, поэтому брат выбрал карьеру военного.
– Армия много приобрела в нем, Габриэль наш лучший разведчик. Мы зовем его Смертоносная Ночная Тень.
– Deadly Nightshade? А знаете, ему подходит. Так еще называют белладонну, цветок колдовской силы и магии. Будь у брата герб, ему стоило бы изобразить на нем этот цветок. Для своего герба я бы выбрала мак – символ воспоминаний и снов. А вы, Микаэль? Какое прозвище у вас?
– Я не отличился настолько, чтобы заработать прозвище. Я обычный унтер-офицер, каковых довольно много в армии.
– Вы производите впечатление человека мужественного и смелого. брата говорит, вы всегда на передовой. Вы, верно, многое повидали на войне? Я слушала вчера рассказы Габриэля и ваши рассказы тоже. Скажите, вам доводилось убивать? Хотя, я сболтнула нелепость, разумеется, доводилось. Ответьте лучше, каково это – знать, что в твоей воле оборвать жизнь другого человека? Каково чувствовать власть над другими, знать, что одним мановением способен повергнуть человека в прах или вознести к небесам, что можешь отобрать приглянувшееся – самое светлое, самое ценное, и никто – никто! – не станет на твоем пути. Всемогущество – величайший соблазн, которому нельзя противиться.
К такому повороту беседы я не был готов и оттого медлил, тщательно подбирая слова.
– Вы правы, право казнить или миловать – страшная власть, которая делает нас равными самому Господу. Грешно и опасно сосредотачивать ее в несовершенных человеческих руках, но, увы, убийства на войне неизбежны.
– Оно меняет? Совершенное убийство? Как женщины делят свою жизнь на до и после замужества, различают ли мужчины до и после того, как выучатся убивать?
– На войне нет времени об этом думать. Ты просто делаешь, и все. А дальше можешь изводить себя запоздалым раскаянием, а можешь принять это в себе и жить дальше.
– А вы, вы приняли? Расскажите, как случилось у вас? В самый первый раз?
– Но право, Януся, зачем вам это нужно? – искренне изумился я.
– Хочу знать о жизни всё, темные и светлые ее стороны. Брат любит меня, однако относится точно к оранжерейному цветку – бережет от малейших невзгод. Но я не цветок. Я гораздо сильнее, чем вы можете себе представить.
Она была так молода и говорила с горячностью, свойственной юности. В ней я узнавал себя до войны. Я тоже был категоричен. Хуже того, подобно средневековым схоластам, ставящим землю в центр вселенной, я полагал, будто события в мире происходят исключительно для того, чтобы вознаградить либо испытать меня на прочность. Война показала всю наивность моих воззрений. Трудно считать себя центром мироздания, когда в любую минуту можешь получить пулю в лоб. Война же отучила меня делить людей и события на черное и белое. Я принял существование меньшего зла, оставив незамутненное добро страницам книг. Но это был не тот опыт, которым я стал бы делиться с Январой.
– Мои воспоминания не для ваших нежных ушек. Вам ни к чему знать такие вещи.
Януся отступилась.
– Тогда поведайте про своих родных. Ваши сестры, какие они? Они серьезны или беспечны? Какие наряды им к лицу? Носят ли они перья и кружева или одеваются строго? Также ли они хороши, как кузина Ангелика? Схожи ли со мной сложением или манерами?
Она затронула мое уязвимое место. О сестрах я мог говорить бесконечно!
– Они самые лучшие на свете! Старшая, Аннет, ведет дом. Это самая рачительная хозяйка, какую только можно себе представить. Она одевается очень просто, чтобы за день обежать тысячу мест. Ее ботинки скорее прочны, чем красивы, ее любимый цвет – темно синий, оттого что грязь на нем не видна, ее платья очень просты. Тем, кто ее не знает, Аннет может показаться строгой, но я частенько слышал, как она поет за работой. Натали младше Аннет на год, у нее поистине волшебные руки: она может прикоснуться к любой вещи, и та превратиться в нечто чудесное. Натали обожает вышивать, плетет тончайшие кружева, пишет акварели. Самая младшая из сестер Александра, ей недавно исполнилось двенадцать. Я помню ее мечтательницей. В теплые дни Сандрин не покидает качелей, раскачивается так высоко, что сердце замирает, и воображает себя птицей. Она вплетает в косы цветы, обожает яркие ленты и перья.
Пока я говорил, лица сестер представали передо мной, точно въяве. Я понял, что тоскую по ним, по их голосам, по милым улыбкам, по их неподдельной заботе. Я вспомнил, как они собирали меня в армию и наказывали писать письма. Вспомнил, как старались удержаться от слез, но плакали все равно, отговариваясь ветреной погодой.
– Вы так замечательно рассказываете! Я бы хотела еще послушать про вашу семью, а лучше – увидеть ее вашими глазами, – Януся приблизилась ко мне вплотную, поднялась на цыпочки и обхватила мое лицо ладонями. – Вы согласны?
– Что?
Я не мог думать ни о чем, кроме тепла ее рук на своих щеках, не видел ничего, кроме бездонной синевы ее глаз.
– Доброй волей и без принуждения…
Ее глаза заслонили собой мир, и мир, отраженный в них, сделался единственным настоящим. Губы цвета выдержанного вина были так близко от моих, что я мог попробовать ее шепот на вкус.
– Согласен, – отвечал я, толком не понимая, о чем и главное – зачем она спрашивает.
– Повторите еще раз!
– Согласен.
– И еще.
Я повторил. Мои мысли принадлежали не мне, а этой темноволосой сильфиде. И тогда она поцеловала меня. И это было обжигающе.
После мы шли той же звериной тропой, но мир вокруг переменился до неузнаваемости: он искрил и переливался всеми цветами радуги, оглушительно звенели птичьи трели, тропа стала рекой, что несла нас легко и беспечно.
Мы остановились у старой цитадели, где долго бродили среди поросших вековыми деревьями развалин. В замшелых камнях лишь при очень большом воображении можно было разгадать остатки стен. Пока ветви не оделись листвой, а земля – травяным покровом, камни виднелась отчетливо, и можно было ступать без опасения угодить в разлом или яму. Однако Януся все-таки споткнулась, я попытался подхватить ее, но оступился тоже, и мы упали на теплую землю, в шуршание листвы и хруст веток, в змеиные сплетения древесных корней. Перепачкались и долго отряхивались, смеясь над собственной неуклюжестью. И наше совместное падение, смешное, нелепое, сблизило нас куда больше слов.
Мы оставались на Кабан-горе до вечера, до того особого часа, когда ветви и абрисы стволов, и контуры облаков, и птичьи крылья на просвет загораются мягкой позолотой. Тогда мы вернулись из леса к реке и по ее течению направились в Небесный чертог.
На полпути Януся взяла меня за руку, вынуждая остановиться.
– Микаэль! Я знаю о вашей дружбе с братом. Верно, у вас нет тайн друг от друга. Но я хочу просить вас пока не рассказывать Габриэлю ничего о нас, – она смущенно потупила глаза.
Я не понимал, отчего она просит о молчании. Я был счастлив и хотел кричать о своем счастье взахлеб. Я подумал, что она, возможно, сомневается в моих чувствах, и принялся уверять:







