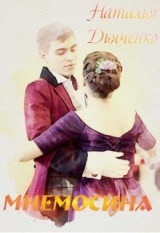
Текст книги "Мнемосина (СИ)"
Автор книги: Наталья Дьяченко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
– Кажется, наша девочка глянулась его сиятельству. Не могу не радоваться этому интересу, Магнатский отличная партия. Из зрелых, повидавших жизнь мужчин получаются примерные семьянины.
Все время танца она не переставая расписывала мнимые и действительные достоинства князя: его приятность в обхождении, изысканные манеры, утонченный вкус, древность рода и обширность владений. Невзирая на расположение к матери Звездочадского, я с трудом дождался окончания танца, после чего поспешил проводить Пульхерию Андреевну на место. Вознаграждением за мое терпение стал вальс, на который мне удалось позвать Янусю. В движениях девушки мне почудилась некая рассеянность, точно, доверив телу делать выученные движения, она разъединилась с ним мысленно и унеслась далеко-далеко.
– Позвольте узнать, о чем вы мечтаете? – спросил я.
Она тряхнула своей темной головкой:
– Право же ни о чем, стоящем вашего внимания. Vanitas vanitatum[2], девичьи глупости.
– Быть может, вы желаете передохнуть?
– Нет-нет, я не устала ничуть. Даже на моем первом балу мне не было так хорошо. Помню, я очень смущалась тогда, все думала, ладно ли сидит платье, к лицу ли прическа, беспокоилась о множестве совершенно неважных вещей. Ныне я свободна от переживаний и могу полностью отдаться веселью. Я желала бы кружиться всю ночь напролет, и танцевать, и смеяться, и флиртовать. Но не вздумайте обижаться на меня! Как всякая женщина, я обожаю балы: люблю наряжаться и вдохновлять, люблю слушать комплименты, люблю плыть среди шумного людского потока, отдаваясь его течению. Кто знает, куда он увлечет меня на сей раз? К каким людям, к каким событиям? Ах, до чего все это волнительно!
Она говорила, им на устах ее лежала мечтательная улыбка, а в глазах отражались отблески озарявшего залу света. Я любовался ею, но к восхищению примешивалась горечь неминуемой разлуки. Повинуясь порыву, я спросил ее о том, о чем не хотел, не имел никакого права спрашивать. Однако помимо воли слова сорвались с моих уст и прозвучали прежде, чем я приказал себе молчать:
– Вы будете ждать меня, Януся?
Девушка помедлила с ответом:
– Больше всего на свете я бы желала сказать вам «да», ведь завтра вы покинете нас. Я знаю, что буду скучать, беспрестанно думать о вас. Но я боюсь загадывать наперед. Я воспитана в почтении к Божьей воле, коли Он судил нам быть вместе, значит, так оно и случится.
Ее ответ был радостен для меня.
Еще дважды я улучил возможность танцевать с Янусей: опять вальс и игривый котильон-ручеек, когда мы, взявшись за руки, проскальзывали под аркой, образованной руками других пар. Дальше я уже не мог приглашать ее, не нарушая приличий. Из вежливости я звал других барышень и дам, желая доставить им приятное и оправдывая таким образом свое присутствие в бальной зале, однако больше стоял возле колонн, смотря, как танцует Януся. Моя легкокрылая сильфида точно скользила по воздуху, не касаясь паркета. Ее исполненные неизъяснимой грации движения, гибкий стан, маленькие ступни, тонкие ключицы, изящная, увенчанная короной темных кудрей головка – все в ней пленяло юностью и свежестью, зыбким очарованием первой весны.
Пока я так наблюдал, ко мне подошел Горностаев. Он прислонился к одной из колонн, скрестил руки на груди. Движения его были развинченно-небрежны, от него исходил сильный запах вина.
– Январь праздничный месяц, но ведь там, откуда вы родом, самые сильные морозы январские, а бог Янус всегда двулик, – пробормотал он будто бы самому себе, но явно надеясь и принимая все меры к тому, чтобы быть услышанным мною сквозь неумолкающую музыку.
– Что вы хотите этим сказать? – больше из вежливости переспросил я. В действительности меня мало интересовал ход мыслей Горностаева.
Он, однако, обрадовался вопросу. Губы его вскрыла неприятная усмешка, наружу выставились острые, мелкие, как у хорька, зубы.
– Одна сестра не лучше другой. Януся пользуется несомненным успехом. То всюду ходила с вами, теперь улыбается и кокетничает с Магнатским.
Януся и все, с нею связанное, было для меня святыней. Даже мысленно я не позволял себе думать о сестре Габриэля иначе, как с благоговением, а уж тем паче судить ее на словах.
– Я не хозяин Январе Петровне. Она вольна танцевать с кем пожелает, и это не касается ни меня, ни вас – холодно отвечал я, надеясь отбить у Горностаева интерес к продолжению беседы. Однако мои старания пропали втуне.
Горностаев оторвался от колоны, приблизился ко мне вплотную, отчего запах вина сделался нестерпимым.
– Да опомнитесь наконец! Неужели вы не видите, что вас дурят? Это же всеобщий заговор. Я единственный здесь не вру, потому как не верю в традиции и прочие анахронизмы. Я иду в ногу с наукой поболее, чем этот доморощенный философ Разумовский. Вы же умный человек, я подкину вам пищу для размышления. Пять лет назад Звездочадские стояли на грани разорения. Петр Пантелеевич был страстный игрок, после своей смерти он оставил семье лишь долги и ничего больше. Спросите вашего друга, чем он расплачивается с кредиторами? На какие средства его матушка ставит свои низкопробные пьески, а сестра устаивает музыкальные вечера? Как они рассчитываются за наряды от Жоры и Жоржа, как содержат слуг? Попросите Габриэля припомнить самые яркие из армейских историй, какими он бахвалился на днях. Перечитайте свои дневники, наконец! И тогда, быть может, вы начнете что-нибудь понимать.
Я не намерен был доле выслушивать гнусные измышления этого субъекта, а потому довольно резко оборвал его:
– Вы пьяны!
– Разумеется, пьян, иначе зачем бы мне являться сюда? Чтобы взирать на голые плечи дам, выставленные напоказ, точно туши в лавке мясника? Или расточать комплименты Арику с Лизандром, ровно таким же манером выпячивающими напоказ таланты? Увольте! Положим, у меня нет своих талантов, ну так я и не хвастаю чужими. Знаете, что я заметил? Люди, говоря о себе, начинают со слова «порядочный», но дальше, там, где по логике вещей должно следовать определение «подлец», они упорно твердят «человек». Я на титул порядочности не претендую ничуть, однако звание человека предпочел бы за собой сохранить. И по-человечески даю вам совет: бегите отсюда, бегите как можно дальше, бегите, пока не стало поздно, пока никому не пришло в голову воспользоваться вашим поистине блаженным неведением. Здесь живут только богачи, прочим в Мнемотеррии уготован один исход – Оblivion. Разница лишь в том, раньше это случится или позже.
– Я решительно не понимаю вас, – отвечал я. Мне был неприятен этот тип, оскверняющий нелепыми обвинениями Габриэля и его семью. – Как вы смеете оскорблять людей, которые называли вас другом и принимали у себя в доме? Ни слова больше, не то я буду вынужден требовать от вас удовлетворения на дуэли.
Моя угроза произвела на Горностаева отрезвляющее воздействие. Он беспокойно заозирался, голова его втянулась в плечи, словно улитка в раковину:
– Вот ведь нелепица какая. Я всего-навсего хотел открыть вам глаза, но вы, как и всякий слепец, отчаянно упорствуете в своей слепоте. Я умолкаю, дабы не быть застреленным либо самому не пристрелить человека, которого пытался предостеречь от беды. Вы не находите в том иронии судьбы? О, она куда большая насмешница, чем я. Приношу свои извинения.
Горностаев преувеличенно почтительно поклонился и смешался с гостями. Однако наш разговор имел весьма неприятные последствия. Тот самый страж, что сидел за столом рядом с Ангеликой, теперь обнаружился подле меня. От него веяло пороховым дымом и угрозой.
– О чем вы разговаривали? – спросил этот господин.
Мне был неприятен его вопрос и требовательный, не терпящий возражений тон, каким он был задан, тем не менее я отвечал:
– Дмитрий Константинович пьян, вот и несет ахинею.
– Я желал бы знать, в чем она заключалась. Ваши соображения мне безынтересны, я сам решу, ахинея то или нет.
– Как офицер и дворянин, я отказываюсь осквернять себя повторением его речей. Они оскорбительны для близких мне людей.
К этому моменту музыка, что сопровождала нашу беседу, умолкла, отчего мои слова и отказ прозвучали вполне отчетливо, исключая превратное толкование, и все же страж переспросил:
– Отказываетесь?
– Да, решительно и бесповоротно.
– Повторите-ка еще раз.
Порядком раззадоренный Горностаевым, я с трудом удержался в рамках обычной вежливости:
– Да что тут может быть неясного? Я же сказал вам, что…
– По какому праву вы пытаете моего друга? – прогремело рядом.
Точно ангел возмездия, за мною стоял Звездочадский. На его лице просматривалось то самое выражение гнева, которое я уже имел возможность наблюдать, когда он принес в штаб газету со статьей Писяка: та же меловая бледность, тот же перекошенный рот, те же горящие праведным гневом глаза.
– Я имел возможность уловить обрывок беседы между вашим другом и господином Горностаевым, – без зазрения сознался страж. – Долг службы велит мне выспросить вашего приятеля об обстоятельствах услышанного.
– Вы путаете служебное рвение с собственными амбициями. Не думаю, чтобы служба стояла превыше хорошего воспитания. Или полагаете, традиции писаны не для стражей? Михаил мой гость, так что коли хотите знать, спрашивайте с меня. А я, со своей стороны, полностью доверяю его порядочности и готов подтвердить вам любые его слова.
– Вашего свидетельства недостаточно.
– Вы ставите под сомнение мою честность? Здесь, в присутствии всех этих людей вы заявляете, будто я недостоин доверия? Вы переходите грани дозволенного, я требую немедленных извинений!
Оба – и страж, и Звездочадский, были предельно напряжены. Я легко мог вообразить проскакивающие между ними искры, от которых, будь они материальны, бальную залу в мановение ока охватило бы пламя. Разговор на повышенных тонах вызвал неизбежный интерес окружающих. В нашу сторону принялись оборачиваться.
– Не собираюсь извиняться за надуманные обвинения, какие вам было угодно вложить в мои уста, – отчеканил страж. Ноздри его раздувались, как у породистого скакуна, близ губ обозначились тонкие резкие морщины.
– В таком случае потрудитесь дать мне удовлетворение. Временем передоверять дело секундантам я не располагаю, поэтому жду вас завтра в семь часов утра на выезде из Обливиона, там, где стоит сожженный молнией дуб.
– Коли вам угодно стреляться, извольте. Завтра в семь я к вашим услугам, – коротко кивнул страж, принимая вызов.
Точно дожидаясь окончания этой ссоры, доселе молчавшие музыканты грянули вальс. Замелькали бархат и шелка, заскользили туфли по паркету, заискрились в сиянии люстр и газовых рожков драгоценности – остановившийся было мир закружился вновь.
Едва страж отошел, я приступился к Звездочадскому:
– Ну, скажите на милость, Габриэль, к чему вам понадобилось вызывать этого господина?
Ночная Тень подхватил меня под руку и повлек прочь из бальной залы. Мы миновали анфиладу гостиных, где по стенам было развешано оружие и картины, где стояли накрытые столы, а гости спорили, делились сплетнями, играли в карты или в бильярд.
Оставив шум и свет позади, Звездочадский остановился.
– Если бы не мое вмешательство, вы бы опять ответили отказом, и это развязало стражу руки. Согласно традиции, при троекратном отказе он имеет право принимать любые меры для установления истины. Я избавил вас от весьма унизительной процедуры допроса. Лучше ответьте, зачем вам вообще вздумалось выгораживать этого шута горохового Горностаева?
– Не просите у меня того, в чем я только что отказал стражу. Коли приметесь настаивать, я откроюсь вам, но умоляю этого не делать. Причина будет неприятна нам обоим.
Такое объяснение удовлетворило моего приятеля, он отступился.
– Алчность до чужих тайн не к лицу офицеру имперской армии. Пусть ваши секреты остаются при вас. Скажите лучше вот что: вы будете моим секундантом?
– Почту за честь. Вы вызвали стража, чтобы оградить меня от его назойливости, и посему я даже обязан им быть.
– Не принимайте на свой счет. Стражи для мнемотеррионцев давно уже стали чем-то вроде священной коровы, вот и шалеют от собственной вседозволенности. Как по мне, им давно пора устроить хорошую взбучку.
Задыхаясь от быстрой ходьбы, к нам подошел Лизандр. Лицо его было взволновано, на висках блестел пот, галстук-бабочка сбился на сторону.
– Габриэль, скажите, что это неправда! То, о чем толкуют в бальной зале, будто бы вы вызвали на дуэль стража стены. Я всегда знал вас за человека отчаянного, но вы никогда не были безумцем.
Звездочадский небрежно передернул плечами:
– Мы стреляемся завтра в семь утра, потому как в десять нас с Михаилом ожидает извозчик.
Лизандр ухватил Габриэля за руку:
– Еще не поздно отказаться! Я знаю, вы не станете извиняться, но я готов извиняться от вашего имени. Хотите, буду вашим секундантом? Я все улажу.
– Я благодарен вам за участие, однако секундант у меня уже есть.
Ночная Тень взглядом указал на меня. Лизандр покачал головой:
– Вы не понимаете. Вам никак нельзя стреляться. Я же видел, видел его!
– Мы все его видели. Обычный фанфарон, с которого завтра я собью спесь, что только пойдет ему на пользу.
– Да не о страже я говорю! Вспомните, господин в черном, намалеванный на полях книги. Он стоял передо мною ближе, чем вы сейчас. При желании я мог бы его коснуться, но избавь меня Бог от таких желаний! Его плащ развевался на ветру, хотя вся загвоздка в том, что день был безветренным. Его глаза, локоны, пепельно-серая кожа – все в нем дышало нездешним холодом, будто где-то отворили дверь в никуда.
В плаще цвета пепла, с кудрями, как прах,
С насмешкой извечной на бледных устах,
С перстнями, где жемчуг, рубина, сапфиры
Напитаны ядом, как небо – эфиром,
В стихах и преданьях, и в росписи стен,
И в страхах людских он запечатлен,
Не знает покоя, но дарит покой,
Знаком всем живым, но едва ли живой.
Легка его поступь, шаги неслышны,
Ему не преграда ни время, ни сны,
Ни стены дворцов, ни решетки темниц
Не сдержат его – он не знает границ.
Как вечность незыблем и неутомим,
Ни страсть, ни сомненья не властны над ним.
Не застит глаза его блеск серебра,
Мольбы не смутят ледяного чела.
От дня сотворенья к скончанью веков
По льдам и проливам, сквозь зыбь облаков,
Сквозь солнечный свет и кромешную тьму
Вершит он свой путь. Не спастись никому.
Лизандр трясся мелкой дрожью. Габриэль взялся его успокаивать:
– Вы, поэты, чересчур впечатлительны. Михаил подтвердит, я отличный стрелок, не мне, а стражу надлежит бояться. В отличие от меня, он не имеет опыта боевых действий. Пистолет для него – красивая игрушка. Но я не стану его убивать, ведь это все равно, что избивать младенцев. Ну, ну, не переживайте вы так! Идемте-ка лучше танцевать!
[1] Имеется ввиду Альмагест Птоломея.
[2] Суета сует (лат.)
XI. Дуэль. Видение смерти
XI. Дуэль. Видение смерти
Я верно болен: на сердце туман,
Мне скучно все, и люди, и рассказы,
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.
Мне чудится (и это не обман),
Мой предок был татарин косоглазый,
Свирепый гунн… я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян.
Молчу, томлюсь, и отступают стены -
Вот океан весь в клочьях белой пены,
Закатным солнцем залитый гранит,
И город с голубыми куполами,
С цветущими жасминными садами,
Мы дрались там… Ах, да! я был убит.
Николай Гумилев
Я не разделял беспечности Звездочадского относительно предстоящей дуэли, однако, зная своего приятеля не первый год, не пытался отговаривать его. Ночная Тень уже закусил удила, чтобы остановить его теперь требовались аргументы поувесистее пушечного ядра. Увещевания Лизандра пропали втуне, от беспокойства матушки и сестры Габриэль отмахнулся:
– Отказаться? Чтобы меня, боевого офицера, считали трусом?
Утром Ночная Тень был абсолютно спокоен. Строгий и значительный в своем темно-синем мундире, застегнутом на все пуговицы и туго перепоясанном, в идеально отутюженных брюках с лампасами, из-под которых видны были шпоры сапог. Домашние провожали нас тревожным молчанием. Лицо Пульхерии Андреевны было влажно, глаза покраснели.
Звездочадский крепко обнял мать и поцеловал в лоб:
– Не беспокойтесь, матушка, это не первая дуэль в моей жизни, она не стоит ваших слез. Честь – вот, о чем следует печься. Как говорят у нас в армии, душа – Богу, сердце – женщине, долг – Отечеству, честь – никому![1]
– Береги себя, – напутствовала брата Януся, – И вы, Микаэль, уж присмотрите за Габриэлем.
Я обещал, хотя от моей воли в предстоящем деле зависело немногое.
За воротами усадьбы нас дожидался Лизандр. Он сказал так:
– Габриэль, хотя у вас уже есть секундант, позвольте мне ехать с вами.
Ночная Тень усмехнулся:
– Вы, верно, проситесь в нашу компанию, чтобы и дальше продолжить меня отговаривать. Но вы напрасно полагаете, будто я не сознаю грозящей опасности. Однако именно страх смерти обостряет в нас ощущение собственного бытия. Только вообразите: когда-нибудь в далеком будущем настанет время, когда войны прекратятся, враги будут повержены, а всеобщее благополучие достигнуто. Что за золотой век наступит тогда! Один счастливый день будет сменять другой. Люди перестанут опасаться не успеть, не доделать, не досказать, примутся откладывать первостепенное на потом, прекратят стремиться и желать, поскольку желать станет попросту нечего. И в этом золотом коконе всеобщего благоденствия они увязнут прочнее, чем мухи в меду. Право, что за тоска смертная – жить в вечном покое! Верно, эта тоска и заставила нашу праматерь Еву принять от змея его коварный дар. Сегодня меня могут пристрелить, так что будьте любезны, исполните мою просьбу: поезжайте к матушке и сестре, они вас любят. Побудьте с ними до моего возвращения aut cum scuto, aut in scuto[2].
Своей речью Габриэль не оставил Лизандру путей к отступлению. Отказать его просьбе мог разве что самый черствый человек. Пиит, скрепя сердце, направился к усадьбе, а мы продолжили путь. Солнце только показалась над вершинами гор, когда мы въехали в Обливион. Улицы города были безлюдны. Копыта наших коней гулко стучали по мостовой, этот звук разносился далеко в утренней тишине. Ночью шел дождь, отчего строения и ограды, деревья, камни подернулись золотистой дымкой испаряющейся на солнце влаги.
Близ одного из домов Габриэль спешился. Дом был двухэтажным, с яркой росписью по фасаду и деревянными ставнями, покрытыми затейливой резьбой. У входа росли кусты сирени, чьи ветви, стоило ненароком задеть их, осыпались недавним дождем. В гуще листвы отчаянно чирикали мокрые взъерошенные воробьи. На стук вышел человек, так скоро, как если бы он ждал сигнала. Незнакомец был худ, долговяз, большеголов, с длинными руками и широкими квадратными ладонями.
– Вы получили мою записку? – спросил Звездочадский и, дождавшись утвердительного ответа, представил хозяина дома. – Михаил, это доктор Горчаков. Он любезно согласился поехать с нами и засвидетельствовать соблюдение традиций, а также оказать первую помощь, буде то потребуется.
По тому, как прозвучала эта фамилия – Горшяков вместо Горчаков, я понял, что Габриэль волнуется, хотя его показная бравада обманула даже меня. Дальше мы поехали втроем. Молчание, неизбежное между едва знакомыми людьми, усугублялось причиной нашего объединения. После выезда из города булыжная мостовая сошла на нет, и порядка четверти часа мы скакали по утрамбованной сотнями колес и копыт земле, пока Звездочадский наконец не дал знак остановиться.
– Это здесь? – спросил я, озираясь по сторонам и не находя пригодного для дуэли места, не находя вообще ничего, кроме густо растущего кустарника, россыпей валунов да древесных стволов.
– Рядом, – утвердительно кивнул Ночная Тень.
Мы привязали коней в подлеске и углубились в заросли, сквозь которые вела едва заметная тропа. Зеленый полог леса сомкнулся над нами, под ногами зачмокала влажная земля, зазвенела капающая с деревьев вода. Наша одежда вскоре намокла, напитавшись от веток, которые приходилось отодвигать с пути и которые точно вознамерились во что бы то ни стало остановить нас. Влага оседала на лицах и волосах, лезла щекочущими струйками за воротники. Тропа вывела нас к россыпи поросших мхом и лишайником камней, откуда пробивалось не меньше десятка родников, прозрачных как слеза, и холодных до ломоты. Они то задорно выпрыгивали из-под мха, то вдруг ныряли обратно, точно играя в прятки. За родниками отвесно вверх вздымались две скалы, между которыми виднелся просвет.
Пройдя этим каменным коридором, мы очутились на скальной площадке не больше тридцати шагов в поперечнике, покрытой яркими пятнами лишайников. В трещинах породы росли цветы и трава. Близ края площадки высился дуб. Ориентира приметнее сложно было себе представить. Дуб пострадал от удара молнии. От некогда мощного ствола остался полый внутри круг древесины с уходящими в землю обугленными корнями да тонкая стенка в три человеческих роста высотой, и, верно, полтора аршина шириной, смотрящаяся столь же печально, как смотрятся остовы печей в уничтоженных огнем деревнях. Изнутри дерево было выжжено до черноты, однако снаружи его покрывала вполне живая кора, а на единственной сохранившейся ветке колыхались молодые листочки.
– Весьма символично, не правда ли, – услыхал я голос Звездочадского, – стреляться подле этого дуба, подающего удивительный пример жизнелюбия. Другой на его месте давно покорился бы своей незавидной участи, этот же инвалид от ботаники упорно цепляется за жизнь: летом его листья кропотливо сбирают солнечный свет, а по осени между корней можно отыскать упавшие желуди. Мальчишкой я и впрямь подбирал их, надеясь вырастить свой собственный дуб, однако злой рок довлел надо мной: то росток забивали сорняки, то затаптывал нерадивый садовник.
Звездочадский отер мокрое лицо обшлагом рукава, достал портсигар, закурил. Я последовал его примеру. Мир вокруг дышал умиротворением и покоем. Солнце золотило макушки деревьев, шелестела листва, щебетали лесные птахи, на границе слышимости различалось журчание ручейка. Светлое утреннее небо постепенно наливалось синью, по нему неспешно ползли белые крутобокие облака.
– Вы твердо решили стреляться или допускаете возможность уладить дело миром? – спросил Горчаков Ночную Тень.
– Отчего же нет? Кабы страж обязался принести публичные извинения, полагаю, возникшее недоразумение разрешилось бы. Но вы знаете этих господ не хуже меня, они ни за что не пойдут на мировую. А вот, кстати, и они.
В просвете между камней появился страж, следом – его секунданты. Как и Звездочадский, страж облачился в одежду, которая вне всякого сомнения была форменной: лососевого цвета кафтан, синие штаны и широкий узорчатый пояс. Спутники стража выглядели обычными горожанами: одеты добротно, но без изысков, примерно одинакового роста за тем лишь исключением, что первый был покоренастее да поплотнее, а второй посуше. Все, какие ни есть волосы коренастого сосредоточились в его густой бороде, зато голова была абсолютно, без примесей лысой. Сухощавый мог гордиться длинными усами; он тоже начал лысеть, а оттого остатки волос старательно начесывал на образовавшуюся плешь.
Мы обменялись приветствиями. Бородач извлек из кармана видавший виды носовой платок и принялся отирать с лысины влагу. Горчаков вновь спросил о возможности примирения, которую страж решительно отверг. И страж, и Звездочадский были подчеркнуто вежливы, отчего еще острее ощущалось повисшее между ними напряжение.
Усач и Горчаков поочередно проверили и зарядили пистолеты. Я уже имел возможность любоваться ими в усадьбе. Как и все оружие в Мнемотеррии, эти пистолеты, хранящиеся на единственный случай – ради дуэли, и могущие быть использованы только однажды за целую жизнь либо не использованы вовсе, имели вид произведения искусства. Однозарядные, с зеркально-гладкими стволами, с костяными рукоятями, где в причудливых узорах переплетались звери и растения. От времени кость приобрела благородный желтоватый оттенок, однако спусковой механизм работал идеально.
Мы с бородачом взялись размечать площадку. С каждым шагом во мне разрасталось ощущение неправильности происходящего. Время вокруг замедлилось, я двигался словно во сне, наблюдая себя со стороны: вот я становлюсь в центр, вот отсчитываю по камням шаги: первый, второй, и пятый, вот опускаю наземь найденную здесь же корягу, отмечая границу, где станет мой приятель. Я не мог видеть, но знал наверное, что позади меня секундант стража точно также отмеряет шаги и обозначает незримую черту, возврата от которой уже не будет. Мною точно овладела некая злая сила, не позволяющая свернуть с назначенного пути, сколь бы я сам ни желал обратного. И я чувствовал, будто непременно должен освободиться из этого плена, что-то предпринять, однако никак не мог найти весомой причины к действию.
Между тем Габриэль и его противник заняли отведенные им места по краям площадки и по сигналу Горчакова принялись сближаться. За спиной Габриэля мрачной тенью вздымался остов сожженного дерева. Чем ближе к центру подходил Звездочадский, тем выше делалась тень за ним. Мне вспомнилась игра в фанты у Аполлоновых, предсказание Сибель, стихи Лизандра, и под воздействием моих мыслей тень обрела плоть, приняв обличье высокого человека в плаще, сколотом под горлом фибулой с кроваво-красным рубином. Лицо человека было бледно, из-под капюшона выбились и трепетали на ветру пепельно-серые пряди волос. Человек неотрывно следил за Звездочадским. Я тряхнул головой, унимая разгоряченное воображение.
Габриэль поднял пистолет, вытянул руку перед лицом и, затаив дыхание, прицелился. Я тоже затаил дыхание и сделал отчаянный рывок из охватившего меня оцепенения.
Я мучительно искал причину что-то сказать или сделать, но действительная причина заключилась в том, что мне вовсе не нужно было никаких причин, слово или действие имели вес сами по себе, однако я понял это слишком поздно. Слишком поздно я смог сломать рамки обыденности, принимаемой мною за сон, слишком поздно сумел вырваться из плена правил и убеждений, сформированных обществом, где я родился и вырос. Правил, которым доселе следовал не рассуждая, точно слепец за поводырем.
– Остановитесь! – вскричал я, но мой голос утонул в грохоте слившихся воедино выстрелов.
От пистолета стража еще поднимался голубоватый дымок, когда Габриэль принялся падать, заслоняя живот ладонью. Удивление явственно читалось на его лице. Мы с Горчаковым кинулись вперед, не давая ему коснуться камней.
– Надо же, как нелепая вышла штука, – прошептал Звездочадский. – Все детство я мечтал сделаться стражем, а моя мечта взяла, да и подстрелила меня.
Мне не нужно было смотреть на Горчакова, я знал и сам: полученное Ночной Тенью ранение было скверным. Таких я довольно навидался в армии, с ними живут недолго и отходят в мучениях. Пуля вошла в незащищенный во время прицеливания правый бок, да там и засела. Кровь лилась рекой: камни, и мох, и одежда – все быстро сделалось алым. Не желая добавлять страданий раненому, мы разрезали на нем одежду, чтобы Горчаков на скорую руку смог соорудить повязку.
– Надеюсь, это поможет замедлить кровопотерю, – критически осмотрел доктор итог своих трудов. – Верхом нам его не довезти. Я отправляюсь в город за извозчиком. Побудьте здесь до моего возвращения.
Просьба была излишней. Разумеется, я не оставил бы Габриэля одного. Пуля еще не начала своего разрушительного действия, организм пока не понял случившегося, и невольно все мы: я, Горчаков, да и сам Звездочадский поддались обману и принялись старательно поддерживать его друг в друге, словно некую насквозь порочную, но пленительную ересь.
– Держитесь, Габриэль. Горчаков вернется с повозкой, мы перевезем вас домой, а там он займется вашим лечением.
Обернулся доктор скоро. Он захватил носилки для переноски тяжелобольных, на которые со всеми мыслимыми предосторожностями мы уложили Ночную Тень. Наше продвижение было крайне медленным из-за боязни растревожить рану. Я слышал, как при резких движениях Звездочадский судорожно втягивал в себя воздух.
– Потерпите, голубчик, – увещевал его Горчаков, как, должно быть, увещевал всех своих пациентов. – Совсем немного нужно потерпеть. Вот так, вот и славно.
Звездочадский держался, хотя даже губы его побелели от боли. Дорогой он то терял сознание, то вновь приходил в себя. Вместе с доктором мы занесли Ночную Тень в усадьбу. В передней Габриэль успел шепнуть: «Матушке и сестре ни слова о моих перспективах» прежде, чем впал в беспамятство. Нам навстречу выбежали Януся и Пульхерия Андреевна, позади переминался с ноги на ногу непривычно тихий Лизандр.
– Где расположим его? – спросил Горчаков, предоставляя мне право руководить нашими совместными действиями.
– Я покажу вам его спальню. Сюда, по лестнице.
Мы уложили Звездочадского на кровать, белье быстро пропиталось кровью. Горчаков отправился обратно в экипаж за своим медицинским саквояжем. Я хотел было остаться с Ночной Тенью, но тот отослал меня со словами:
– Подите к сестре и матушке. И вы, и я знаем, что время у меня еще есть. Успокойте их, просите Лизандра читать стихи или сами займите рассказом. Пусть приходят, когда Горчаков приведет меня в надлежащий вид.
Я видел, как он борется с болью, и не хотел оставлять его одного в этом поединке, но, заметив мое замешательство, Габриэль добавил нетерпеливо, – да ступайте уже, обещаю без вас не умирать.
Едва я спустился, Пульхерия Андреевна приникла ко мне и безудержно разрыдалась. Слезы матери, чьего сына я не уберег, жгли мою грудь раскаленным железом.
– Как он? Как? Что у него за рана? Опасная ли? – выспрашивала Януся. Я боялся взглянуть ей в глаза, и потому не отрываясь смотрел на макушку Пульхерии Андреевны, которая виделась мне ярким золотым пятном. – Расскажите, что произошло? Что считает доктор?
Не поднимая глаз, я отвечал:
– Габриэль стрелялся со стражем и был ранен. Сейчас Горчаков осматривает его, дождемся заключения.
– Он останется жив?
– На все воля Божья.
Я изо всех сил надеялся, что вне зависимости от действительного положения дел, Горчаков не станет лишать родных Габриэля надежды. Едва дверь наверху растворилась, Януся взметнулась по лестнице, схватила Горчакова за руку своими похолодевшими от горя руками, устремила на него туманившиеся от слез глаза:
– Ну, что же?
– Он ждет вас и Пульхерию Андреевну.
Дальнейшие расспросы были забыты. Дочь и мать, связанные общим горем, поспешили к раненому.
Дождавшись, когда их шаги утихнут, я спросил:
– Есть ли у нас надежда?
Горчаков печально посмотрел на меня:
– Вы военный, поэтому возьмусь предположить, что ответ вам известен наперед. Пуля застряла где-то в мягких тканях или в кости, точнее я сказать не могу. При таком положении дел оперативное вмешательство бессмысленно и даже опасно. Примись я извлекать пулю, она угробит его тотчас, а так… верно, пара дней у него все же имеется. Я буду рядом и помогу облегчить его страдания.








