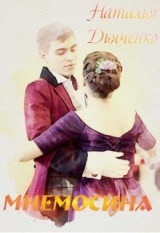
Текст книги "Мнемосина (СИ)"
Автор книги: Наталья Дьяченко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Право, я слыхал такие истории. Их рассказчики никогда не встречались со своими героями, и оттого они мало походили на правду. Я же годами рос в страхе перед человеком, давно переставшим существовать как личность. Я оставил попытки найти в отце некогда любимые черты, для меня он являлся символом того человека, которого я помнил. Встречая его день за днем, я не мог не задаваться вопросом о смысле существования безумцев. Отчего бы Создателю не забрать их, чтобы прервать их мучения и терзания окружающих? Я даже спросил о том отца Деметрия. «Нам не ведом замысел Творца, – ответил священник. – Мы можем только предполагать Его цели. Я допускаю мысль, что безумцы – мост к исцелению наших душ. Попечительством о них мы прежде всего спасаемся сами. Через них Создатель учит нас терпенью и милосердию».
На вопрос Звездочадского я беспомощно пожал плечами. Но Ночная Тень не ждал ответа. Вместо этого он принялся декламировать нараспев:
Память, моя ты память,
Роза моя с шипами,
Тяжесть, что давит плечи,
Свет, что палит и лечит.
Ты за моей спиною
Осенью и весною.
Днями, ночами, снами,
Бликами и тенями,
Смутными временами,
Светлыми временами, -
Тонкой стальною пряжей
моей жизни вяжешь.
Радостью и бессильем,
Песнею легкокрылой,
Птицею поднебесной
Весь я в тебе воскресну!
Говоря, Звездочадский сжимал цветок все сильнее, не обращая внимания на впивающиеся в ладонь шипы, лепестки отламывались и падали на пол. В конце концов в руке у Ночной Тени осталась лишь сердцевина, покореженная и измятая, которую он бросил следом. Как воплощение души та смотрелась в высшей степени неприглядно.
– По молодости я баловался сочинительством, но следует признать, что шашкой мне удалось овладеть куда лучше, чем пером.
– Нет, нет, продолжайте! – попросил я, зачарованный проникновенным голосом Звездочадского и образами, встающими за его словами.
Ночная Тень пожал плечами:
– Да, собственно, это все.
Мне вдруг примерещилась мирная жизнь, в которой Звездочадский дарил барышням цветы, записывал в альбомы стихи и эпиграммы, танцевал на блестящем паркете бальных зал – такой блистательный офицер просто не мог остаться незамеченным. Эти мысли пробудили мое любопытство:
– Откуда вы родом, Габриэль?
Звездочадский развернулся порывом и пытливо вгляделся в мое лицо, точно этот простой вопрос непременно должен был содержать в себе подвох.
– Я родился далеко отсюда, – осторожно сказал он.
Я пожал плечами, не видя в его признании ничего необычного:
– Нас всех занесло далеко от дома.
– В межгорной долине, укрытой от злых ветров. Зимы там мягкие, согретые солнечным сиянием, а весны приходят рано. В апреле на пиках дальних гор еще белеет снег, а вдоль реки уже занимается яблоневая заря и миндаль роняет свой цвет в быстро бегущие воды. Летом ветер несет со склонов запах меда. Зацветают чабер, и мята, и душица, и еще тысячи других трав, каким все одно я не вспомню названья. К осени деревья одеваются золотом и багрянцем, река набирает свой бег и наливается сталью, впитывая оттенки низкого неба.
Звездочадский был прирожденным рассказчиком. Пока он говорил, описываемые им места представили передо мною, точно я сам шел через них. Когда же он умолк, я не сдержал восклицания:
– Зачем же вы уехали от такой красоты?
– Да право, за тем же, зачем уезжают из родных мест остальные: в поисках славы, признания, ярких впечатлений. С такими сокровищами любой на моей родине сделается богачом!
– Богачом? – переспросил я, полагая, что он говорит о деньгах.
Деньги в ту пору были предметом, весьма меня занимавшим. Большую часть жалования я отсылал матери и сестрам, чувствуя себя обязанным иметь о них попечение, и эти средства были им значительным подспорьем. Мне же самому, находившемуся на казенном пайке и исправно получавшему форменное обмундирование, требовалось немногое. Однако покрыть нужды человека, привычного к расточительности, армейское жалованье едва ли могло. Неоднократно я бывал свидетелем тому, как офицеры за ночь просаживали за карточным столом суммы, кратно превосходившие их годичное содержание. Звездочадский не производил впечатления человека, привычного к экономии, поэтому в его устах речи об армейском богатстве звучали по меньшей мере странно.
– Ах, да не понимайте же все так буквально! Я не созерцатель, отнюдь. Какой прок восхищаться исхоженными вдоль и поперек местами? Знакомые красоты похожи на надоевшую жену: достоинств уже не видать, зато недостатки досаждают все сильней. На войне все по-другому, здесь непременно что-нибудь да случается. Каждый день звонкой монетой ложится в копилку моих впечатлений. Каждая атака, каждое наступление. Помните, как мы вырывались из вражеского оцепления? Как рвались в низком небе шрапнели, как винтовки огрызались нам вослед и шальная пуля пробила луку моего седла? Да пройди она на два пальца ближе, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Такие воспоминания дорогого стоят!
Возможно, того же Писяка и привлекли бы армейские байки, какие мог порассказать любой из нас, я же к тому времени потихоньку начал растрачивать юношеский пыл и воспринимал военную службу уже не как развеселую прогулку, а как несение обязанности, временами кровавой и тяжкой. Война изнуряла, вынимала человеческие чувства, привнося взамен окаменелое равнодушие. Я притерпелся к виду людских страданий, перестал вздрагивать от разрывов снарядов над головой. Все чаще я оглядывался в мыслях на озерца и речушки моего детства, на березовый пригорок с церковью, на милые сердцу покосившиеся крестьянские избы. И, как ни странно, именно эти картины, простые в сравнении с мечтами о воинской славе, поддерживали мой боевой дух. Пока речушки, пригорок и церковь стояли за моей спиной, я не имел права свернуть с избранного пути.
Зато рассказ о родине Звездочадского стал для меня откровением. Будучи равнинным жителем, я не знал ничего выше холма. Я никогда не слышал гула кипучих рек, стремительно катящихся со снежных вершин, не видел, как цепляются за пики гор облака, как камнем падает орел с высоты. Многое в мире было ново и неясно для меня, и это будоражило воображение! Я дал себе зарок в будущем непременно отправиться в описываемые Ночной Тенью места.
Такая возможность представилась мне куда раньше, чем я мог рассчитывать, и события, ей предшествовавшие, оказались отнюдь нерадостны.
Раз глубокой ночью на исходе ноября нас разбудил эскадронный командир.
– Разведка попала в засаду. Нужны добровольцы.
Вызвались я, Янко и двое солдат. Ведомые командиром, мы долго скакали во тьме через лес. Не было видно ни зги, ветви хлестали по лицу, изредка слышался хруст льда да плеск воды, если полной темноте копыта наших коней проламывали замерзшие ручейки. Когда деревья кончились, в свете луны пред нами предстало поле. На его дальнем краю чернели неясные тени, в которых скорее рассудком, нежели зрением угадывались очертания домов. Здесь мы спешились. Мы ползли, когда луна скрывалась за облаками, и замирали, стараясь слиться с землей, едва свет вновь озарял окрестности. Мне было страшно и весело одновременно, как всегда при столкновении с опасностью. В руке я сжимал винтовку с насаженным штыком, прикрывая его, чтобы блеск стали не выдал нас. Азартной своей частью мне хотелось вскочить, побежать, оглашая окрестности боевым кличем, но это желание проистекало из обычного хвастовства, и я сдерживал его, продолжая пластаться по земле.
Но вот поле кончилось. Из черноты проступили очертания стен и покосившихся изгородей. Теперь можно было выпрямиться и двигаться быстрее, повинуясь току крови и бешеному ритму сердца. От одной из изб мне навстречу внезапно прянула тень. Я успел запомнить удивленное лицо и приготовленный для крика рот. Инстинкт сработал скорее разума, и тень осела, пронзенная моим штыком.
Пленных мы нашли в сарае на окраине деревни. Охраняла их пара часовых, от которых мы споро избавились. Стараясь производить как можно меньше шума, мы сбили засов и вошли в сарай. Каково же было мое удивление, когда среди пленных обнаружился Звездочадский! Я говорю удивление, потому что мне, как многим солдатам и офицерам, Ночная Тень казался заговоренным от неприятностей. Мы освободили пленных и двинулись в обратный путь.
Обнаружили нас на полпути к лесу. Вспыхнули прожектора, занялась пальба. Уже не таясь, мы вскочили с земли и побежали к лошадям. Из-за темноты ночная стрельба редко достигает цели, но та ночь стала для меня роковой. Садясь в седло, я почувствовал, как что-то толкнулось мне в спину, и самым постыдным образом сверзься под ноги коню, откуда и провалился еще дальше – в небытие.
Очнулся я уже в плену. Надо мной склонялся какой-то человек с блестящим предметом в руке. Я дернулся из опасения быть зарезанным, но обнаружил, что крепко привязан к своему ложу. Тогда я закричал. Человек что-то забормотал. Слов я не понял, но интонации не казались угрожающими. Присмотревшись, я увидел, что блестящим предметом был скальпель. В другой руке он сжимал стеклянную бутыль с резким запахом спирта.
Человек заговорил вновь, медленно и четко. Я понимал отдельные слова, из которых окончательно уверился, что убивать меня не станут. Тогда я прекратил сопротивление. Мне дали глотнуть спирту, после чего доктор вычистил и перевязал мою рану.
Дальнейшие дни слились непрерывной чередой. Окажись на моем месте кто-нибудь из журналистской братии, он не преминул бы в красках описать страдания, коих я натерпелся в плену. Однако мне нечем попрекнуть неприятеля. Обращались со мной сносно, никаких унижений и прочих бесчинств я не претерпевал. Врага теснили, он беспрерывно отступал. Спали на скаку, хлеб ели всухомятку, похлебать горячего удавалось лишь изредка. Между тем морозы крепчали. Мне приходилось разделять лишения неприятеля, отчего выздоровление шло медленно. После извлечения пули началась лихорадка. Температура не спадала, меня то бил жесточайший озноб, то напротив, точно окатывало кипятком и бросало в пот. В одной из деревень врага, наконец, окружили и принудили сдаться. Здесь-то меня и нашли.
– Кто вы? – обратился ко мне молоденький солдатик в тонкой шинелишке, которая явно была ему велика. Он пытался скрыть сию несуразность, туго перепоясавшись ремнем, что лишь добавляло нелепости его виду.
– Михаил Светлов, унтер-офицер Третьего лейб-гвардии полка улан, – хрипя, отрапортовал я.
Солдатик направил меня в штаб, где надо мною тотчас захлопотал полковой доктор.
– Сильнейший жар у вас, голубчик. Вам бы в тылу подлечиться.
– Нет-нет, я совершенно здоров, – заспорил я, выстукивая зубами дробь по ободку железной кружки с чаем, щедро разбавленным мадерой и медом. – Просто замерз. Вот поспать не мешало б, а после, не доставляя вам излишнего беспокойства, отправлюсь на поиски своего полка…
Несмотря на браваду, меня все-таки погрузили в телегу и отправили до ближайшей станции, а дальше поездом на излечение в N-ск. В N-ском лазарете по причине открывшегося воспаления легких я провалялся три месяца. Из желания себя занять я принялся записывать приключившееся со мной на войне. За этим делом и застиг меня Звездочадский. Он вошел в палату точно только вернулся с бала: пружинящая походка, безупречно сидящий мундир застегнут наглухо, козырек высокой шапки-уланки, и пряжка на ремне, и пуговицы начищены до блеска.
– Как ваше здоровье, Михаил? – обратился Габриэль ко мне.
И хотя совсем недавно я полагал, будто остыл к военной кампании, при взгляде на Ночную Тень в моей душе всколыхнулись мысли, которые я передумал, покидая отчий кров, о выпавшей мне чести служить Отечеству и отдать за него жизнь, если будет на то воля Всевышнего. Вот ведь натура человеческая: тем сильнее жаждем мы тех вещей, надежды обрести которые у нас всего меньше!
– Врачи признали меня негодным к военной службе, – отвечал я.
Сожаление отразилось на лице Звездочадского, но я не позволил себя жалеть.
– Все не так уж и плохо, – поспешил я добавить с бодростью, каковой в действительности не испытывал. – Я подал прошение о переосвидетельствовании.
– Вы настоящий солдат и патриот, в чем я лично готов поручиться хоть перед коллегией врачей, хоть перед самим дьяволом. Кабы не ваша лихая эскапада, гнить мне в плену. Я чувствую за собой вину, ведь ваши неприятности начались из-за того, что я так глупо позволил себя поймать!
– Не коритесь понапрасну, в плен могли взять любого из нас, вот и я тоже попался. Лучше расскажите, как дела на передовой? Что наш эскадронный командир? Как вахмистр, как певец Янко, другие солдаты и офицеры? Хорошо ли стреляет наша артиллерия? А пехота, много ли у нее достославных побед?
– У нас все идет обычным чередом: рейды, разъезды, наступления и отступления, засады, атаки, перестрелки. Впрочем, сейчас штабные решили устроить перемирие. Командир пытался спорить, но его, ясен день, не послушали. Буквально на днях полк отвели на зимние квартиры. Я выхлопотал увольнительную и еду домой. Если вам нужно передать весточку родным, с удовольствием послужу вашим посыльным.
– Как же я вам завидую! – невольно вырвалось у меня. – После ваших рассказов я мечтаю увидеть места, в которых прошло ваше детство, и о которых вы рассказывали столь любовно: цветущий миндаль, и бурлящую реку, и заснеженные горные вершины!
Звездочадский просветлел лицом:
– Так за чем же дело стало? Чем скучать здесь в ожиданьи приговора эскулапов, вы могли бы составить мне компанию! Что бы вы ни толковали, а я все-таки ваш должник!
III. Дорога. Разговоры
И вот ямщик стегнул по всем по трем…
Звенит, гудит, как будто бьет тревогу,
Чтоб мысль завлечь и сердце соблазнить!..
И скучно стало сиднем жить,
И хочется куда-нибудь в дорогу,
И хочется к кому-нибудь спешить!..
Евдокия Ростопчина
Предложение Звездочадского пришлось как нельзя кстати. Мое переосвидетельствование было назначено на конец весны, что означало необходимость провести оставшиеся месяцы в сомнительном статусе не то больного, не то отставника. И хотя я скучал по домашним, мне хотелось воротиться в родные пенаты героем военной кампании, а не предметом всеобщей жалости. Точно воочию я представлял опечаленные лица сестер, их состраданье ко мне и одновременно страх перед безденежьем, когда бы они узнали о бесславном завершении моей военной карьеры. Пока оставалась надежда, я не мог рассказывать близким о своих злоключениях, а значит, дома мне появляться было нельзя.
С Ночной Тенью мы встретились на вокзале. Поезд уже был подан. Из высокой трубы паровоза, пыхтя, вырывались клочья дыма, разноцветные вагоны, нарядные и глянцевые, точно елочные игрушки, сверкали свежей краской. На перроне царила обычная вокзальная суета: люди спешно прощались, обменивались поцелуями и рукопожатиями, плакали, давали последние напутствия. Грузчики забрасывали в вагоны баулы, чемоданы, узлы, зонты и прочие необходимые в поездке вещи. Звезочадский уже успел побывать в багажном отделении и теперь шагал налегке. Моих вещей было немного: личные документы, записи, что я вел последние месяцы, немного табака да подаренный отцом Деметрием молитвенник для православных воинов, – все они легко уместились в небольшом саквояже, который я нес с собой.
На время поездки нам предстояло разлучиться. Из соображений экономии я взял билет в третий класс, Звездочадский поехал в мягком. Проводник отвел его к синему вагону с табличкой «Для курящих». До отправления поезда еще оставалось время, и я поднялся с ними вместе. Ковер впитал звук наших шагов. В вагоне пахло смолянистыми сосновыми дровами, кожей, дорогим табаком. Сверкали начищенные медные ручки, красное дерево мягко мерцало полировкой. На обитом бархатом диване, откинувшись на спинку и полузакрыв глаза, расположился седовласый генерал весь увешан ный орденами. Лицо его бороздили глубокие морщины, пышные бакенбарды и лихо закрученные усы, следуя последнему веянию моды, покрывал тонкий слой позолоты. Генерал курил сигару, распространяя крепкий табачный дух. Когда мы вошли, он кивнул, не то отмечая, не то любезно соглашаясь на наше присутствие, и выпустил кольцо голубоватого дыма.
– Выбирайте любое место, какое глянется, милсдарь, – обратился к Звездочадскому проводник. – На моей памяти мягкие вагоны всегда следуют пустыми.
Устроив приятеля и попутно удовлетворив любопытство, в сопровождении того же проводника я отправился к себе. Третий класс уже забился битком. От людского дыхания стекла в вагоне запотели, воздух был теплым и волглым. Проводнику удалось пристроить меня между миловидной юной особой и господином средних лет, раскрасневшимся от духоты, в расхристанном кафтане. На коленях моего соседа стояла клеть, где горделиво восседал еще один пассажир – красный петух с черной грудкой. Птица была странной: без гребня и без бородки, зато с остро отточенными, прямо-таки уланскими шпорами. Из-за этих шпор я сразу почувствовал наше с ним родство.
– Уважаемый, я же говорил вам, что птицу необходимо определить в багаж, – укорил проводник моего соседа.
– А я говорил вам, что сие невозможно никак, – визгливо ответствовал тот, плотнее притискивая к себе клеть и привычно уворачиваясь от мелькнувшего между прутьями клюва. – К вашему сведению, Петро Петрович не какой-нибудь сельский увалень, это благороднейшая птица, приспособленная к участию в боях. Я отдал за него полсотни имперских идеалов и еще триста чаяний сверху. В багажном вагоне Петро Петрович может подхватить воспаление легких или ревматизм, и плакали тогда мои идеалы и чаяния!
– Вы вольны поместить его в прихожую вагона к ручной клади.
– Абсолютно исключено. А ну какой тать, соблазнившись статями моего красавца, схитит клетку из непотребного желанья отведать бульону? А Петро Петрович, будучи заключен за прутьями, беспомощен, аки агнец.
– Но позвольте, здесь птица будет мешать окружающим.
– Что вы, конечно нет. Ну, вот чем, скажите на милость, такому доблестному офицеру может досадить петух?
Тут господин посмотрел на меня, и я помимо воли оказался втянутым в их перепалку. Я пожал плечами. Спору нет, пернатое соседство было куда предпочтительнее грохота вражеской артиллерии или стрекота аэропланов. Тем паче, с другой стороны ко мне прижималась молодая девушка, румяная и свежая, точно цветок пиона.
Поезд между тем тронулся. За окном чинно проплыл вокзал, ему вдогонку устремились дома и церквушки, отдаляясь все быстрее и быстрее по мере того, как состав набирал ход. Был вечер. Закат дотлевал на крестах колоколен и высоких шпилях государственных зданий, что рдели над утонувшим в синих тенях городом. Я выкурил цигарку на открытой площадке вагона, отужинал в ресторане и уже в темноте вернулся на свое место. Заснул, сидя на жесткой лавке, которая после ночлегов в снегу показалась мне верхом удобства.
Разбудило меня и добрую половину пассажиров звонкое кукареканье. Стояла темень, озаряемая слабым светом, падавшим от окна. Пассажиры завозились, зашептались, силясь понять происходящее. Прибежал заспанный проводник с раскачивающимся в руке фонарем.
– Что стряслось?
Кто-то спросонья крикнул:
– Пожар!
– Петро Петрович возвещает начало небесной заутрени, – с достоинством ответствовал хозяин петуха.
– Сударь, сию же минуту отправьте птицу в багаж! – потребовал проводник.
– Если вы будете настаивать на помещении Петро Петровича в багаж, я поеду с ним вместе, а по возвращении, уж будьте покойны, напишу жалобу на вашу железнодорожную кампанию и на вас лично. Я напишу во все газеты, что вы бесчеловечно обращаетесь с животными! Я…
Тут Петро Петрович, пользуясь тем, что внимание хозяина отвлечено, ловко просунул клюв между прутьями и цапнул его за палец. Тот вскрикнул от боли, но вместо того, чтобы избавиться от петуха, пуще прежнего вцепился в клеть и вновь напустился на проводника:
– Вот, глядите, что случилось из-за ваших непомерных требований. Я непременно буду писать в газеты. Да я напишу самому губернатору! – кричал мой сосед, размахивая окровавленным пальцем как самым весомым своим доводом.
Проводник переминался с ноги на ногу, не зная, куда деваться от горластого господина. Он уже жалел, что ввязался в спор. Пассажиры с интересом следили за разворачивающейся драмой. Одни приняли сторону проводника и настаивали, чтобы Петро Петрович отправился в багаж, другие, из тех, кто поближе к земле, привычных вставать с первыми петухами, защищали Петро Петровича. Были и те, которые, не мудрствуя лукаво, заснули. Моя соседка склонила головку мне на плечо и тихонько посапывала. Согреваемый ее дыханием, прижатый к ее теплому боку и почти разделивший ее сонные грезы, я не хотел двигаться и того паче скандалить. Мне было хорошо, тепло и покойно.
В конце концов, проводник махнул рукой: «А, черт с вами, поступайте, как знаете!» и ушел, унеся фонарь. Мой сосед извлек из кармана какую-то тряпицу и наощупь принялся перевязывать палец.
Второй раз я пробудился около восьми утра. Несмотря на ночной курьез, я чувствовал себя отдохнувшим, а посему привел себя в порядок и прочитал утреннюю молитву. Желая движения, я поднялся на крышу вагона полюбоваться пейзажами, что открывались дорогой. Некоторое время спустя ко мне присоединились другие пассажиры, столь же беспокойные, сколь и я. Какое-то время мы стояли на открытой всем ветрам площадке, слушая стук колес да гудение телеграфных проводов и перебрасываясь незначительными фразами о погодах и о войне. Утро было морозным, вскоре мои руки на перилах закоченели. Не желая возвращения в духоту третьего класса, я решил навестить Звездочадского.
Мой приятель коротал время за беседой с генералом. Я полагал, что Габриэль пригласит меня остаться, однако при моем появлении Ночная Тень подскочил, прервав собеседника на полуслове. Судя по всему, нечаянный компаньон успел порядком ему прискучить.
– Все он врет, – пояснил Габриэль, едва мы покинули вагон. – Раздувает щеки, рассказывает о боях, в которых в жизни не участвовал.
– Отчего вы так решили? – подивился я.
– Вы бы только послушали, какую несусветицу он городит. Тут любому станет ясно! Он рассуждает, как штатский, он курит, ест, ходит и даже сморкается как штатский – степенно, с расстановкой, напоказ. Заставьте его проделать то же в полевых условиях, и он мигом растеряет все свое дутое достоинство.
Через качающиеся вагоны мы направились в ресторан, где Ночная Тень заказал рябиновую настойку, прозрачные ломтики семги с лимоном, расстегай из налимьих печенок и жаркое из рябчика. Я довольствовался тарелкой пшенной каши. За завтраком Звездочадский много говорил о верованиях и традициях родных мест.
– Я вынужден просить вас об одолжении. Вследствие удаленности Мнемотеррии от наезженных дорог, на моей родине сохранились обычаи, могущие вас удивить. Наравне с деньгами в качестве оплаты мы принимаем и предлагаем различного толка услуги, этакое натуральное хозяйство. Когда вы немного разберетесь, то непременно оцените удобство нашей системы, а до сей поры умоляю вас рассчитываться исключительно наличными деньгами, какой бы невинной не показалась ответная просьба. Более того, зная вашу щепетильность и равно вашу непритязательность, я готов открыть вам безграничный кредит и даже настаиваю, чтобы вы им пользовались. После, вернувшись, мы сочтемся.
Немного обескураженный такой просьбой, я попытался спорить. Мне казалось, Звездочадский разгадал мои материальные затруднения и пытается меня от них избавить. Но Ночная Тень был неумолим.
– Имеется и еще одно немаловажное обстоятельство. В Мнемотеррии чтят традицию гостеприимства. Так повелось, что ввести нового человека в наше довольно замкнутое общество – это привилегия, каковую может позволить себе лишь состоявшийся, в том числе и финансово, человек. Если гость примется печься о своих нуждах, семья хозяина будет опозорена. Я не разделяю новомодного либерализма ни касаемо государственного устройства, ни относительно бытового уклада, поэтому коли вы не пообещаете мне исполнить то, о чем я вас прошу, прямо сейчас, в эту минуту мы выйдем вон из поезда.
Я нисколько не сомневался в способности Звездочадского соскочить с идущего на полной скорости состава. В ответ на такую настойчивость я поклялся исполнить его просьбу. Тогда Габриэль принялся дальше рассказывать о родных землях: о городе Обливионе, близ которого располагалось его имение Небесный чертог, об отце, которого он лишился в возрасте пятнадцати лет, о полной беспомощности матери и сестры в финансовых вопросах и необходимости принять на себя устроительство быта родных. Я не мог не провести параллелей со своей судьбой, и эта общность еще больше расположила меня к Ночной Тени.
То было странное путешествие в поезде, на короткое время ставшем нам домом: с ночным кукареканьем Петро Петровича и перепалками его хозяина с проводником, с совместными трапезами со Звездочадским, с перемигиванием с моей юной соседкой, точно между нами зрела некая общая тайна. И когда оно подошло к концу, мне было немного грустно отпускать состав дальше по бескрайним просторам империи.
Мы вышли на полустанке, откуда отправились на перекладных. Стоял первый месяц весны, по-зимнему холодный в наших краях, но теплый здесь, ближе к югу. Снег уже сошел, напитав влагой землю. Высоко в прозрачной синеве пел жаворонок. Мы поднимались к солнцу, и я с интересом следил за переменами в окружающем мире. Земля уступила место камню, справа и слева смыкались желтоватые мшистые скалы, поросшие редкими упрямыми деревцами, на дне ущелий змеились извилистые горные потоки.
Однако мое любование красотами было прервано самым безжалостным образом. На одной из остановок Звездочадский вытащил из своих вещей кусок плотной ткани и попросил меня завязать глаза.
– Вы шутите? – удивился я.
– Ничуть.
Происходящее походило на сюжет из сказки. Дело было не в нежелании завязывать глаза, а в странности самой просьбы.
Заметив мои колебания, Ночная Тень добавил:
– Считается, что чужой человек не должен запомнить дорогу в Мнемотеррию, дабы не привести врагов.
– Но как же извозчик? Не станете же вы завязывать глаза и ему?
– Он из местных. Но коли не верите мне, считайте временную слепоту платой за исполнение вашего заветного желания. Согласитесь, что она невысока. Я мог потребовать бы от вас долгой службы, исполнения какого-нибудь страшного зарока или того, чего вы дома не ждете.
И вот я очутился во тьме. Отсутствие зрения обострило прочие чувства. Теперь я вынужден был полагаться на обоняние и слух, и тем громче звучали для меня птичьи трели, и перестук копыт, и треньканье колокольчиков; тем свежее казался воздух, который острыми иголочками колол легкие, тем теплее пригревало робкое весеннее солнце. Я пытался угадать путь. Вот дорога пошла на подъем, повозка затряслась и заскрипела, будто собралась расколоться на части, как орех в крепких зубах игрушки-щелкунчика. Первые строки молитвы всплыли в моей памяти. Но извозчик, не сбиваясь ни на миг, насвистывал затейливый мотив, и, слушая его, я успокаивал себя тем, что коли он не переживает, то все идет обычным чередом.
– Хотите, я расскажу вам про свою сестру? – услыхал я голос Звездочадского. – Она родилась на Крещенье, мы назвали ее Январой. Совершенно несносное создание. Но я люблю ее. Думаю, полюбите и вы. Сестренка любопытна, как лисица. Ее занимает решительно все: как растет трава и откуда идут дожди, сколько щенков принесла пегая сука и что вы станете делать нынче вечером. Когда она была поменьше, ее бесконечные расспросы сводили меня с ума. Январа обожает цветы, вот с кем вам стоило говорить о розах. Хотя лучше преподнесите ей букет маков, и тем вы завоюете ее сердце навек. Ко дню Рождества я послал сестре синюю шаль, на которой серебряной нитью вышит маков цвет, а над цветами вместо мотыльков порхают крохотные совы. Мне это показалось очень занятным. Еще Январа любит гостей. Будьте уверены, она перезнакомит вас со всеми своими приятелями. У нее талант собирать вокруг себя совершенно разных людей. Подле Януси даже отъявленные недруги забывают о вражде.
– Сестра похожа на вас? – полюбопытствовал я.
– Она взяла лучшее от отца с матушкой. И признаться, фамильные черты куда больше к лицу ей, нежели мне.
Вследствие невозможности занять воображение другими картинами, я принялся представлять девушку в шали с серебряными цветами, да так и задремал под это сладостное видение.
Проснулся я оттого, что убаюкавшее меня покачивание исчезло. Повозка прочно стояла на земле. До меня донесся голос Звездочадского:
– Вот мы и приехали. Снимайте повязку, мой друг.
Мне только того и надо было. Я рывком сдернул с глаз опостылевшую ткань и не сдержал изумленного возгласа, так разительна оказалась перемена окружения и так мало соответствовала она картинам, нарисованным моей фантазией. Мы стояли у окованных железом ворот. Под самые облака уходила отвесная стена, сложенная из желтого с проседью камня, с темневшими в ней редкими проемами бойниц. Стена оканчивалась зубцами, подле которых черными точками парили орлы. Такую преграду нельзя было ни объехать, ни перелететь, если только ты не был орлом – она простиралась насколько хватало взгляда и упиралась в крутые скалы. Я очутился в самом настоящем средневековье! Мне не терпелось узнать, что же будет дальше.
– Михаил, послушайте, – обратился ко мне Звездочадский. – О чем бы я ни заговаривал со стражами, не вмешивайтесь. После я все вам объясню. Обещаете?
Я кивнул, не отрывая от стены зачарованного взгляда. Да имей враг такие укрепления, нам со всей нашей артиллерией не удалось бы продвинуться ни на пядь! Между тем в воротах отворилась небольшая дверца, до сей поры незаметная, откуда вышли двое мужей, одетых столь же броско, сколь и непривычно. На них были длинные кафтаны лососевого цвета, широкие, украшенные вышивкой, безрукавки из бараньих шкур, вывернутых мехом вовнутрь, заправленные в высокие сапоги синие штаны, на головах – пушистые шапки с свисающими лисьими хвостами. Однако самой примечательной деталью наряда были широкие расшитые сложным орнаментом пояса. Как успел шепнуть мне Звездочадский, узор у каждого был свой, его элементы рассказывали о семье обладателя, положении в обществе, роде занятий и достойных деяниях, его прославивших. К поясам стражей крепились длинные кинжалы, а за спинами торчали рукояти парных мечей. И это в век аэропланов, винтовок и поездов! Положительно, я был заворожен.
Едва стражи поравнялись с повозкой, Габриэль легко соскочил наземь, рекомендовался сам и назвал меня:
– Звездочадский Габриэль Петрович, прохожу службу в качестве офицера Третьего лейб-гвардии полка улан. Возвращаюсь домой на время краткосрочного отпуска. В окрестностях Обливиона мне принадлежит имение, где постоянно проживают мои мать и сестра и двести душ обслуги. Со мной следует Светлов Михаил Евгеньевич, унтер-офицер того же полка, гость на полной моей ответственности.








