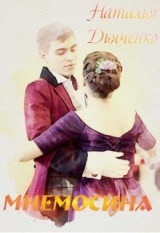
Текст книги "Мнемосина (СИ)"
Автор книги: Наталья Дьяченко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
– Ах, молодость! – покачала головой Пульхерия Андреевна, отчего в ее ушах заискрились два черных бриллианта величиной с голубиное яйцо. – Все бы ей напиваться да балагурить! Михаил, не слушайте моего сына, вам никак не может быть скучно, ведь у его сиятельства соберется цвет мнемотеррионского общества: чудеснейшие, образованнейшие, галантнейшие люди нашей эпохи. И вы, несомненно, станете центром их вниманья.
– Поверьте, любезная Пульхерия Андреевна, быть центром внимания как раз то, чего я по возможности стремлюсь избегать.
– Да что вы такое говорите! Все взгляды прикованы только к вам, головы оборачиваются вам вослед, о вас любые пересуды. Это так волнительно! По-доброму я вам даже завидую.
– Постарайтесь припомнить пару армейских историй, и успех вам обеспечен, – посоветовал мне Габриэль. – Наши мужчины больше путешественники, нежели воины. Армия им в диковинку, хотя диковин они повидали предостаточно.
Тем временем дорога пошла на подъем. Мы въехали в лес. В окно я видел высокие деревья, что живым коридором смыкались по обе стороны. Местами из земли выходили огромные валуны – то коричневатые, то голубоватые, то серые. Вот среди гущи стволов и ветвей показались ворота. Столбами им служили вековые валуны, кованые решетки складывались множеством черных полукружий, внутри которых блестели золоченые виноградные листья, перемежающиеся узорчатыми завитками лоз. Ворота венчал герб Магнатского в виде виноградной грозди. По случаю приема створки ворот были распахнуты настежь.
– Земли князя столь велики, что он не взялся обносить их оградой. Острословы шутят, будто они размером с маленькое королевство. Поместье – лишь малая часть владений Магнатского, оно как раз огорожено, – пояснила для меня Януся.
– Внушительный размах, – подивился я.
– Приберегите свои восторги до замка. Вот где размах, так размах, – отозвался Ночная Тень. – Среди местных жителей бытует легенда, будто княжеский замок был выстроен одновременно со стеной. Как по мне, так это досужие домыслы, однако они весьма популярны. Раз мы с Ариком предприняли целое путешествие сперва к стене, а затем к замку, чтобы сравнить камень, даже откололи по кусочку.
– И что же?
Звездочадский пожал плечами:
– Камень как камень, видом схож, но в этом весь итог наших изысканий.
Тут я заметил в окно, что нас нагоняет алого цвета карета с изображением дерущихся орлов на гербе. Ее влекла шестерка рысаков, таких горячих, что кучер управлялся с ними с большим трудом. Я собрался было спросить, кому принадлежит карета, но тут Тифон лихо свистнул и щелкнул кнутом, благодаря чему мы вкатили в ворота первыми и, не сбавляя скорости, устремились дальше. За воротами дорога расходилась надвое. Вопреки моим ожиданиями, мы поехали не по наезженной колее, а с треском вломились в узкий проход, едва заметный среди сплетения ветвей. Некоторое время мы следовали в полумраке, но вскоре выскочили из леса на открытое пространство. Подъем сделался еще круче, а проезжая часть постепенно сошла на нет. По левую сторону сплошной стеной встали скалы, справа круто уходил вниз поросший деревьями склон. Мы неслись по краю обрыва так, будто у коней вдруг выросли крылья. Протестующе скрипели рессоры, колеса высекали искры из камней.
Пульхерия Андреевна ахнула:
– Что творит этот старый безобразник! Не могу смотреть! Он же знает, я боюсь высоты. Габриэль, спроси, в чем дело.
Исполняя матушкину просьбу, Звездочадский прокричал в открытое против кучера окно:
– Тифон, зачем ты свернул на старую дорогу? Что-то случилось? Нужна помощь?
В ответ ему донеслось:
– Не извольте беспокоиться, барин!
ответом, Габриэль успокоился, вверяя жизнь Тифону да самому Создателю. Коль скоро он не волновался, то и я старался не выказывать признаков беспокойства, хотя, глядя с какой скоростью мелькают скальные уступы за окном и почти физически ощущая бездну за тонкой стенкой кареты, мне с трудом удавалось не поддаваться панике. Пульхерия Андреевна извлекла из расшитого бисером ридикюля кружевной платочек и прижала к лицу. Сам ридикюль упал на дно кареты, чего хозяйка не заметила. Януся молчала, лишь ее глаза сделались в пол-лица да рука обхватила мое запястье так крепко, что там должно быть, остались отпечатки. Я внутренне готовился при малейших признаках беды оказать любую помощь, на какую буду способен.
Бешеная гонка прервалась столь же внезапно, сколь и началась. Дорога закончилась площадкой, где уже стояли другие экипажи. Мы влетели туда откуда-то сбоку, под неимоверным углом, на миг колеса нашей кареты зависли над пропастью, впереди выросла скала, в которую мы неминуемо должны были врезаться на полном ходу, однако в последний момент кучеру удалось остановить лошадей.
Пульхерия Андреевна поспешила покинуть карету, не дожидаясь, пока Тифон отворит дверь. Я вышел следом и подал руку Янусе.
– Тифон, что произошло? – дрожащим голосом спросила госпожа Звездочадская. – Ужели лошади понесли?
Я тоже хотел бы знать причину гонки.
Кучер невозмутимо пожал плечами:
– Так карета графа Солоцкого, хозяйка… Не мог же ваш верный слуга допустить, чтобы они приехали вперед вашего. Вот и поторопился чутка. Накажете другой раз уступать?
– Нет-нет, Тифон, ты правильно сделал. Я сейчас успокоюсь. Где-то были мои нюхательные соли…
Пульхерия Андреевна принялась беспомощно оглядываться, совсем позабыв, что уронила свой ридикюль во время гонки. Я воротился в карету, отыскал пропажу и отдал госпоже Звездочадской.
Тут на площадку с противной нам стороны, производя неимоверный грохот, вылетела та самая алая с орлами карета графа Солоцкого. Разгоряченные скачкой кони бешено вращали глазами, от их взмокших тел веяло жаром и потом, копыта лихорадочно молотили воздух. Они остановились буквально в пяди от нас, вынуждая попятиться, кучер проворно соскочил с козел и распахнул дверцу. Карета не казалась маленькой, однако я весьма подивился, когда оттуда одна за одной вышли три барышни на выданье отнюдь не хрупкого сложения, следом щекастый пацан лет десяти-двенадцати, затем граф – маленький, плотный и лысый, и последней его супруга. Графиня, на последнем месяце беременности, была меловая от испуга.
Перехватив мой взгляд, Януся зашептала:
– Пожалуйста, Микаэль, не судите строго! Граф Нестор Андреевич Солоцкий маменькин брат и наш дядя. Когда папенька умер, мы остались на грани разорения. Из папенькиной родни в живых остались лишь сестры, а дядя в ответ на мольбы о помощи предложил выкупить у нас Небесный чертог за бесценок. Мол, он отец большой семьи и давно мечтал стать владельцем большого имения. Это были очень трудные времена. Счастье, что Габриэль пошел в армию и позволил нам сохранить достойное положение в обществе. Маменька так и не простила брата, они с ним вовсе не разговаривают.
Я не осмелился развеивать заблуждения Януси касательно армейского жалования Звездочадского. В конце концов, юная девушка не должна забивать себе голову такой низкой материей, как деньги.
Только теперь я заметил, что мы стоим у подножия широкой лестницы, вырубленной прямо в скале. Ступени этой лестницы украшали выбитые по камню узоры, вход обрамляла пара резных колонн, вершины которых венчали грифоны, мастерски выточенные вплоть до мельчайших подробностей. Они сидели на задних лапах, молотя передними воздух, шерсть их дыбилась, уши были прижаты к затылку, из оскаленных пастей свешивались длинные закрученные языки. Казалась, звери вот-вот спрыгнут наземь со своих каменных постаментов и растерзают в клочья пришлецов.
По всей вышине лестнице стояли слуги в ливреях зеленого сукна с аксельбантами и жилетами голубой материи с княжеским гербом. Этот наряд дополняли такие же зеленые штаны и штиблеты. Все слуги были в пудреных париках, рослые, как на подбор, приятной наружности. Запрокинув голову еще выше, я увидел дворец. Несомненно, то было выдающееся творение. Он являлся продолжением скалы, на которой и был построен, с четкими линиями стен, оканчивающихся треугольными зубцами, с круглыми украшенными куполами башнями. Дворец опоясывали галереи и балконы, сообщая ему ощущение легкости и воздушности, высокие окна в три ряда декорировала мозаика с изображением гор и облаков, сложные мозаичные панно были и на фасаде, парадный вход имел вид портика с узкими высокими арками.
Повсюду, начиная от самой лестницы, были рассыпаны цветочные лепестки, расставлены в горшках лимонные, миртовые, лавровые, померанцевые деревья. В комнатах и вдоль галерей прохаживались гости: покачивались перья в прическах, искрились самоцветы, сияли золотые цепочки часов. Размещенные в разных уголках дома оркестры производили музыку, хотя и непривычную, но весьма приятную на слух. До меня долетал смех, обрывки разговоров.
– … на колоннаде. Такой талант дорогого стоит. Отчего же не сыщут подходящего учителя для его сестры? Говорят, у девушки склонность к музицированию.
– Одной склонности мало. У нее слабое зрение, слепой сложно подыскать педагога, он ведь сам должен быть незрячим.
– Вовсе не обязательно. Помню, учитель тетушки Долли, а она с рождения видела плохо, обладал отменным зрением.
– Как бы там ни было, матушка искать не собирается, а батюшка шагу не ступит поперек жены. Что бы ни говорили, у родителей всегда имеются любимчики. Она самозабвенно любит сына, до дочери ей заботы мало.
– Неудивительно, дочь-то от первого брака ее супруга.
– … графиня плодовита до неприличия. Забеременеть в ее почтенном возрасте! Не удивлюсь, коли она разродится прямо на приеме.
– Это было бы верхом неуважения к его сиятельству. Разумеется, ей следовало остаться дома. Вот что творит с людьми жадность до развлечений.
– … хочет учиться астрономии.
– Но это совсем немодно! Таких педагогов в наших краях вовсе нет.
– Изучает стыдно сказать, ровно гувернер какой: сам, по книгам. Эту свою Альмагесту[1] до дыр зачитал. Разобрал и заново собрал старую зрительную трубу, теперь ночи напролет проводит в горах, смотрит через нее в небо. До того дошло, что собрался за стену ехать, набираться премудрости.
– На застенную премудрость пол-века положишь! А когда же развлекаться и вкушать удовольствия, даруемые нам жизнью?
– И я том толкую, да он смеется в ответ: мол, звезды – единственное удовольствие, ради которого стоит жизнь.
Дамы прохаживались в нарядных платьях, мелькали тюли, ленты, шелка, из-под пышных юбок кокетливо выглядывали туфельки, в руках порхали веера. Мужчины были непременно во фраках и с бутоньерками на лацкане, в шелковых жилетах, в ослепительно белых накрахмаленных рубашках и белоснежных перчатках. Волосы уложены брильянтином, бакенбарды аккуратно расчесаны, у многих вызолочены кончики усов.
Мой мундир выделял меня среди собравшихся. Как и предрекала Пульхерия Андреевна, я был узнаваем, каждый непременно желал выспросить меня, перемолвиться словечком, узнать впечатление от города и окрестных земель. Я охотно отвечал на вопросы. Жители этой горной страны заворожили меня своим широким кругозором, начитанностью, дарованиями. Армейские истории воспринимались ими весьма благосклонно, это был козырь в моем рукаве, когда я не знал, о чем говорить, хотя такого почти не случалось – мнемотеррионцы оказались знающими и тактичными собеседниками, прекрасно чувствующими паузы в разговоре и умеющими их заполнить.
Приглашенные рассредоточились по интересам: в кабинете хозяина представители старшего поколения объединилась покурить, пропустить стаканчик наливки и обсудить последние новости; в библиотеке азартные члены собранного князем общества играли в карты; дамы обменивались секретами рукоделия в гостиной. Музыканты не умолкали ни на миг. Гости упросили Арика, который оказался среди приглашенных, спеть, и один из оркестров ему аккомпанировал.
Помимо Арика, на вечере присутствовали многие из тех, с кем я познакомился благодаря гостеприимству Януси и ее друзей. Я встретил Лизандра – беспечно-веселого, хмельного, сочиняющего экспромты в альбомы, перемолвился с его сестрой, вызывавшей во мне искреннюю приязнь; главу семейства Апполоновых я застиг в кабинете, где тот дремал в кресле, нимало не смущаясь разыгравшейся рядом словесной баталией, среди участников которой обнаружились Горностаев и Разумовский. Марья Теодоровна раскрывала дамам секреты бисерного шитья: «Когда бисер так мелок, что не низается на серебряную иглу, я вкладываю нить в щетинку с расщепленным концом. Разумеется, для этого нужно иметь отличное зрение». Это было жестоко, и я порадовался, что Сибель не слышит ее слов.
За карточным столом я заметил cher ami Александра Павловича, а в одной из дальних комнат замка, куда забрел по случайности, застиг за нежными объятиями Антона и Нину. Извинившись, я поспешил ретироваться, смущенный едва ли не больше их самих.
Когда стемнело, слуги пригласили гостей смотреть фейерверк. Замок был удобно расположен для этой забавы – своей западной стеной он выходил на долину, откуда выстреливали потешные огни: голубые, огненно-алые, рыжие, золотые, зеленые. Они складывались в огромные в пол-неба картины: то завивались виноградными лозами, на которых распускались листья и наливались сочные грозди, то соединялись бутылями, откуда принималось хлестать шампанское. Порой в сиянии небесных огней различались образы горных вершин, над которыми парили орлы. Иногда это была стена, окружавшая Мнемотеррию, либо сам замок. Шутихи выстреливали в небо, касались небосвода в наивысшей точке своего полета и распадались на части, отчего казалось, будто это небесный купол покрывается сетью сверкающих трещин, разлетается на куски и сыплется, сыплется, сыплется на землю. Кругом сверкало, рвалось, громыхало, трещало и шипело, будто мы попали в храм огнепоклонников.
Я наблюдал фейерверк с балкона вместе с другими гостями. Рядом со мной стояла Януся, до меня долетал горьковатый аромат маков, вплетенных в ее прическу, мешающийся с дыханием молодости и свежести, исходившим от ее кожи. Когда огни вспыхивали, лицо девушки озарялось чистейшим восторгом, искры зажигались в глубине глаз; когда гасли, весь только что пронзенный светом облик Януси уходил во тьму, и тем острее чувствовалось тепло ее касания. Этой близости мне было довольно, чтобы в свой последний вечер в Мнемотеррии чувствовать себя абсолютно счастливым.
– Какое замечательное зрелище! Что за забава! Вот уж затейник князь, – пуще других восхищалась какая-то дама, невидимая в темноте.
Сочный мужской баритон пророкотал ей в ответ:
– У князя в друзьях числится страж стены, а эти господа весьма сведущи касаемо огненных дел. Вот он и расстарался ради дружбы.
Огни больше не вспыхивали. Потянуло легким пороховым дымком. Гости начали потихоньку уходить с балкона. Остался мы с Янусей да тот самый господин, чей баритон я только что слышал. Он признал во мне военного и втянул в разговор о свойствах пороха.
– А знаете ли вы, что порох известен еще византийцам? Они использовали горючую смесь из серы и селитры, которая впоследствии получила название греческого огня. Залить его было невозможно, вода лишь усиливала горение. На суше огонь несли специальные машины в виде животных, на море изрыгающие огонь трубы устанавливали в носовые фигуры кораблей. Греческий огонь мог подчистую уничтожить флот неприятеля.
Януся, поначалу прислушивавшаяся к нашей беседе, вскоре заскучала и, извинившись, ускользнула в бальную залу, где вот-вот должны были начаться танцы. Я предложил своему собеседнику тоже пройти в дом, но он отмахнулся, сославшись на духоту, и продолжил рассказ.
– Производство греческого огня держалось в строжайшем секрете. На любые расспросы греки отвечали, будто его тайна передана ангелом первому христианскому императору, и всякому, кто раскроет ее чужеземцам, грозит страшная кара…
Пользуясь тем, что мы остались одни, и я никому не причиню неудобства, я закурил цигарку. К моему изумлению, у моего собеседника тотчас начался кашель, да такой сильный, что он побагровел лицом, на висках его выступила испарина.
Подумав, что он поперхнулся, я собрался было колотить его по спине, но тот отмахнулся.
– Нет, нет, – выдавил он из себя в перерыве между приступами. – У меня полнейшее неприятие табака. Много курил по молодости, теперь расплачиваюсь за невоздержанность.
Я поспешно отбросил цигарку и принялся извиняться.
– Ничего, скоро пройдет… Вы не могли знать. Это вы извините… Я вас оставлю теперь, не то не остановлюсь вовсе. А вы ни в чем себя не стесняйте…Кабы мог, составил бы вам компанию.
И он удалился со всей поспешностью. Я еще немного постоял, чтобы не нести ему вслед запах табака, а затем все-таки закурил. После вспышек огней темнота вокруг казалась особенно непроглядной. Я различал лишь тлеющий огонек своей цигарки, а когда он начал затухать, швырнул окурок вниз, наблюдая его полет. Это было мальчишеством, но я чувствовал удовлетворение от своей шалости. Я уже собрался было идти к гостям, когда меня остановили голоса. Поскольку чтобы выйти с балкона требовалось миновать комнату, где находились говорившие, я не мог идти без риска обнаружить свое присутствие. Не желая ставить кого-то из приглашенных да и себя самого в неловкое положение, я остановился, вследствие чего сделался невольным свидетелем разговора. Самым неприятным в сложившей ситуации оказалось то, что я без труда узнал обоих собеседников.
– Откройте, зачем вы так поступили? Я полагал вас другом, – упрекал Арик. Его звучный тенор без остатка заполнял темноту вокруг, певец не счел нужным понизить голос.
– Я и есть ваш друг, – последовал приглушенный шепот, и точно воочию я увидел Лизандра, каким он был сегодня и всегда: невысокой, франтоватый, с блестящими очами и светлыми кудрями до плеч.
– Друзья не берут чужое. Зачем вам понадобилась наша история? Стоило спросить, и мы – я или Гар рассказали бы без утайки.
– Слова бессильны передать леденящее дыхание снегов, или мерцание холодных колких звезд, или сладость вина для изнуренного жаждой… или тепло руки близкого человека, – последнее он добавил так тихо, что я не столько расслышал, сколько угадал окончание фразы. – Можете мне верить, я мастерски выучился подбирать слова.
– О, в вашем мастерстве я не сомневаюсь ничуть, коль скоро ради стихов вы пошли на подлость. Слава вскружила вам голову. Вы настолько погрузились в поэзию, что позабыли о существовании мира вокруг. Настоящие люди, в отличие от вымышленных, чувствуют боль.
Ориентируясь на слух, я мог вообразить, как Арик откидывает волосы со лба, как, скрипя ботинками, он ходит от стены к стене, натыкаясь на предметы меблировки, неверный в темноте, в то время как Лизандр сидит на невидимом стуле или в кресле, низко склонив голову, отчего его голос звучит глухо:
– Так вы полагаете, будто я пошел на это ради стихов?! Не трогайте стихи, они здесь совершенно не при чем. Ужели вы до сих пор не поняли? Не разглядели того, что видят все вокруг, что давно сделало меня мишенью для насмешек…
– Что за вздор! Откуда вы взяли, будто над вами смеются?
– Я знаю, вы осуждаете меня, я вижу осуждение в ваших глазах, в манере говорить, в изгибе ваших губ. Но дайте мне высказаться прежде, чем вынесете свой вердикт. Пожалуйста, не перебивайте! Позвольте хотя бы раз выпустить слова на свободу. Один раз и, клянусь, я навеки замкну уста. С каждым днем мне все труднее держать их в себе, смиряться, молчать, обуздывать рвущийся наружу крик. Все мои стихи, все песни я пишу лишь вам, вам одному, – Лизандр мало владел собой, говорил часто, порою бессвязно, будто в горячке. Со своего места я различал его прерывистое дыхание.
– И я за них вам очень признателен.
– Нет, нет, не то… Сотни раз я представлял, как откроюсь вам – полностью, без остатка, но никогда не думал, что не в воображении, а в действительности сделать это будет так трудно, но молчать стократ труднее. Как будто я волоку сизифов камень, что с каждым шагом становится все тяжелее. Я сделал то, в чем вы вините меня, не ради стихов, а ради любви, Арик. Я люблю вас!
– Я тоже люблю вас как друга, как брата, однако ничего у вас…
– Опомнитесь, я вовсе не братской любви говорю. Когда вы стали побратимами – с ним, не со мной, о, как я ревновал! как мучился! сколь многое передумал, силясь понять, отчего кто-то другой, не я, готовый разделить с вами и хлеб, и жизнь, и посмертие. Что есть в нем такого, чего нет у меня? Я на все пойду ради вас. Если причина в музыке, я сделаюсь музыкантом, самым лучшим музыкантом, какого только видел мир. Когда мы играли в фанты, вы целовали меня отнюдь не братским поцелуем, и я позволил себе надеяться, будто питаемые мною чувства могут найти отклик в вашей душе.
– Дался вам этот поцелуй. На сцене всегда целуют по-настоящему, зрители тонко чувствуют фальшь в игре.
– Но ведь это не игра! Моя любовь к вам не игра, она настоящая, живая, – в голосе Лизандра слышалось неподдельная душевная мука.
Тут я не выдержал и закрыл уши руками, не желая знать продолжение их разговора. Отчего только я не догадался сделать этого раньше!
Сгорая со стыда, я стоял во тьме, лишенный привычных ориентиров. Холодный ветерок овевал мои пылающие щеки. У горизонта чиркнул по небу метеор. Я не представлял, как после услышанного осмелюсь посмотреть в лицо хоть Арику, хоть Лизандру. Когда я, наконец, решился опустить ладони, в комнате царила тишина. Мои глаза за это время окончательно приноровились к темноте, я легко нашел выход и побрел туда, откуда доносилась веселая музыка и горели огни. Княжеский бал начался.
Местом его проведения был огромный зал, ярко освещенный, с хрустальными люстрами и газовыми рожками, с сверкающими зеркалами, с блестящим паркетом, неясно отображавшим движения танцующих. По обеим сторонам высились белые колонны. Судя по тому, что старшее поколение уже не танцевало, а собралось у колонн, неспешно переговариваясь, первые несколько танцев я пропустил.
Мимо меня в фигуре быстрого вальса пролетела Ангелика, поддерживаемая за талию своим бывшим женихом, улыбаясь статному черноусому кавалеру кружилась Марья Теодоровна – так живо, что из-под ее алого с бантами платья выглядывали не только туфельки и шелковые чулки, но даже кружевные панталоны; незнакомый мне мужчина с огромной лилией в петлице уверенно вел в танце одну из дочерей графа Солоцкого. Все вокруг порхало, искрилось, летело. Среди этого кружения, мелькания тюлей, бархата, шелков, в легких летящих силуэтах, в движении воздуха, в отражениях, в свете и тенях я искал Янусю.
Наконец, я ее увидал. Она отдавалась танцу без остатка, как и всему, что бы она ни делала. Черные кудряшки девушки выбились из высокой прически и падали на виски и затылок, в глазах отражался свет люстр, она хохотала, запрокинув голову и открыв белую шею, украшенную тонкой полоской бархатки. В который раз при взгляде на нее у меня сжалось сердце. Кавалером Януси был сам князь. Тонкие губы Магнатского под блестящими от брильянтина усами приподнимались в снисходительной улыбке, которая, однако, не затрагивала его глаз. Всем своим видом князь давал понять, что оценил и нашел для себя приятным увиденное примерно так же, как находят приятным лошадь или собаку.
Когда вальс окончился, Магнатский проводил Янусю к колонне, где толпилась кучка молодых людей. Я поспешил пригласить девушку на следующий танец, однако пока прокладывал себе путь через толпу, оркестр заиграл вновь, и меня опередил один из молодых людей. Чтобы не стоять, я обратился к незнакомой барышне, бывшей ко мне ближе прочих:
– Позвольте мне иметь удовольствие звать вас на танец?
Мое приглашение было принято благосклонно. Во время танца мы говорили о чем-то незначительном, я отвечал на вопросы, не задумываясь, и столь же мало думая рассказывал что-то сам. Когда музыка смолкла, моя нечаянная знакомая посетовала на духоту, и я вызывался принести ей лимонаду.
К тому времени опять заиграли, это была полька, и опять я пригласил вовсе не ту, которую хотел. Танцуя, я все время высматривал Янусю, но, едва успев найти, сразу терял ее. Это было точно в дурном сне, когда бесконечно спешишь, спешишь куда-то, а цель остается недостижимой. Огромность бальной залы, вопросы гостей и необходимость утолять их любопытство послужили виной тому, что к Янусе я подошел лишь когда музыканты отыграли несколько вальсов, кадриль и польку.
Девушка разрумянилась, сияла глазами, была очень оживлена. Волосы ее растрепались еще сильнее, и горше пахли маки, опустившие головки от царившей в зале духоты. Я был встречен упреком:
– Куда же вы запропали, Микаэль? Я надеялась мы будем танцевать полонез, как уговорились дома, ждала вас и в итоге осталась без кавалера. Кабы я знала вас хуже, непременно обиделась бы на ваше невнимание.
– Вы вправе винить меня, и я принимаю ваши упреки. Поверьте, больше всего на свете я хотел танцевать с вами, но обстоятельства вынудили меня задержаться, – вследствие того, что я не мог сказать прямо о причине своего опоздания, мои слова прозвучали по-казенному сухо. – Но я готов исправить это тотчас же. Не откажите мне в удовольствии танцевать с вами.
– К сожалению, я вынуждена. Вас не было так долго, я подумала, будто вас опять одолели расспросами, и вы позабыли течение времени. Теперь будет мазурка, я обещала оставить ее его сиятельству. Вы же понимаете, князю нельзя отказывать.
В это время к нам подошел Магнатский, и я получил возможность составить о нем представление. Князь был немолод, но и до старости ему было далеко. На вид немногим старше сорока лет, Сергей Михайлович отличался крепостью сложения, как человек много времени проводящий на охоте, в седле либо за физическим трудом. Лишенные привлекательности его черты тем не менее замечательно отображали характер: крепко сомкнутые тонкие губы наводили на мысль о жесткости и даже жестокости, острый загнутый нос с горбинкой напоминал орлиный клюв, вызолоченные кончики пышных усов свидетельствовали об интересе к модным веяниям, цепкий взгляд говорил в пользу внимательности, а прищур, отпечатавшийся морщинками у глаз, заставлял подумать о расчетливости. Впрочем, даже не глядя на князя, а лишь наблюдая его дом, прибранный богато, с роскошною обстановкой и вышколенными слугами можно было понять, что хозяин – человек рачительный, состоятельный и воспринимающий свое превосходство как должное.
Судя по всему, Магнатский слышал последние слова Январы, потому как сказал, улыбаясь из-под раззолоченных усов своею холодною улыбкой:
– Январа Петровна тонко ухватывает суть. Князьям отказывать не должно никак, они привыкли иметь все, что пожелают.
С этими словами он обнял Янусю, как обнимают некую удобную вещь – дорожный саквояж или старый плед, и увлек танцевать.
Мне неприятно было внимание князя к Янусе, как неприятен был и сам этот человек. И одновременно я понимал, что моя неприязнь вызвана ревностью, на которую я не имел права. Князь мог дать Янусе все то, чего не было у меня и на что могла рассчитывать такая блестящая девушка: богатство, имя, положение в обществе, что делало его выгодной партией. Но, понимая разумом, я не мог принять этого сердцем, а оттого пристрастно высматривал в князе недостатки и, разумеется, раз за разом их находил. Следом я принимался корить себя за недостойную мелочность, за обвинения едва знакомого человека, и таким образом сознание мое металось от крайности и в крайность, подобно маятнику.
После мазурки объявили ужин. Лакеи в богато расшитых ливреях, белых поясах и перчатках проводили гостей на места. Янусю провожал сам князь. Он усадил ее рядом с братом и Пульхерией Андреевной, высказал комплименты утонченному вкусу матушки и невыразимому обаянию дочери.
Мое место оказалось рядом со Звездочадским. По правую руку от меня сидела пожилая дама, к моему вящему облегчению поглощенная разговором со столь же немолодым соседом, приходившимся ей не то двоюродным дядей, не то внучатым племянником.
Столы были застланы роскошными льняными скатертями с вышитыми на них виноградными листьями и монограммами князя: «С.М». Та же монограмма присутствовала на сервизах и всей посуде. Хотя замок освещался электричеством, отдавая дань традициям, в серебряных канделябрах горели свечи. Стол украшали гирлянды цветов. Блестящие хрустальные вазы были завалены горами тепличных плодов: виноград, персики, абрикосы, апельсины, клубника и земляника, черешня, ананасы. Каждая деталь ужина была продумала до мелочей и призвана подчеркнуть богатство и высокое положение Магнатского.
Подаваемые на стол кушанья отличались большим разнообразием. Слуги поднимали их с кухни благодаря хитроумному механизму и споро разносили гостям – все изысканное, барское, редкое. В смежной комнате играли музыканты, услаждая слух гостей. Я будто попал на прием к самому императору.
Разговоры не прекращались и за ужином. Я не привык к обильной пище, а оттого, насытившись, принялся украдкой изучать гостей. Один особо привлек мое внимание. Как и я, он выделялся своим нарядом. Вместо фрака этот господин был облачен в лососевого цвета кафтан, подпоясанный широким узорчатым поясом. С этого пояса он снял длинный кинжал, чтобы резать подаваемую дичь и фрукты. Случайно или намерено его место оказалось подле Ангелики, красота которой не оставила гостя равнодушным. Он изо всех сил старался понравиться девушке: то предлагал ей самые спелые плоды, то рассказывал истории, которым Ангелика задорно смеялась.
– Неужели это… – прошептал я, и Зведочадский договорил за меня:
– Он самый. Страж стены. Его лицо кажется мне знакомым.
Оказывается, Ночная Тень тоже обратил внимание на этого господина.
Мне тоже показалось знакомым лицо стража, и, покопавшись в памяти, я вспомнил, где мог его видеть.
– Он стоял у стены в тот день, когда мы приехали в Мнемотеррию.
– Как я погляжу, обширные знакомства у Сергея Михайловича. Хотел бы я знать, что тут позабыл страж.
После ужина танцы возобновились. Звездочадский поднялся из-за стола:
– Пойду приглашу кузину, пока ее вниманием не завладел очередной светский хлыщ, – пробормотал он.
Мне было легче, ведь девушка, с которой я хотел танцевать, находилась в непосредственной близости. Я склонился в поклоне, подавая Янусе руку. Я настолько желал танцевать именно с нею, что даже не мог помыслить, будто мой жест может быть истолкован превратно. Однако Пульхерия Андреевна, сидевшая рядом с дочерью, приняла приглашение на свой счет. Она улыбнулась, кокетливо тряхнула осенне-рыжими кудрями и положила обтянутую перчаткой ладонь поверх моей. Не желая показаться невежливым женщине, что так гостеприимно принимала меня у себя в доме, я повел ее в круг танцующих.
Когда мы отходили, я увидел, как к Янусе направляется Магнатский с букетом алых маков. Госпожа Звездочадская со свойственным всем матерям вниманием к сердечным делам детей, заметила:







