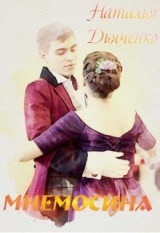
Текст книги "Мнемосина (СИ)"
Автор книги: Наталья Дьяченко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Глава 16. Окончательное решение
Глава XVI. Окончательное решение
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
Николай Гумилев
Дорога к особняку с цветными стеклами показалась мне бесконечной. Мои мысли, пришпоренные бессонницей и нервным возбуждением, неслись вскачь, и никаким живым скакунам было не угнаться за ними. На стук споро явился лакей в ливрее из сукна горохового цвета, обшитой желтым басоном[1], в ярко-голубом жилете и атласных малиновых штанах. Услыхав, что я к господину Летофорову, лакей ответствовал хмуро: «Заняты покуда». На его лице явственно читалось отношение к ранним гостям. Хмурясь, лакей проводил меня в библиотеку, соседствующую с кабинетом, где и оставил в окружении высоких шкафов, статуэток из бронзы, напольных ваз с затейливым восточным орнаментом, картин в тяжелых рамах и прочих изысканных вещиц.
В иное время собрание книг за стеклами шкафов непременно заинтересовало меня. Но ныне я был взбудоражен, желал поскорее знать мнение Летофорова, а оттого нетерпеливо вышагивал между шкафами, едва обращая внимание на их содержимое. Из отворенного окна долетали звуки улицы, где только-только зачиналась утренняя возня: гремели ведрами водоносы, грохотали первые извозчичьи экипажи, ранние прохожие стучали каблуками по мостовой, издалека доносились крики лоточников. Дверь в кабинет была приоткрыта, разумеется, в такую рань никто не ждал наплыва посетителей, и также ясно, как звуки улицы, я услыхал обрывок разговора.
– Я хочу, чтобы из меня вынули любовь. Еще вчера мне думалось, будто отдать ее – преступление, думалось, будто она живая. Она дарила мне бессонные ночи, дарила стихи – чудесные, яркие, но нести ее одному нет моих сил. Она палит невыносимым огнем, она выжигает дотла, оставляя в душе пустыню. Заберите ее, чтобы она прекратила, наконец, мучать меня. Я желаю уехать свободным!
Он был мне хорошо знаком, этот голос и звенящая в нем страсть вперемешку с отчаяньем.
Ответ был свободен от страстей, а его холодность могла соперничать со стынью могильной плиты.
– Я пошлю к вам человека, едва найду покупателя, а до сей поры уж потерпите, голубчик! Сами понимаете, сердечные муки – не ходовой товар.
– Нет сил моих больше терпеть! Благодаря ей я сделался посмешищем. Я не просил, не ждал ее. Точно кошка дождливой ночью, она обманом прокралась ко мне, прижалась к сердцу, и лижет, лижет его своим наждачным языком. Скоро уж слижет все подчистую!
– Ну, полноте, успокойтесь. Вот, извольте воды! Или предпочтете что покрепче? Архип, Архип, поди сюда!
Зазвенел колокольчик, и прибежавший звон слуга затворил дверь кабинета, отсекая меня от продолжения беседы. Кабы не ночные раздумья, этот разговор породил в моей душе очередные вопросы, но теперь, когда я владел знанием кристальным и ясным, услышанное легко ложилось в канву моих размышлений, в очередной раз доказывая их правоту. Время тянулось мучительно медленно. Но вот наконец Лизандр, а это его голос я слышал, вышел, и лакей пригласил меня в кабинет.
От стола мне навстречу поднялся грузный мужчина. У него была темная борода, прикрывавшая тяжелую нижнюю часть лица, темные глаза навыкате под вопросительно изогнутыми широкими бровями, глубокие морщины на лбу и неровная воспаленная кожа. Некогда густые, прошитые нитями седины, волосы ныне сильно поредели на висках. Грузную фигуру Даниила Васильева плотно облегал темно-коричневый сюртук, из-под которого виднелись рубашка с воротником-стойкой, туго затянутый галстук и шелковый жилет в полоску. Всем своим видом Летофоров свидетельствовал достаток и преуспеяние. В отличие от Комарова, он был готов к труду в любое время суток.
На стене за спиной Даниила Васильевича висела картина в массивной золоченой раме. На ней была изображена подземная река, влекшая свои мутные зеленоватые воды под низкими каменными сводами. По реке скользил челн, которым правила согбенная фигура. Лицо и кисти рук человека освещал стоящий на носу лодки фонарь, остальное тонуло во тьме. Возможно, прежде на холсте было изображено что-то еще, но теперь краски съело ненасытное время, и ничего уже нельзя было различить. Ниже этой картины висели еще три, поменьше, с видами подземных рек и озер, каковыми изобиловали окрестности Мнемотеррии.
Рукопожатие владельца кабинета вышло жарким и энергичным.
– Приветствую, приветствую! Что привело вас ко мне в столь раннюю пору? – осведомился он сочным раскатистым басом.
– Игнатий Пантелеевич Комаров рекомендовал мне вас, как человека, могущего помочь в вопросе весьма деликатного свойства.
– О, мой добрый друг Игнатий Пантелеевич! Не поверите, живем по соседству, но никак не соберемся хотя бы почаевничать: то мне некогда, то у него дел невпроворот. Широчайшей души человек, всякому на помощь придет, за всякого радеет. Ну, другу Игнатий Пантелеевича я не могу отказать никак. Поведайте об вашем деле!
– Я… – голос мой вдруг сорвался. Я откашлялся, набрал полную грудь воздуха и продолжил решительно: – Мне нужно в кратчайший срок собрать значительную сумму. Взамен я готов расплатиться с вами… иным образом.
– Вы хотите, чтобы я ссудил вам денег? О какой сумме идет речь?
– Тридцать пять тысяч идеалов.
Летофоров присвистнул.
– Однако, аппетиты у вас значительные.
– Это возможно?
– Поведайте о себе. Вы же понимаете, я сугубо деловой человек и должен в полной мере оценить риск, которому подвергаюсь.
Я исполнил его просьбу.
Я рассказывал про батюшку и матушку, про отца Деметрия, про службу в армии и свою дружбу со Звездочадским, приглашение которого привело меня в Мнемотеррию; рассказывал без утайки, потому как если моя догадка была верна, запираться не имело смысла. Я вспоминал свою жизнь день за днем, все подробнее, все острее, как если бы переживал ее заново. Пока я говорил, Даниил Васильевич сидел, вперив в меня тяжелый взгляд своих темных навыкате глаз. Они точно просвечивали меня насквозь невидимыми лучами, понимая муть со дня души, обнажая самые неприглядные тайны, равно все самое стыдное и самое дорогое. И от этого взгляда делалось не по себе. Так неуютно я не чувствовал себя даже под прицелом вражеских пулеметов. Мне хотелось стряхнуть с себя этот взгляд и порождаемое им гнетущие чувство безысходности, но я говорил, говорил и говорил, повинуясь незримому зову глаз Летофорова. Когда я закончил, Даниил Васильевич называл свою цену.
Признаться, я ждал иного. Где-то там, отрезанные стеной Мнемотеррии, остались отец и матушка, принесенная присяга, долг и честь и память о сестрах, которых в моей памяти не было. Здесь же была Януся, милая, беспомощная Януся, любимая мною всем сердцем. И ради нее я сидел против Летофорова, раскрывая душу без утайки. Все задуманное мною предприятие служило одной лишь цели – обеспечить счастье Януси.
Я мог долго размышлять, вправе ли я платить затребованную Летофоровым цену, однако в глубине души я давно принял решение. Читая ночью свои дневники, идя с утра к Игнатию Пантелеевичу, а затем и к Даниилу Васильевичу, я нес это решение, и оно вызревало во мне. Было ли оно верным? Я не знал. Отец Деметрий сказал как-то, что за неверным решением непременно следуют мысли о том, что ты где-то недорешил, не учел всех обстоятельств, недоглядел, недодумал, и ты возвращаешься к нему вновь и вновь, преломляя через призму «а если бы». И только верное решение окончательно. После него не остается сомнений – остаются тяжесть, сожаления, боль, раскаяние, что угодно, только не сомнения. Когда я протянул Летофорову руку, сомнений в моей душе не было, их вытеснила горячая убежденность в верности моего поступка.
Игнатий Пантелеевич попросил несколько дней, чтобы благодаря полученному мною займу расплатиться с кредиторами Звездочадских. Стопка погашенных расписок росла и одновременно близился час, назначенный Летофоровым для расплаты. До сей поры я не говорил ни Янусе, ни ее матушке о сделке, заключенной мной, дабы освободить их от долгового бремени. Как ни в чем не бывало я бродил по парку поместья и по окрестностям Обливиона, заполнял свой дневник, повинуясь скорее привычке, нежели необходимости, проводил время с Янусей, пытаясь поддержать ее в горе.
Часто наезжал Магнатский. Он то сидел в гостиной, и я не находил в себе желания внимать его нравоучениям, а оттого старался занять себя на время этих визитов, то увозил Янусю в город, будучи убежденным, что тем самым помогает ей развеяться. С их совместных прогулок девушка возвращалась молчаливой, замыкалась в себе и точно угасала. Однако пока замысленное мною предприятие не увенчалось успехом, я не смел обнадежить ее иначе как общими фразами, и с тем большим нетерпением ждал весточки от Комарова. Наконец Игнатий Пантелеевич прислал записку: «Ваше поручение исполнено надлежащим образом». Я торопливо собрался и верхом поехал в Обливион.
– Ваше поручение исполнено, господин Светлов, – поднимаясь из-за стола мне навстречу повторил Комаров то, что уже было сказано запиской. На зеленом сукне перед поверенным лежал знакомый мне бювар, который Игнатий Пантелеевич подвинул в мою сторону. – Возьмите. Мать и дочь Звездочадские полностью свободны от долгов.
Я принял папку и сердечно благодарил поверенного.
– Был рад оказаться полезным, – учтиво отвечал Комаров. – Если смогу помочь вам чем-то еще, ныне или в будущем…
Говоря о будущем, он запнулся и закашлялся, пытаясь сгладить возникшую неловкость, но все же протянул мне свою carte-de-visite. Мы оба знали, что вне зависимости от дальнейших обстоятельств отношения между нами завершены навсегда, но точно актеры в дурной пьесе продолжали притворяться, будто еще встретимся. Я взял визитку и положил к той, что уже была у меня.
Лакей проводил меня до двери, мальчишка-конюх подвел коня. Я торопливо взлетел в седло и пустил коня с места крупной рысью, надеясь поскорее сообщить Янусе счастливую весть. Однако застигнуть девушку мне не удалось – когда я справился о ней, слуга ответствовал, что молодая госпожа уехала с их сиятельством. Нервное возбуждение не оставляло меня, и, проведя бессонную ночь, я тем не менее не мог заснуть, предварительно не переговорив с Янусей. Чтобы скоротать время, я принялся складывать свои вещи в саквояж: завернул в бумагу и уложил на дно порядком обтрепавшийся молитвенник для православных воинов, снял с груди Святого Георгия и спрятал среди носильных вещей. Затем настал черед дневников. Я расправил замятые страницы, сложил свои записи аккуратной стопкой и перевязал для надежности. На самый верх саквояжа я отправил револьвер и гостинцы для родных. Отдав таким образом дань армейской дисциплине, я спустился вниз и вновь осведомился у слуг о Янусе.
– Барышня у себя.
– Одна? – уточнил я, не желая сталкиваться с князем.
Ответом мне был утвердительный кивок.
Женскую половину дома Звездочадских составляли несколько комнат, в которых неосязаемо, но явно витал дух изнеженного изящества. Они были светлы, всегда полны источавших нежное благоухание цветов, обставлены ореховой мебелью стиля second empire, украшены картинами, вазами и милыми статуэтками из бронзы или цветного фарфора, столь приятным женскому сердцу. Высокие окна комнат выходили в сад, добавляя к цветочным орнаментам и витавшему аромату возможность слушать шепот ветра в листве да стук бьющихся в стекло ветвей.
Янусю я нашел в малой гостиной, где домочадцы собирались, когда не было гостей. Здесь же, бывало, накрывали стол, если Звездочадские обедали в семейном кругу. Небольшая комната была обустроена в светло-золотых тонах, с лепниной на стенах и потолке, с мебелью, обтянутой коралловым шелком с изображениями пионов, с большими белыми вазами, наполненными живыми цветами, и вазами маленькими, из золота и фарфора, воплощавшими изысканную утонченность. Над камином, украшенном изваяниями крылатых женщин, висело зеркало в золоченой раме, в котором удваивалась вся гостиная и наполнявшая ее хрупкая роскошь.
Януся сидела на невысоком диванчике, держа на коленях раскрытую книгу, которая выступала такой же деталью обстановки. Взгляд девушки, минуя страницы, был обращен к окну, хотя, сдается мне, и там Януся едва ли различала детали. Когда я вошел, она обратила взор на меня, губы ее дрогнули, но улыбка, некогда бывшая частой гостьей на ее лице, так и не озарила милые черты. Еще недавно всеми силами торопивший приближение этого разговора, я вдруг испытал странную робость.
– Как вы провели время? – спросил я, страшась перейти к важному.
– Сергей Михайлович изволил отвезти меня в свой любимый ресторан.
– Вот как. Что ж, рад за вас. Надеюсь, вы получили удовольствие от угощения?
– Да, несомненно, – безучастно отозвалась Януся, точно говорила не о себе, а о ком-то стороннем.
Обсуждать Сергея Михайловича мне не хотелось, поэтому я спросил:
– Быть может, вы хотели бы пройтись по парку? Или посидеть в саду?
– Только если этого хотите вы, – отвечала она, не делая ни малейшей попытки подняться. Мне никак не удавалось вызывать в ней иные чувства, помимо отстраненной вежливости, и я, наконец, решился.
– Я пришел, чтобы сообщить вам хорошую новость. Как выяснилось, по меркам Мнемотеррии я располагаю значительным капиталом. Я употребил его на то, чтобы избавить вас и вашу матушку от нужды.
Верно, я выразился довольно туманно, поскольку Январа переспросила:
– Вы что?
– При любезной помощи господина Комарова я оплатил долги вашей семьи, все, до последнего. В этой папке вы найдете тому подтверждение. Теперь вы можете быть уверены, что у вас есть крыша над головой и средства к существованию. Вам нет необходимости терпеть общество неприятных вам людей, вы вольны выбирать друзей по зову сердца, а не повинуясь необходимости.
Я протянул Январе бювар, где были собраны свидетельства долгов ее отца и брата, ныне погашенные. Девушка оторопело взглянула на меня:
– Вы оплатили наши долги?
– Да, да, Януся, вы свободны.
Что-то в ее взгляде заставило меня отступить. Январа медленно покачала головой, не предпринимая попыток забрать у меня папку.
– Сергей Михайлович просил моей руки. Он согласился повременить со свадьбой, пока не кончится траур по Габриэлю. Для нас с маменькой это наилучший выход из наших печальных обстоятельств. С маменькиного благословения я дала согласие Сергею Михайловичу.
Я замер. Слова, рвущиеся с моих уст, заледенели о осыпались на пол звонким колким дождем. Все, что составляло мою жизнь, в одночасье обратилось в ничто: самые радужные надежды, самые смелые планы, тяготы, что чаял я преодолеть, принесенная мною жертва да и сама жизнь, которая отныне мне не принадлежала.
– Что ж, – молвил я, точно в оцепенении опуская бювар на колени Янусе, прямо поверх раскрытой книги, которую она не читала. Я заплатил за эти бумаги слишком высокую цену, чтобы отшвырнуть их в сторону как ничего не значащую безделицу. – В таком случае считайте это моим подарком по случаю вашей помолвки.
Она вздрогнула, точно пробуждаясь от своего вековечного сна, поднялась, отчего бювар с глухим стуком упал на пол. От удара замок раскрылся и бумаги, точно скорбные белые птицы, разлетелись по паркету. «Одолжил у А.П. две сотни идеалов. Уговорились рассчитаться пятого дня июля. Жоржу и Жоре отдать по полторы тысячи каждому. Управляющему должно семь сотен за труды и сверху пять чаяний на водку, коли шалить не будет. Тысячу в счет батюшкиного долга – Н.Т».
Январа потянулась было ко мне, но беспомощно уронила руки, точно между нами воздвиглась стена повыше той, что окружала Мнемотеррию.
– Не судите меня строго, Микаэль. Вы не знаете, что такое быть бедным.
«Увы, знаю это слишком хорошо» – мог бы возразить я, но не посмел.
– Я слаба, я боюсь нужды. Я была бы готова рядиться в обноски, бродить по дорогам и побираться где угодно, только не здесь, не в Мнемотеррии. Здесь нельзя быть бедным. Как бы ты ни противился, рано или поздно нужда одержит верх, и ради того, чтобы вырваться из ее пут, ты начнешь отдавать себя, раз за разом, по частям, но неизбежно, до конца, – истово зашептала она, желая объясниться и все-таки даже теперь, как прочие мнемотррионцы, связанная общей их тайной – тайной, которую я уже знал.
– Я слишком уважаю вас, чтобы судить. Вы вольны поступать, как считаете нужным. Мало бы я любил вас, кабы требовал за свою любовь благодарности.
– Но вы очень дороги мне, Микаэль! – она опять потянулась ко мне и вновь бессильно опустила руки, так и не решившись коснуться.
– Не смею дольше обременять вас своим присутствием, я и так загостился непростительно долго. Попрощайтесь за меня с вашей матушкой.
Я направился к двери, оставляя всю свою жизнь, прежнюю и грядущую, рассыпанной у ее ног. Я намеревался уйти, не оглядываясь, но возглас Януси остановил меня:
– Постойте!
Не зная имени той странной и необоримой власти, что имела она надо мной, но не смея противиться ей, я обернулся. Януся преодолела разделявший нас барьер, приблизилась ко мне вплотную и, вцепившись обеими руками в мой мундир, горячо зашептала:
– Не возвращайтесь! Не ходите туда, Микаэль!
Неоднократно на войне я становился свидетелем тому, как в минуту опасности к людям, неожиданное и яркое, приходило прозрение. По этому «не ходите туда» я понял, что Януся говорит вовсе не об отъезде из Мнемотеррии. Она догадалась об уплаченной мною цене.
Я смотрел в ее голубые глаза в стрелах слипшихся от слез ресниц, смотрел на высокий, обрамленный темными кудряшками лоб, на мягкий абрис ее лица, на изящную линию губ. Она была моим сердцем, моею душой. Я смотрел на нее, зная, что она будет принадлежать другому, и даже образ ее у меня отнимут, но не смотреть было превыше моих сил. Со всей мыслимой нежностью я стер подушечками пальцев слезы, что сбегали по щекам Януси. Стоя среди осколков собственной жизни, я нашел в себе силы утешить ее:
– Не могу, Януся, я дал слово, слово офицера и дворянина. Но вам нет нужды печалиться, я убежден, у вас все сложится наилучшим образом, – я осторожно расцепил пальцы девушки и оторвал их от своего мундира. – Прощайте! Не поминайте лихом!
Отсалютовав, твердым шагом я вышел из комнаты, а затем и из Небесного чертога. Я шел в Oblivion.
[1] Басон – шерстяная тесьма для нашивок.
1 Бастон – шерстяная тесьма для нашивок.
XVII. Иван Федорович и Николай Ильич. Расставания и расстояния
XVII. Иван Федорович и Николай Ильич. Расставания и расстояния
Зачем ты просишь новых впечатлений
И новых бурь, пытливая душа?
Не обольщайся призраком покоя:
Бывает жизнь обманчива на вид.
Настанет час, и утро роковое
Твои мечты, сверкая, ослепит.
Николай Заболоцкий
Когда Николай Ильич перевернул последнюю страницу дневника, за окнами уже начало светать. Серый и робкий, с небес спускался рассвет, шел через дальние туманные поля, крался по темному парку, очерчивал контуры черемуховых ветвей близ окна и сочился в комнату сквозь стекло. Николай Ильич долго вглядывался в пробуждающийся мир, погруженный в собственные думы, столь же неясные и зыбкие пока, как этот рассвет, а затем покойно, как ребенок, смежил веки и от состояния бодрствования разом обратился в состояние сна, которое мало чем отличалась от предыдущего, по крайней мере, мысли Николая Ильича оставались все теми же, приобретя лишь более зримое воплощение и облекшись запахами и звуками.
Отставной военный видел во сне Мнемотеррию – страну высоких гор и кипучих рек, видел Обливион и быстрый Селемн с цветущими яблонями по берегам. Возле реки, у самой границы мира снов, стояла худенькая темноволосая девушка в платье цвета утренней зари и синей шали, затканной серебряными маками. Далекая и близкая одновременно, как никогда не случается наяву, но частенько бывает во снах, она была исполнена неизъяснимой пленительной нежности. Ее огромные глаза полночной синевы отражали горы, и реку, и яблоневый цвет, кожа была млечно-белой, как поднимавшийся от реки туман, и сама она казалась точно вышедшей из этого колышашегося марева и при любом неосторожном движении вновь готовой раствориться в нем. Откуда-то издалека, гулкие и мерные, ровно удары колокола, наплывали стихотворные строки. Во сне стихи были накрепко спаяны рифмой, но после того, как они отзвучали, Николай Ильич не смог вспомнить ни слова, в памяти осел лишь четкий, почти маршевый ритм да едва уловимое веяние крыл музы, мельком пролетевшей мимо. А может, то был просто ветерок, что колебал кисти шали на плечах девушки и пряди ее темных волос.
Верный армейской дисциплине, Николай Ильич проспал не более пары часов, а затем пробудился рано, как приспособился за долгие годы военной службы. Зная, что и дядя – жаворонок, Николай Ильич спустился в гостиную, надеясь застать его там. И верно, Иван Федорович уже пил свой утренний кофе из любимой чашки с щербинкой, будучи таким же, как племянник, рабом давно устоявшегося распорядка, только в его случае не навязанного извне, а сложенного им самим.
Профессор Бережной прибран был по-домашнему: в барском халате из темно-алого бархата с шелковым воротником, в разношенных туфлях без задников, в пенсне с толстыми стеклами. Перед ним, на расшитой фазанами скатерти, с опорой на массивную сахарницу стояла раскрытая книга, на полях которой профессор, не чинясь, делал заметки карандашом. Заслышав шаги, он поднял голову и молвил:
– Доброе утро! Рад видеть вас. Признаться, книга оказалась не столь интересной, сколь можно было ожидать, поэтому я с удовольствием воспользуюсь вашим приходом как поводом избавиться от сей тягомотины. Как вам спалось?
– Вы шутите? Вы вручили мне этот дневник, – племянник также, как и дядя, положил на чайный столик тетрадь в кожаном переплете, полученную им вчера, – и полагаете, будто демон любопытства позволит мне смежить веки? Стоило лишь раскрыть его, как я тотчас пропал между страницами и не обрел себя до тех, пока не завершил чтение.
Николай Ильич взял жестяной высокий кофейник и наполнил себе чашку, как любил – по золоченый ободок. Кофе обжигал губы, по чему племянник рассудил, что поднялся немногим позже дяди.
– Что ж, иного я и не ждал. Я сам, едва заполучив рукопись, был буквально парализован, так хотелось мне знать, чем все разрешится.
– Разрешится? Но ведь история обрывается на самом интересном месте! Как сложилось дальнейшая судьба героев? Что стало с Январой, с Лизандром и Лигеей, с самим Михаилом?
Профессор Бережной потянулся к молочнику и разбавил свой густой кофе не менее густыми сливками. Неторопливо отхлебнул, покатал получившийся напиток на языке, а затем отвечал:
– Зная людей и имея некоторое представление о законах, правящих этим миром, я легко могу домыслить окончание. Ни добро, ни зло не воздаются по заслугам, сколько бы священники не пытались убедить нас в обратном. В жизни все подчинено причинам и следствиям, а не некой абстрактной справедливости. Да и что есть справедливость, как не наше желание уравновесить добро и зло? А ведь и они тоже суть выдуманные нами понятия, имеющие значение для нас самих, но безразличные природе, которая существует вне изобретенных нами категорий, по собственным правилам. Смерть семени есть начало жизни цветка, гибель добычи непременное условие существования хищника, да и сами мы, если верить ученым, сложены элементами, родившимися в сердце умерших звезд. И где здесь добро, где зло? Оставив полвека за плечами, я успел уяснить, что искренние душевные порывы чаще всего пропадают втуне. Полагаю, Январа сделалась княгиней, как того и желала, стена осталась на том же самом месте, где стояла испокон веков, а за стеной навсегда затерялся автор сей рукописи.
– Но будь так, ни вы, ни я не узнали бы его истории! – с жаром возразил племянник на рассудочные речи дяди.
Нимало не убежденный сим аргументом, профессор Бережной пожал плечами и вновь отхлебнул кофе:
– Существует много путей, какими дневник мог к нам попасть. Даже исключая тот факт, что от начала до конца он может быть вымыслом. Хотя я все же поставлю на его достоверность.
Вспомнив представший ему во сне образ, Николай Ильич почувствовал себя обязанным вступиться за Январу:
– У меня сложилось впечатление, что Януся разделяла чувства Михаила. Отчего вы полагаете, будто она желала брака с Магнатским, а не просто примирилась с ним под влиянием обстоятельств?
Этот довод также не произвел на Ивана Федоровича впечатления. У профессора уже имелось собственное мнение, не столь снисходительное:
У Январы была возможность повернуть ситуацию вспять. Это мужчина связан данным словом, к обещаниям женщины общество относится куда снисходительнее. Она могла расторгнуть помолвку после того, как Михаил сказал, что оплатил долги их семьи, однако предпочла оставить все, как есть. Сдается мне, Январа не любила Михаила. Бесспорно, она была им очарована, восхищена ореолом воинской доблести, покорена оказываемыми им знаками внимания. Но можно ли называть это любовью? Хотя я вполне допускаю, что она могла обманываться относительно собственных чувств. Люди жаждут любви, ищут ее, связывают с ней счастье, но каждый понимает под ней совершенно различное. История знает немало тому примеров – Петрарка ради любви писал сонеты, а Менелай развязал войну, в которой погибли тысячи людей. Я много думал о том, что есть любовь, и теперь готов поделиться с вами итогом своих размышлений. Если Александр Павлович уподоблял любовь алмазу, то мне она кажется сродни увеличительному стеклу. Она не возвышает, как принято считать, а лишь усиливает качества, уже имеющиеся в человеке: натуры мелочные любят расчетливо, эгоистично, а честные и порядочные в этом чувстве и впрямь возносятся до небес. Для любви не важен предмет, она проистекает из души человеческой, из свойств личности и это роднит ее с верой, которая, по глубокому моему убеждению, также не отражает действительного положения вещей, а исключительно является свойством человеческой натуры.
Николай Ильич покачал головой и даже отставил в сторону чашку, так увлек его спор. В армии он был лишен таких бесед, предполагающих обмен впечатлениями от прочитанного, и столь рассудительных собеседников, отстаивающих собственное мнение не кулакам или пальбой из пистолета, а весомыми доводами, и теперь получал немалое удовольствие, наверстывая упущенное. Да и приснившаяся девушка никак не шла у него из головы.
– Вы слишком строги к Янусе. У Михаила имелся определенный жизненный опыт, она же едва вышла из детского возраста. Что могла она знать о любви? Как бы сумела, не имея образца перед глазами, отличить подлинное от подложного? Девушка испугалась будущего, и кто вправе ее за это винить? Поверьте, на войне я навидался немало примеров тому, что страх делает со здоровыми крепкими мужчинами. Будь у Януси время подумать, не сомневаюсь, она приняла бы верное решение, но события развивались чересчур стремительно: смерть брата, разорение. Разумеется, она выбрала самый легкий путь. Способность решать в условиях ограниченного времени дана немногим.
Профессор Бережной внимательно выслушал племянника. Николаю Ильчу не удалось заставить дядю поменять свою точку зрения, однако его доводов хватило, чтобы заронить в сердце того сомнения:
– Верно, потому я и не женился, что ждал от женщин слишком многого, – задумчиво сказал профессор, затем, пожевав губами, спросил. – А вы полагаете, исход этой любви мог быть иным?
– В других обстоятельствах отчего бы и нет?
– Я склоняюсь к тому, что обстоятельства вторичны. Главное – люди. Они либо способны идти против них, либо нет. Кабы не случилось этой беды, случилась бы иная, равным образом проявившая тонкость чувств Январы. Разумеется, я имею ввиду ту тонкость, которая неизбежно рвется при напряжении.
Ивану Федоровичу не так просто было отказаться от присущей ему категоричности суждений, но и Николай Ильич не позволил сбить себя с толку:
– И вновь я с вами не соглашусь. Разве вы хотя бы раз не оказывались в ситуации, когда все вокруг будто препятствует в воплощении задуманного? Допустим, вы выходите из дому, чтобы идти куда-то, но ветер дует вам в лицо, и сечет дождь, и точно назло поблизости не оказывается ни одного извозчика. Однако, будучи человеком упрямым, вы напрягаете свои душевные силы, пядь за пядью упорно продвигаясь к намеченной цели. И что же? Достигнув желаемого, вы убеждаетесь, что оно вам не столь уж необходимо: вам оказывается не интересно в обществе, куда вы стремились, или искомого человека не случается на месте. Так к чему было идти наперекор судьбе, если сам мир берег вас от излишних усилий?
Иван Федорович слушал племянника, не перебивая. В прищуренных глазах за стеклами пенсне угадывалась работа мысли. Когда Николай Ильич замолчал, профессор Бережной неторопливо, обдумывая каждое слово, выдал итог своих размышлений.
– Вы напрасно противопоставляете умение примириться с судьбой и умение возвыситься над ней. Можно бороться впустую, о чем вы и говорили, а можно принять испытания, выпавшие на вашу долю, и это вовсе не взаимоисключающие вещи. У арабов есть слово – кисмет, оно означает судьбу как неизбежность, предопределенность. Именно арабы первыми изобрели цифры, а уж по части медицины и алхимии им вовсе не было равных. И еще кофе, они научили весь мир пить кофе, так что им вполне можно верить, – добавил последний, самый весомый, аргумент профессор Бережной, рассматривая восточный орнамент на своей щербатой чашке. – По молодости я думал иначе и постоянно пробовал на прочность законы мироздания, но с тех пор я имел возможность неоднократно убедиться в их незыблемости. Умение возвыситься над обстоятельствами, не сломаться под гнетом – вот единственное, что нам доступно, и единственное, что действительно имеет ценность. Однако, зная ваш пытливый нрав, я предполагал, что история Михаила Светлова неизбежно породит у вас вопросы. И ради утоления вашего любопытства я выведал координаты святой обители, у служителя которой ее приобрел. Слава этой обители гремит далеко за ее пределами.
– Чем же она столь знаменита?
– А это вторая причина, по которой я выспрашивал дорогу. Проживающие там монахи успешно врачуют недуги, берущие начало из души человеческой. Впервые я услыхал о ней от своего хорошего знакомого в связи с довольно печальными обстоятельствами. Его сын, росший веселым и общительным мальчиком, в один день внезапно перестал разговаривать. Желая быть понятым, он мычал и жестикулировал, однако ни слова не слетало из его уст. Несчастные родители прибегали к помощи деревенских знахарей и дипломированных медиков, чьи старания одинаково не увенчались успехом. Случайно мой знакомый узнал об этой обители и решился отвести мальчика туда. И что же? Неделя пребывания в монастыре полностью исцелила ребенка. Так что смею надеяться, с вашим недугом монахи управятся столь же легко, и вы сможете жить, не оглядываясь на прошлое.








