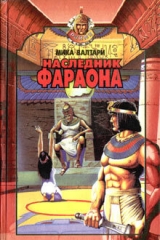
Текст книги "Наследник фараона"
Автор книги: Мика Тойми Валтари
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 43 страниц)
3
Хоремхеб находился в моем доме, истощенный и не знающий сна. Его глаза становились мрачнее с каждым днем, и у него не было никакого вкуса к еде, которую Мути постоянно ставила перед ним. Мути, как и многим другим женщинам, Хоремхеб очень нравился, и она питала к нему больше почтения, чем ко мне; ученый или не ученый, я был всего лишь мужчиной со слабыми мышцами.
Хоремхеб сказал:
– Что мне до Амона или Атона? Но из-за них мои люди одичали, так что мс ей плети придется пройтись по многим спинам и много голов упадет прежде, чем я приведу их в чувство. И это очень жаль, ибо они хорошие бойцы, когда подчиняются дисциплине.
Капта богател с каждым днем, и лицо его лоснилось от жира. Теперь он проводил ночи в «Хвосте крокодила», ибо командиры и сержанты шарданов платили за выпивку золотом, а в задних комнатах таверны все росли груды краденого добра – драгоценностей, сундуков, циновок, которыми посетители расплачивались за вино, не спрашивая о цене. Никто не нападал на этот дом и воры его обходили, ибо его охраняли люди Хоремхеба.
На третий день мой запас лекарств иссяк, а достать другие было невозможно даже за золото. Мое искусство было бессильно перед болезнью, которая распространилась в бедных кварталах от трупов и нечистой воды. Я был измучен, и сердце в моей груди было подобно ране, а глаза от бессонницы налились кровью. Мне было тошно от всего – от бедняков, от ран, от Атона, и я отправился в «Хвост крокодила», где пил смешанное вино, пока не заснул.
Утром Мерит разбудила меня; я лежал подле нее на циновке. Глубоко пристыженный, я сказал:
– Жизнь подобна холодной ночи, но поистине приятно, когда двое одиноких смертных согревают друг друга, даже если их руки и глаза лгут во имя дружбы.
Она сонно зевнула.
– Откуда ты знаешь, что мои руки и глаза лгут? Мне надоело бить солдат по рукам и отпихивать их ногой; здесь, возле тебя, Синухе, единственное безопасное место в городе – место, где никто меня не тронет. Почему это так получилось, не знаю, и мне немного обидно, потому что, как говорят, я красива и живот у меня недурен, хоть ты и не соизволил взглянуть на него.
Я выпил предложенное ею пиво, чтобы облегчить мою болящую голову, и не нашелся, что ей ответить. Она посмотрела мне в глаза с улыбкой, хотя в глубине ее карих глаз все еще таилась грусть, как темная вода на дне колодца.
– Синухе, – сказала она, – я хотела бы помочь тебе, если смогу, и я знаю в этом городе женщину, долг которой тебе неисчислим. Ныне все перевернулось вверх дном, двери распахнуты настежь, а на улицах многие требуют уплаты по старым долгам. Может быть, и тебе стоило бы потребовать возврата долга, и тогда ты поверишь, что не все женщины распутны.
Я сказал, что никогда так о ней и не думал, но я ушел, а слова ее остались со мной, ибо я был всего-навсего человек. Но меня душило воспоминание о резне, и я вкусил безумие ненависти, так что стал бояться самого себя. Я вспомнил храм кошки и дом подле него, хотя время словно занесло песком эти воспоминания. Но в эти дни ужасов мертвые восстали из своих могил, и я вспомнил моего отца Сенмута с его добротой и мою милую мать Кипу; при мысли о них я почувствовал во рту вкус крови.
В это время в Фивах уже не было богатых или знатных, которым было опасно ходить по улицам, и мне понадобилось бы только нанять нескольких солдат, чтобы осуществить мою цель, но я пока еще не знал, какова моя цель.
На пятый день среди командиров Пепитатона началось замешательство, ибо солдаты больше не повиновались звукам рогов и оскорбляли на улице своих начальников, выхватывая у них их золотые бичи и ударяя их по коленям. Командиры отправились к Пепитатону, которому надоела солдатская жизнь и не хватало его кошек, и уговорили его просить аудиенции у фараона, сказать ему всю правду и снять с себя воротник военачальника. Так что на пятый день посланцы фараона прибыли ко мне в дом, чтобы призвать к фараону Хоремхеба. Хоремхеб подобно льву поднялся со своего ложа, умылся и оделся и пошел с посланными, ворча про себя и заранее обдумывая все, что он выскажет фараону. Теперь даже власть фараона поколебалась, и никто не знал, что произойдет завтра.
Фараон спросил его:
– Ты низвергнешь Амона?
Хоремхеб ответил:
– Поистине ты одержимый. Но после всего, что произошло, Амон должен пасть, чтобы спасти величие фараона. Поэтому я низвергну его, но только не спрашивай, как это будет сделано.
Фараон сказал:
– Ты не причинишь зла его жрецам, ибо они не ведают, что творят.
Хоремхеб ответил ему так:
– Поистине надо бы вскрыть тебе череп, ибо ясно, что ничто другое тебя не исцелит. И все же я исполню твое приказание ради того часа, когда я прикрыл твое ослабшее тело своим плащом.
Тогда фараон заплакал и отдал ему свою плеть и свой жезл на трехдневный срок. Как все это было, я знаю только со слов Хоремхеба, а он по солдатскому обыкновению был склонен преувеличивать. Как бы то ни было, он вернулся в город в позолоченной колеснице фараона и проехал по всем улицам, окликая солдат по имени. Он отобрал из них самых надежных и приказал протрубить сбор, созывая людей под их знамена: у одних – соколов, у других – львиных хвостов. Вопли и завывания доносились с мест постоя, и дюжины палок изломались в щепы в руках истязателей, которые жаловались потом, что у них заболели плечи и что они никогда еще не знали такой работы. Хоремхеб послал своих лучших людей патрулировать улицы, хватать каждого не подчинившегося сигналу труб и тащить его на порку; многим, чьи руки и одежда были в крови, отрубали головы в присутствии их товарищей. Когда взошел день, все отребье Фив разбежалось по своим норам, как крысы, ибо каждого застигнутого при краже или грабеже пронзали копьем на месте.
Хоремхеб созвал также всех строителей города и повелел им снести дома богачей и сломать корабли, чтобы добыть брусья, и послал рабочих готовить тараны и осадные башни, так что стук молотков раздавался всю ночь Но все шумы заглушались воплями нубийцев и шарданов, которых пороли плетью, и этот звук был сладок жителям Фив.
Хоремхеб не терял времени попусту на переговоры со жрецами, но, как только рассвело, он отдал распоряжение своим командирам. Осадные башни были размещены в пяти местах вокруг стен храма, одновременно тараны загрохотали по храмовым воротам. Никто не был ранен, ибо солдаты накрылись своими щитами. Жрецы и храмовая стража не могли устоять против решительной и хорошо организованной атаки. Они распылили свои силы и в панике бегали у стен туда и сюда, тогда как снизу со дворов храма доносились крики испуганных людей, собравшихся там. Когда верховные жрецы увидели, что врата поддаются и что негры взбираются на стены, они велели трубачам протрубить перемирие, чтобы спасти жизнь людей. Они полагали, что Амону было принесено достаточно жертв, и хотели сохранить уцелевших верующих на будущее. Так что врата отворились, и солдаты дали скопищу людей возможность спастись, как было приказано Хоремхебом. Люди бежали, призывая Амона, и рады были укрыться по домам, ибо возбуждение улеглось и они поистине устали, оставаясь так долго во дворах храма под палящим солнцем.
Таким образом Хоремхеб овладел внешними дворами, кладовыми, конюшнями и мастерскими храма без больших потерь. Обитель Жизни и Обитель Смерти тоже перешли под его контроль, и он послал врачей из Обители Жизни в город оказать помощь больным, но не стал вмешиваться в дела Обители Смерти, ибо все находящиеся там стоят особняком и неприкосновенны, что бы ни происходило во внешнем мире. В большом храме жрецы и стража сопротивлялись до последнего, защищая святая святых; жрецы чарами и зельями укрепили стражей, чтобы они бились насмерть, не чувствуя боли.
В большом храме сражение продолжалось до ночи. К этому времени околдованная стража уже была вся убита вместе с теми жрецами, которые оказывали вооруженное сопротивление, и остались только жрецы высшей ступени, собравшиеся в святилище вокруг своего бога. Хоремхеб отдал приказ остановить сражение и послал людей подобрать убитых и бросить их в реку.
И тогда, подойдя к жрецу Амона, он сказал:
– Я не веду войну против Амона, ибо поклоняюсь Гору, моему Соколу. Тем не менее я должен подчиниться приказу фараона и свергнуть вашего бога. Не будет ли лучше для вас и для меня, если в святилище совсем не окажется изображения, над которым могли бы надругаться солдаты? Ибо я не хочу совершить святотатства, хотя моя присяга обязывает меня служить фараону. Подумайте над моими словами; я предоставляю вам время по водяным часам. После этого вы сможете уйти с миром, и никто не поднимет на вас руку, ведь я не ищу вашей смерти.
Эти слова были приятны жрецам, которые только что были готовы умереть за Амона. Они оставались в святилище все отмеренное водой время. А затем Хоремхеб своей рукой сорвал занавес, закрывающий святилище, и выпустил жрецов. Когда они ушли, святилище было пусто, изображение Амона исчезло. Жрецы поспешили разбить его и унесли обломки под своими плащами, чтобы иметь возможность потом объявить о чуде и утверждать, что Амон все еще жив. Хоремхеб повелел опечатать все кладовые и собственноручно опечатал подвалы, где было спрятано золото и серебро. В этот же вечер каменщики принялись стирать имя Амона на всех статуях и надписях. В течение ночи Хоремхеб очистил площадь от трупов и расчлененных тел и разослал людей тушить пожары, которые все еще пылали в некоторых кварталах города.
Когда самые богатые и знатные фиванцы узнали, что Амон свергнут и что восстановлены мир и порядок, они облеклись в лучшие одежды, зажгли светильники перед своими домами и вышли на улицы праздновать победу Атона. Придворных, которые прятались в золотом дворце фараона, теперь переправили через реку в город. Вскоре небо над Фивами зарделось от праздничных факелов и светильников, а люди разбрасывали на улицах цветы и кричали, и смеялись, и обнимались. Хоремхеб не мог ни запретить им потчевать вином шарданов, ни помешать знатным дамам обнимать нубийцев, несших на концах своих копий бритые головы убитых ими жрецов. В эту ночь Фивы ликовали во имя Атона. Во имя Атона все было дозволено, и не было различий между египтянами и неграми. Об этом свидетельствовало то, что придворные дамы приводили нубийцев к себе домой, сбрасывали свои новые летние наряды и упивались мужественной силой черных и терпким запахом крови от их тел. А когда раненый храмовый сторож отполз от стены на открытое место, призывая в бреду Амона, ему размозжили голову о камни мостовой, и дамы радостно плясали вокруг его трупа.
Все это я видел воочию и, видя это, стиснул голову руками, безразличный ко всему происходящему. Я думал о том, что никакой бог не исцелит людей от их безумия. Я побежал в «Хвост крокодила» и со словами Мерит, запечатленными в моем сердце, позвал солдат, стоявших там на страже. Они повиновались мне, ибо видели меня в обществе Хоремхеба, и я повел их сквозь эту бредовую ночь, мимо веселых людей, пляшущих на улицах, к дому Нефернефернефер. И там тоже горели факелы и светильники, и из этого дома, не тронутого грабителями, на улицу доносился шум пьяного веселья. Остановившись там, я ощутил дрожь в коленях и дурноту.
Я сказал солдатам:
– Таков приказ Хоремхеба, моего друга и царского военачальника. Войдите в дом, и там вы увидите женщину, у которой надменная осанка и глаза, подобные зеленым камням. Приведите ее ко мне, а если она будет сопротивляться, ударьте ее по голове древком копья, но не причиняйте ей вреда.
Солдаты бодро вошли в дом. Вскоре оттуда, пошатываясь, вышли испуганные гости, а слуги стали звать стражу. Мои люди быстро вернулись с фруктами, медовыми пряниками и кувшинами вина в руках и привели с собой Нефернефернефер. Она вырывалась, и они ударили ее древком копья, так что ее гладкая голова была окровавлена, а парик соскользнул с нее. Я положил руку ей на грудь, и кожа ее была гладкой, как теплый бархат, но мне казалось, что я трогаю змею. Я ощутил биение ее сердца и понял, что она невредима, но все же я закутал ее в темный плащ, как заворачивают тела, и поднял ее в носилки. Стражники не стали вмешиваться, видя, что со мной солдаты. Они проводили меня до входа в Обитель Смерти, а я покачивался в носилках, держа в объятиях бесчувственное тело Нефернефернефер. Она была все еще прекрасна, но мне казалась отвратительнее змеи. Так мы продвигались сквозь разгульную ночь к Обители Смерти, а там я дал солдатам золота и отпустил их, а также отослал и носилки.
Держа на руках Нефернефернефер, я вошел в Обитель и сказал мойщикам трупов, встретившим меня:
– Я принес вам тело женщины, которое я нашел на улице; не знаю ни имени ее, ни семьи, но полагаю, что ее драгоценности вознаградят вас за труды, если вы навечно сохраните ее тело.
Эти люди стали ругать меня:
– Безумец, неужели ты думаешь, что у нас в эти дни мало возни с падалью? И кто вознаградит нас за наши труды?
Но, развернув черный плащ, они обнаружили, что тело еще теплое, и, когда они сняли с нее платье и драгоценности, они увидели, что она прекрасна, прекраснее всех женщин, которых когда-либо доставляли в Обитель Смерти. Они больше ничего не сказали мне, но положили руки ей на грудь и почувствовали, что у нее бьется сердце. Они вновь поспешно укрыли ее черным плащом, гримасничая и подмигивая друг другу и радостно смеясь.
Потом они сказали мне:
– Ступай, чужеземец, и пусть будет благословенно это твое деяние. Мы сделаем все, чтобы сохранить навсегда ее тело, и если бы это зависело от нас, мы держали бы ее при себе семьдесят раз по семьдесят дней, чтобы сохранить по-настоящему ее тело.
Так я все же вынудил Нефернефернефер вернуть мне долг, который она должна была заплатить мне за моих родителей. Я желал бы знать, что она почувствует, когда очнется в потаенных углах Обители Смерти, лишившись богатства и оказавшись во власти мойщиков трупов и бальзамировщиков. Насколько я знал их, они никогда не выпустят ее на белый свет. Такова была моя месть, ибо из-за Нефернефернефер я когда-то познакомился с Обителью Смерти. Но моя месть была наивна, как мне пришлось впоследствии убедиться.
В «Хвосте крокодила» я увидел Мерит и сказал ей:
– Я заставил ее выполнить мои требования, притом самым страшным образом. Но месть не принесла мне облегчения, моя душа еще более пуста, чем прежде, и я озяб, несмотря на теплую ночь.
Я пил вино, и оно было горше полыни. Я сказал:
– Пропади все пропадом, если еще когда-нибудь я коснусь женщины, ибо чем больше я думаю о женщине, тем больше боюсь ее; ее плоть погибельна, а душа – западня для смертных.
Она гладила мои руки и, пристально глядя на меня своими карими глазами, ответила:
– Синухе, ты никогда не знал женщины, которая желала бы тебе добра.
Но я возразил:
– Да спасут меня все боги Египта от женщины, которая пожелает мне добра. Фараон тоже желает только добра, а в реке полно трупов, которые качаются там из-за его благих намерений.
Я пил вино и плакал, говоря:
– Мерит, твои щеки гладки, как шелк, и у тебя теплые руки. Дай мне коснуться губами твоей щеки этой ночью, согреться твоим теплом и заснуть без сновидений, а я дам тебе все что пожелаешь.
Она грустно улыбнулась и сказала:
– «Крокодилий хвост» говорит твоими устами, но я привыкла к этому и не обижаюсь. Поэтому знай, Синухе, что я ничего не требую от тебя и никогда в жизни не требовала ничего от мужчины; ни от кого не брала я никаких подарков. То, что я даю, я даю от души, и тебе тоже я дам то, чего ты просишь, ибо я так же одинока, как и ты.
Она взяла чашу с вином из моих дрожащих рук и, постелив для меня циновку, легла рядом со мной, согревая мне руки. Я касался губами ее гладких щек и вдыхал аромат кедра, исходящий от ее кожи, и я наслаждался с ней. Она была для меня и отцом, и матерью, она была как очаг в зимнюю ночь, как маяк на берегу, который ведет моряка домой сквозь бурную ночь. Когда я уснул, она стала для меня Минеей – Минеей, которую я потерял навсегда, и я лежал с ней, словно лежал с Минеей на дне моря. Мне не снились кошмары, и я крепко спал, а она нашептывала мне на ухо такие слова, какие шепчут матери, чьи дети боятся темноты. С этой ночи она стала моим другом, ибо в ее объятиях я снова поверил: есть нечто непостижимое, более важное, чем я сам, ради чего стоит жить.
Утром я сказал ей:
– Мерит, я разбил кувшин с женщиной, которой теперь нет в живых, и я все еще храню серебряную ленту, которой я завязывал ее длинные волосы. И все же ради нашей дружбы, Мерит, я готов разбить с тобой кувшин, если ты этого хочешь.
Она зевнула, прикрывая рот рукой, и ответила:
– Тебе больше не следует пить «крокодилий хвост», Синухе, поскольку он заставляет тебя говорить такие глупости на следующий день. Вспомни, что я выросла в таверне и что я уже не невинная девочка, которая может поймать тебя на слове – и горько разочароваться!
– Когда я смотрю в твои глаза, Мерит, я верю, что на свете есть хорошие женщины, – сказал я и коснулся губами ее гладких щек. – Я сказал это для того, чтобы ты поняла, как много ты для меня значишь.
Она улыбнулась.
– Ты заметил, что я запретила тебе пить «крокодилий хвост», ведь женщины прежде всего проявляют свою любовь к мужчине, запрещая ему что-то, дабы почувствовать свою власть. Давай не говорить о кувшинах, Синухе. Ты знаешь, что моя циновка к твоим услугам, когда тебе одиноко или грустно. Но не обижайся, если узнаешь, что и кроме тебя есть одинокие и грустные, ибо, как и всякий человек, я тоже вольна выбирать себе друзей, и ты тоже ничем не связан. Итак, несмотря ни на что, я сама дам тебе «крокодилий хвост.
Ум человеческий столь непостижим и так мало знает человек свое сердце, что моя душа в этот момент ощущала себя свободной и легкой, и я не вспомнил ничего о том дурном, что произошло в те дни. Я был доволен и не пробовал больше в этот день «крокодильих хвостов».
4
На следующее утро я зашел за Мерит, чтобы пойти на праздничную процессию фараона. Несмотря на то что она воспитывалась в таверне, Мерит выглядела очень привлекательно в летнем платье, сшитом по новой моде, и мне было совсем не стыдно стоять рядом с ней в месте, приготовленном для приближенных фараона.
Улица Рамс пестрела знаменами, а вдоль нее стояли огромные толпы, пришедшие поглядеть на фараона. Мальчишки вскарабкались на деревья в садах по обе стороны улицы, и Пепитатон приказал выставить вдоль дороги бесчисленные корзины цветов, чтобы согласно обычаю зрители могли усыпать цветами путь фараона. Во мне забрезжила надежда, ибо мне казалось, что я вижу проблески свободы и света для египетской земли. Я получил золотой кубок из дворца фараона и был назначен черепным хирургом его семьи. Рядом со мной стояла зрелая красивая женщина, которая была моим другом, и вокруг нас на почетных местах мы видели только счастливых, улыбающихся людей. Однако царило глубокое молчание, только с крыши храма доносилось карканье ворон, ибо вороны и стервятники поселились в Фивах и так разжирели, что не могли подняться и улететь назад к своим холмам.
Ошибкой фараона было то, что он позволил разрисованным неграм идти за своими носилками. Один их вид возбудил ярость толпы. Мало было таких, кто не пострадал в предшествующие дни. Многие потеряли из-за пожаров свои дома, слезы жен все еще не высохли, раны мужчин все еще болели под повязками, и их ушибленные и разбитые рты не могли улыбаться. Но появился фараон Эхнатон, высоко покачиваясь в своих носилках над головами людей, и все видели его. На голове его была двойная корона Двух Царств – лилия и папирус. В скрещенных на груди руках он крепко сжимал жезл и царскую плеть. Он сидел неподвижно, как изваяние, как сидели фараоны во все века на виду у людей, и, когда он приблизился, наступила гнетущая тишина, как будто от его вида люди онемели. Солдаты, охраняющие дорогу, с приветственными возгласами подняли свои копья, и наиболее знатные из зрителей тоже начали кричать и бросать цветы перед царскими носилками. Но по сравнению с угрожающим молчанием толпы их крики казались слабыми и жалкими, как жужжание одинокого комара в зимнюю ночь, так что вскоре они замолчали и удивленно поглядывали друг на друга.
Теперь, вопреки обычаю, фараон пошевелился. В восторженном приветствии он поднял жезл и плеть. Толпа отхлынула назад, и вдруг из множества глоток вырвался ужасающий крик, подобный грохоту морских валов, ударяющихся о скалы:
– Амон! Амон! Верни нам Амона, царя всех богов!
Когда чернь заволновалась и задвигалась и крик прокатился, все нарастая, вороны и стервятники взлетели с крыши храма и захлопали своими черными крыльями над носилками фараона. А толпа кричала:
– Прочь, лжефараон! Прочь!
Крик испугал носильщиков, и носилки приостановились. Когда они снова двинулись вперед, подгоняемые взволнованными командирами из охраны, люди хлынули непреодолимым потоком через улицу Рамс, сметая цепи солдат и очертя голову бросаясь перед носилками, чтобы задержать их движение.
Больше было невозможно следить за происходящим. Солдаты начали избивать людей своими дубинками, чтобы расчистить путь, но скоро в самозащите они пустили в ход копья и кинжалы. Палки и камни свистели в воздухе, кровь лилась по улице, и над всеобщим ревом поднимались предсмертные вопли. Ни один камень не был брошен в фараона, ибо он был сыном солнца, как и все фараоны до него. Его особа была священна, и ни один из толпы не посмел бы даже в мыслях поднять на него руку, хотя в душе все ненавидели его. Думаю, что даже жрецы не совершили бы подобного дела. Фараон взирал на все невозмутимо. Затем он поднялся, забыв о своем достоинстве, и крикнул, чтобы остановили солдат, но никто во всем этом шуме не услышал его крика.
Чернь швыряла камни в стражу, а стражники, защищаясь, убили множество людей, которые, не переставая, кричали:
– Убирайся, лжефараон! Долой! Фивам ты не нужен!
Камни швыряли также и в знать, и народ угрожающе наступал на огражденные места, так что женщины побросали свои цветы, уронили пузырьки с духами и пустились в бегство.
По команде Хоремхеба зазвучали рога. Из дворов и боковых улиц прибыли колесницы, которые он спрятал там, дабы их вид не возбуждал людей. Многие были раздавлены копытами и колесами. Но Хоремхеб приказал убрать с колесниц кривые клинки во избежание напрасного кровопролития. Они ехали медленно и в установленном порядке, окружив носилки фараона, охраняя также царскую семью и прочих участников процессии, и так сопровождали их отъезд. Но толпы не желали расходиться до тех пор, пока были видны царские баржи, переправляющиеся через реку. Потом их охватило ликование, но радость их была еще ужаснее, чем их ярость. Головорезы из толпы осаждали дома богачей, пока солдаты не восстановили порядок и не разогнали народ по домам. Приближался вечер, и вороны кружились, разрывая тела, лежавшие на улице Рамс.
Так фараон Эхнатон впервые столкнулся со своим неистовым народом и увидал кровь, льющуюся из-за его бога. Он навсегда запомнил это зрелище. Ненависть заронила яд в его любовь, и его фанатизм нарастал, пока наконец он не постановил, чтобы каждый, кто произнесет вслух имя Амона или сокроет его имя на изображениях или кораблях, был отправлен в рудники.
Рассказав об этих событиях, перехожу к тому, что они повлекли за собой. В тот же самый вечер меня поспешно вызвали в золотой дворец, ибо у фараона был приступ его болезни. Врачи опасались за его жизнь и пытались разделить бремя ответственности, ибо он говорил обо мне. Он долго лежал как мертвый; члены его окоченели, и его пульс более не прощупывался. После бреда, во время которого он до крови искусал губы и прикусил язык, он пришел в себя. Он отпустил всех прочих врачей, ибо не выносил их присутствия.
– Позови лодочников, – сказал он мне, – и подними красные паруса на моем корабле. Пусть мои друзья отправляются со мной, ибо я собираюсь в путешествие, и пусть моя мечта ведет меня, пока я не найду землю, которая не принадлежит ни богам, ни людям. Эту землю я посвящу Атону и построю там город, который станет городом Атона. Я никогда более не вернусь в Фивы.
Он сказал также:
– Поведение фиванцев для меня ненавистнее, чем все то, что произошло прежде, отвратительнее и презреннее, чем все, что когда-либо видели мои предки в чужих странах. Поэтому я с презрением отвергаю Фивы, а они пусть прозябают в своем невежестве.
В своем неистовом возбуждении он потребовал, чтобы его перенесли на корабль, несмотря на его болезнь, и даже я, его врач, не мог помешать ему.
Хоремхеб заметил:
– Так оно и лучше. Фиванский народ пойдет своим путем, а Эхнатон – своим; и тот, и другой будут довольны, и в стране снова воцарится мир.
Я сопровождал фараона вниз по реке. Он был столь нетерпелив, что не стал ожидать даже царскую семью, и отплыл первым. Хоремхеб приказал эскорту из военных кораблей сопровождать судно, дабы с ним не случилось ничего дурного.
Итак, под своими красными парусами корабль фараона скользил по реке, и Фивы остались позади. Исчезли также крыши храма, позолоченные верхушки обелисков скрылись за горизонт, наконец исчезли и три холма, вечные стражи Фив. Но память о Фивах осталась с нами на много дней, ибо река была полна жирных крокодилов, чьи хвосты разбрызгивали грязную воду, и сотни раз сотни распухших тел плыли по течению. Не было ни одной рыбьей стаи и ни одной заросли тростников без человеческого тела, крепко зацепившегося одеждой или волосами; причиной же всему был бог фараона Эхнатон. Но фараон ничего не знал об этом, лежа в своей каюте на мягких циновках, где слуги умащали его ароматическими маслами и курили вокруг него благовония, чтобы он не чувствовал запах своего бога.
На десятый день плавания река снова была чиста, и фараон вышел на нос корабля, чтобы оглядеться вокруг. Земля была по-летнему желтой; земледельцы собирали урожай, и по вечерам скот гнали на водопой к берегу реки и пастухи дули в свирель.
Увидев корабль фараона, люди одевались в белое и бежали на берег, крича приветствия и размахивая пальмовыми ветвями. Вид этих довольных людей фараону был полезнее всяких лекарств. Время от времени он приказывал бросить якорь и сам выходил на берег поговорить с людьми, коснуться их и возложением рук благословить женщин и детей. Овцы также подходили пугливо, принюхиваясь и пощипывая кромку его одежды, и он смеялся от радости. В ночной тьме он стоял на носу корабля, вглядываясь в сияющие звезды, и говорил мне:
– Я разделю всю землю ложного бога меж теми, кто довольствуется малым и трудится, чтобы они были счастливы и благословляли имя Атона. Я разделю между ними всю землю, ибо моя душа радуется при виде здоровых детей и смеющихся женщин и мужчин, которые трудятся во имя Атона без страха или ненависти к кому-либо.
Он говорил также:
– Чужая душа – потемки; я не поверил бы этому, если бы не видел собственными глазами. Ибо так призрачна моя собственная чистота, что я не воспринимаю тьмы, и, когда свет проливается в мою душу, я забываю о душах темных и лживых. Должно быть, многие не постигают Атона, хотя видят его и чувствуют его любовь, так как они прожили свою жизнь во тьме и их глаза не различают света, даже если видят его. Они называют его злом и говорят, что он вредит их зрению. Поэтому я покинул их и оставил их в покое, но жить среди них я не стану. Я возьму с собой тех, кто мне дороже всего, и останусь с ними, чтобы никогда не разлучаться, чтобы не мучиться этими ужасными головными болями от всего, что удручает мой дух и что ненавистно Атону.
Подняв глаза к звездам, он продолжал:
– Ночь внушает мне отвращение. Я не люблю темноты, я боюсь ее. Я не люблю звезд, ибо когда они светят, шакалы выползают из своих нор, львы покидают свои логовища и рычат, жаждая крови. Для меня Фивы – это ночь, поэтому я отвергаю их, поистине я отвергаю все косное и извращенное и надеюсь только на детей и на юных. Они принесут миру весну. Тот, кто с детства посвятит себя учению Атона, очистится, и так очистится весь мир. Школы преобразятся, старых учителей изгонят, и дети будут переписывать новые тексты. Более того, я упрощу теперешнее письмо, нам не нужны картинки, чтобы понять его; я велю перейти на такое письмо, которому быстро научится даже самый тупой. Пропасть между писцами и народом исчезнет; люди научатся писать, так что в каждом селении, даже в самом маленьком, найдется человек, который сможет прочесть то, что я буду им писать. Ибо я буду часто писать им о многом, что им следует знать.
Речь фараона встревожила меня. Я знал это новое письмо, которое легко было учить и читать; это не были священные письмена; оно не было и так красиво, и так богато содержанием, как старое, и каждый уважающий себя писец презирал его.
Поэтому я возразил:
– Упрощенное письмо уродливо и грубо, и это не священные письмена. Что станется с Египтом, если все сделаются грамотными? Такого никогда не было. Никто тогда не согласится работать руками; земля останется невозделанной, и людям ничего не даст умение писать, если они будут умирать с голоду.
Мне бы не следовало говорить этого, ибо он закричал в сильнейшем негодовании:
– Значит, невежество рядом со мной. Оно стоит возле меня, в твоем лице, Синухе. Ты воздвигаешь препятствия и сомнения на моем пути, но истина огнем горит во мне. Мои глаза проникают сквозь все преграды, так как если бы эти преграды были из чистой воды; и я вижу мир таким, каким он будет после меня. В этом мире не будет ни ненависти, ни страха; люди станут трудиться вместе, и не будет меж них ни богатых, ни бедных, все будут равны, все смогут прочесть то, что я напишу им. Ни один человек не скажет другому «грязный сириец» или «несчастный негр». Все – братья, и мир не будет больше знать войны. И предвкушение этого придает мне силы; моя радость столь велика, что сердце готово разорваться.
Я еще раз убедился в его безумии. Я отвел его на его ложе и дал ему успокоительное. Его слова мучили меня и терзали мое сердце, ибо во мне созрело что-то, чтобы восприять его откровение.
Я сказал себе:
– Его рассудок совершенно расстроен болезнью, тем не менее это расстройство и благотворно, и заразительно. Я желал бы, чтобы его предвидение подтвердилось, хотя разум говорит мне, что такой мир не может существовать нигде, кроме Страны Запада. И все же моя душа вопиет, что его истина выше всех других истин, которые когда-либо возвещались, и что большей истины не выскажут и после него, хотя следом за ним идут кровь и погибель. Если он проживет достаточно долго, он ниспровергнет свое собственное царство.
Взирая из мрака на звезды, я размышлял, что я, Синухе, чужой в этом мире, даже не знаю, кто произвел меня на свет. Я добровольно стал врачом бедняков в Фивах, и золото мало что значит для меня, хотя я предпочитаю жирного гуся и вино черствому хлебу и воде. Все это не так уж важно для меня, чтобы я не мог без этого обойтись. Раз мне нечего терять, кроме жизни, почему мне не стать опорой его слабости, быть рядом и поддерживать его без колебаний? Но он же фараон! У него власть, и нет в целом мире более богатой и более изобильной страны, чем Египет, и как знать, может быть, Египет выдержит это испытание? Если бы это случилось, то действительно мир обновился бы: люди стали бы братьями, и не было бы ни богатых, ни бедных. Никогда прежде не предоставлялась человеку такая возможность претворить свою мечту в жизнь, ибо этот человек рожден фараоном, и такой возможности больше не будет. Вот то единственное мгновение за все века, когда его мечта может осуществиться.








