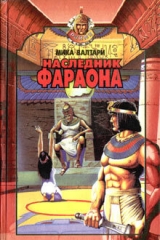
Текст книги "Наследник фараона"
Автор книги: Мика Тойми Валтари
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 43 страниц)
6
Несколько дней спустя умерла Тайя, царица-мать. Она погибла от укуса гадюки, натягивая сети для птиц в дворцовых садах. Ее врача не было под рукой, как это часто случается с врачами, когда они особенно нужны, и меня вызвали из Фив. Но, прибыв в золотой дворец, я мог лишь удостоверить ее смерть, в которой меня нельзя было винить, ибо укус гадюки всегда смертелен, если рану не иссекли до того, как пульс ударил сто раз, а вены над ним закрылись.
Обычай требовал, чтобы я остался в золотом дворце, пока из Обители Смерти не прибудут носильщики, чтобы унести тело. Там я и встретил угрюмого жреца Эйе возле погребальных носилок.
Он дотронулся до распухшей щеки царицы-матери и сказал:
– Ей было пора умереть, ибо она была мерзкой старухой и строила мне всяческие козни. И поделом ей за все, что она натворила; надеюсь, что теперь, когда она мертва, волнение среди людей уляжется.
Не думаю, что Эйе убил ее, ибо он вряд ли осмелился бы на это: соучастие в преступлениях и общие тайны связывают сильнее, чем узы любви.
Новость о ее смерти разнеслась по Фивам. Горожане надели свои лучшие наряды и весело толпились на улицах и площадях. Дабы снискать их расположение, Эйе велел прогнать плетьми из подземелий золотого дворца черных колдунов царицы Тайи. Их там было четверо, да еще одна ведьма, жирная и уродливая, как гиппопотам. Стражники гнали их прочь через Ворота Папируса, где толпа накинулась на них и разорвала их в клочья. Значит, все их колдовство не помогло им спастись. Эйе сжег на месте все орудия колдовства, их снадобья, а также обломки священного дерева, о чем я сожалел, ибо мне очень хотелось исследовать эти вещи.
Никто во дворце не оплакивал ни смерть царицы, ни судьбу ее колдунов. Лишь принцесса Бакетатон приблизилась к телу матери и, положив свои красивые ладони на ее темные руки, сказала:
– Твой муж дурно поступил, мать, позволив людям разорвать на куски твоих негров.
А мне она сказала:
– Эти чародеи совсем не были дурными людьми и жили здесь не по своей воле. Они мечтали вернуться в джунгли, в свои соломенные хижины. Нельзя было вымещать на них грехи моей матери.
Так состоялась моя встреча с принцессой Бакетатон. Она говорила со мной, и мне запомнились ее гордая осанка и прелестная головка. Осведомившись о Хоремхебе, она насмешливо заметила:
– Хоремхеб низкого происхождения, и его речь груба, но женившись, он мог бы дать прекрасное потомство. Можешь ли ты сказать мне, Синухе, почему он этого не сделал?
Я сказал ей:
– Ты не первая спрашиваешь об этом, царственная Бакетатон, но ты прекрасна и я скажу тебе то, чего никогда не решился бы сказать никому. Когда Хоремхеб мальчиком пришел во дворец, он однажды увидел луну. С той поры уже ни одна женщина не вызывала в нем желания разбить с ней кувшин. А что ты скажешь о себе, Бакетатон? Ни одно дерево не цветет вечно, ведь оно должно приносить плоды. Как врач я был бы рад увидеть, что в твоем чреве зреет плод.
Она надменно вскинула голову и проговорила:
– Ты прекрасно знаешь, Синухе, что моя кровь слишком священна, чтобы смешивать ее даже с чистейшей кровью в Египте. Лучше бы мой брат взял меня в жены согласно обычаю, и, несомненно, я уже давно родила бы ему сына. Будь моя воля, я бы велела выколоть Хоремхебу глаза, так противно мне думать, что он посмел поднять глаза на луну. Откровенно говоря, Синухе, самая мысль о мужчинах претит мне, ибо их прикосновения грубы, а их жесткие руки оставляют синяки у хрупкой женщины. По-моему, очень преувеличивают то удовольствие, которое они доставляют нам.
Но глаза ее заблестели от возбуждения и дыхание прерывалось. Поняв, что этот разговор очень нравится ей, я сказал:
– Я видел, как мой друг Хоремхеб разорвал медный браслет одним только напряжением мышц. У него длинные и красивые руки и ноги, а его грудная клетка гудит, как барабан, когда он в ярости ударяет по ней кулаком. Придворные дамы бегают за ним, как кошки, и с любой из них он может сделать все что угодно.
Принцесса Бакетатон взглянула на меня. Ее накрашенные губы дрожали, и, сверкнув глазами, она гневно воскликнула:
– Синухе, твои слова мне очень неприятны, и не знаю, зачем ты досаждаешь мне с этим Хоремхебом. Он родился в дерьме, и даже имя его мне гадко. Да и как ты можешь говорить подобное у изголовья усопшей?
Я не стал напоминать ей о том, кто первый завел речь о Хоремхебе, а изобразил раскаяние и сказал:
– О, Бакетатон, оставайся цветущим деревом, ибо тело твое не стареет и ты будешь цвести еще много лет. Неужели у твоей матери не было доверенной служанки, которая могла бы оплакать ее, пока из Обители Смерти не пришлют за телом? Я и сам мог бы плакать, но я врач и мои слезы давно иссякли, ибо я постоянно вижу смерть. Жизнь – это знойный день, а смерть – это, пожалуй, холодная ночь. Жизнь – мелководье, Бакетатон, а смерть – чистые, глубокие воды.
Она отвечала:
– Не говори о смерти, Синухе, ибо жизнь все еще мила мне. Стыдно, что некому оплакать мою мать. Мне нельзя плакать, ибо это несовместимо с моим титулом, но я пошлю за какой-нибудь служанкой, чтобы она поплакала вместе с тобой, Синухе.
Я пошутил:
– Божественная Бакетатон, твоя красота волнует меня, а твои речи подлили масла в огонь. Пришли сюда какую-нибудь старую ведьму, чтобы я не польстился на нее и не осквернил место скорби.
Она с упреком покачала головой.
– Синухе, Синухе! У тебя совсем нет стыда. Если уж ты не боишься богов, как о тебе говорят, то хоть уважай смерть.
Все-таки она была женщиной и не обиделась на мои слова; она отправилась за служанкой, чтобы та оплакивала покойную до прибытия носильщиков из Обители Смерти.
У меня были причины для кощунственных разговоров, и теперь я нетерпеливо ожидал появления плакальщицы. Она пришла и оказалась еще старее и уродливее, чем я мог вообразить. Вдовы покойного мужа Тайи все еще жили в женских покоях, как и жены фараона Эхнатона, вместе с кормилицами и прислужницами.
Эту старуху звали Мехунефер, и по ее лицу я понял, что она любит мужчин и вино. Как положено, она начала плакать, рыдать и рвать на себе волосы возле мертвой царицы.
Я принес вина, и, поплакав некоторое время, она согласилась отведать его. Я утверждал как врач, что оно поддержит ее в великой печали. Затем я пошел дальше и стал восхвалять ее былую красоту. Я говорил также о детях и о маленьких дочерях фараона Эхнатона.
Наконец я спросил с притворным простодушием:
– Правда ли, что царица-мать была единственной из жен великого фараона, родившей ему сына?
Мехунефер метнула испуганный взгляд на умершую и подала мне знак замолчать. Я снова пустил в ход красноречие и лесть, расхваливая ее волосы, наряд и драгоценности, а также ее глаза и губы. Наконец она совсем перестала плакать и глядела на меня как зачарованная.
Женщине всегда приятны такие речи, даже если она знает, что они неискренни. Чем она старше и уродливее, тем охотнее выслушивает их, потому что хочет им верить. Так что мы стали добрыми друзьями. Когда прибыли носильщики из Обители Смерти и унесли тело, она стала очень настойчиво приглашать меня к себе и выпила еще вина. Мало-помалу ее язык развязался; она гладила мои щеки, называла меня красавчиком и рассказывала мне множество самых бесстыдных дворцовых сплетен, чтобы распалить меня.
Она терлась о мои плечи, но я отстранил ее, сказав:
– Великая царица Тайя искусно связывала тростник, верно ли? Не мастерила ли она из него лодочки и не сплавляла ли их ночью вниз по течению?
Эти мои слова ужасно ее насторожили, и она спросила, как я узнал об этом. Но вино притупило ее осторожность, и, желая показать свою осведомленность, она сказала:
– Мне известно больше, чем тебе! Я знаю по крайней мере трех новорожденных мальчиков, сплавленных вниз по течению подобно детям бедняков. До появления Эйе старая ведьма боялась богов и не желала марать руки кровью. Это Эйе научил ее пользоваться ядом, так что принцесса Митанни Тадукипа умирала, рыдая и призывая своего сына, и хотела бежать из дворца, чтобы разыскать его.
– О прекрасная Мехунефер! – сказал я, погладив ее отвисшие размалеванные щеки. – Ты пользуешься моей молодостью и неопытностью и забиваешь мне голову всякими небылицами. У принцессы Митанни не было никакого сына. А если и был, то когда же он родился?
– Ты не так уж молод и неопытен, врач Синухе! – хихикнула она. – Напротив, у тебя хитрые и лживые руки, а лживее всего твой язык, который изрыгает бесстыдное вранье мне в лицо. И все же такая ложь ласкает слух старухи, и я не могу не рассказать тебе о принцессе Митанни, которая могла бы стать царской супругой. Знай же, Синухе, что принцесса Тадукипа была совсем маленькой девочкой, когда вступила в женские покои фараона Аменхотепа. Она играла в куклы и росла в женских покоях точно так же, как та другая маленькая принцесса, которую выдали за Эхнатона и которая тоже умерла. Фараон Аменхотеп не обладал ею, но любил ее, как ребенка, и играл с ней, и дарил ей золотые игрушки.
Но Тадукипа созрела, и в четырнадцать лет ее руки и ноги были изящными и кожа светлой, как у всех женщин Митанни, а взгляд ее темных глаз был устремлен куда-то вдаль. Тогда фараон исполнил свой супружеский долг, как это бывало уже и с другими женами, несмотря на происки Тайн, ибо в таких делах трудно ограничить мужчину, пока не иссякнет его сила. Так что семя пошло в рост в Тадукипе, а скоро и в Тайе, которая возрадовалась, ибо уже родила фараону дочь, а именно эту гордячку Бакетатон.
Она подкрепилась вином и словоохотливо продолжала:
– Хорошо известно, что Тайя родом из Гелиополиса, но лучше об этом не говорить. Она ужасно терзалась во время беременности Тадукипы и сделала все возможное, чтобы вызвать выкидыш, как она поступала со многими другими в женских покоях, с помощью своих черных колдунов. За последние несколько лет она отправила двух новорожденных мальчиков вниз по реке, но они были не в счет как сыновья младших жен, которые очень боялись Тайю; она дала им много подарков, и они примирились с тем, что возле них вместо мальчиков оказались девочки. Но принцесса Митанни была более опасной соперницей, ибо в ней текла царская кровь и она имела могущественных друзей; она надеялась стать царской супругой вместо Тайи, если бы только ей удалось родить сына. И все же влияние Тайи было так велико и так неистов стал ее нрав, когда плод зрел в ней, что никто не осмелился ей перечить. К тому же ее поддерживал Эйе, которого она привезла с собой из Гелиополиса.
Когда принцессе пришло время родить, ее друзей отослали прочь, а ее окружили чернокожими колдунами – как говорили, чтобы облегчить ее страдания. Когда она умоляла показать ей сына, они показали ей мертвую девочку. Но она не верила тому, что говорила Тайя, и я, Мехунефер, знаю, что она родила мальчика, и он остался жив, и в ту же самую ночь его отправили вниз по реке в тростниковой лодке.
Я громко засмеялся и спросил:
– Почему же об этом никто не знает, прекрасная Мехунефер?
Она вспыхнула, и вино из чаши струйкой потекло по ее подбородку.
– Клянусь всеми богами! Я собирала тростник своими собственными руками, поскольку Тайя не хотела идти вброд из-за беременности.
Я вскочил, потрясенный ее словами, вылил вино из кубка на пол, ногой втоптал пролитое вино в циновку, чтобы показать мой ужас.
Мехунефер схватила меня за руки и, силой усадив рядом с собой, сказала:
– У меня и в мыслях не было рассказывать тебе об этом, и я только навредила этим себе самой. В тебе есть что-то непонятное для меня, Синухе, и это так сильно действует на меня, что в моей душе уже нет от тебя тайн. Признаюсь: я резала тростник, а Тайя мастерила из него лодку, ибо она не хотела довериться слугам, а меня она подчинила себе колдовством и моими собственными делишками. Я вышла из воды и резала тростник, который она связывала в темноте, смеясь про себя, изрыгая богохульства и радуясь, что одержала победу над принцессой Митанни.
Я успокаивала свою совесть, внушая себе, что кто-нибудь обязательно найдет ребенка, хотя и знала, что этого никогда не будет. Дети, которых пускают вниз по течению, либо погибают от жаркого солнца, либо становятся пищей крокодилов или хищных птиц. Но принцесса Митанни не хотела молчать. Цвет кожи мертвого ребенка отличался от ее собственного; форма головы тоже была другой. И она не хотела верить, что он рожден ею. У женщин Метан ни кожа гладкая, как персик, пепельного цвета, а головы у них – маленькие и красивые. Она начала плакать и горевать, рвала на себе волосы и поносила Тайю и ее колдунов; тогда Тайя приказала дать ей наркотик и объявила, что Тадукипа потеряла рассудок, оттого что ее ребенок родился мертвым. Как это бывает у мужчин, фараон поверил Тайе больше, чем Тадукипе. С тех пор Тадукипа стала чахнуть и в конце концов умерла. Перед смертью она несколько раз пыталась убежать из золотого дворца, чтобы искать своего сына, из-за чего вообще-то полагали, что у нее помрачен рассудок.
Я взглянул на свои руки: они были светлыми в сравнении с обезьяньими лапами Мехунефер; кожа была пепельного цвета. Я пришел в такое неистовство, что у меня сжалось горло, и я спросил сдавленным голосом:
– Прекрасная Мехунефер, не можешь ли сказать мне, когда все это произошло?
Она погладила меня по затылку своими темными пальцами и сказала льстивым тоном:
– О красавчик, зачем ты тратишь драгоценные минуты на разговоры о минувших днях, когда ты мог бы использовать свое время получше? Поскольку я не могу тебе ни в чем отказать, скажу тебе, что это случилось, когда великий фараон правил уже двадцать два года, осенью, в разгар половодья. Если тебя удивляет моя точность, так знай, что фараон Эхнатон родился в тот же самый год, правда, уже следующей весной, в сезон сева. Вот почему я помню.
При ее словах я так оцепенел от ужаса, что даже не мог оттолкнуть ее и не почувствовал ее мокрых от вина губ на моей щеке. Она обвила меня руками и прижала к себе, называя своим буйволенком и голубком. Я старался не подпустить ее, а между тем у меня путались мысли и все мое существо восставало против этого ужасного открытия. Если она не лгала, то в моих жилах текла кровь великого фараона. Я был единокровным братом фараона Эхнатона и мог бы стать фараоном раньше, чем он, если бы вероломство Тайи не погубило мою покойную мать. Я уставился перед собой, внезапно осознав свое одиночество: царская кровь всегда одинока в этом мире.
Но домогательства Мехунефер вернули меня к действительности. Мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы избежать ее невыносимых приставаний. Я вынудил ее выпить еще вина, надеясь, что, окончательно опьянев, она забудет о своих россказнях. Тут она стала совсем уже омерзительной, и я был вынужден подмешать к ее вину маковый сок, усыпить ее и хоть таким образом от нее отделаться.
Когда наконец я вышел из ее комнаты, расположенной в женских покоях, уже спустилась ночь, и дворцовая стража и слуги показывали на меня пальцами и перешептывались. Наверное, оттого, что я шел пошатываясь и моя одежда была измята. Дома меня поджидала Мерит, обеспокоенная моим долгим отсутствием и желавшая знать подробности о смерти царицы. Увидев меня, она приложила палец к губам, Мути сделала то же самое, и они обменялись взглядами.
Наконец Мути сказала Мерит с горечью в голосе:
– Не говорила ли я тебе тысячу раз, что все мужчины одинаковы и недостойны доверия?
Но я был измучен и хотел остаться наедине со своими мыслями, поэтому я сердито сказал им:
– У меня был трудный день, поэтому не приставайте ко мне.
Тогда взгляд Мерит стал жестким, а ее лицо потемнело от гнева. Держа серебряное зеркало перед моим носом, она сказала:
– Посмотри на себя, Синухе! Я никогда не запрещала тебе развлекаться с другими, но предпочла бы, чтобы ты скрывал это, дабы не терзать мне сердце. Ты ведь не можешь сказать в свое оправдание, что сегодня ушел из дома подавленный и одинокий.
Взглянув на свое лицо, я остолбенел, ибо оно было перепачкано помадой Мехунефер. Ее губы оставили красные пятна и на моих щеках, и на висках, и на шее. Я походил на больного чумой. Пристыженный, я поспешил вытереть лицо, а Мерит безжалостно держала передо мной зеркало.
Очистив лицо маслом, я сказал с раскаянием:
– Ты не так все это поняла, Мерит, любимая моя. Позволь мне объясниться.
Она хитро посмотрела на меня.
– Не нужно никаких объяснений, Синухе, и не хочу я, чтобы ты ради меня осквернил свой язык ложью. На твоем лице все было написано достаточно ясно.
Мне стоило больших усилий успокоить ее. Мути разразилась из-за нее слезами, закрыла лицо и ушла на кухню, понося всех мужчин вообще. Мне было труднее умиротворить Мерит, чем избавиться от Мехунефер.
Наконец я проклял всех женщин и сказал:
– Мерит, ты знаешь меня лучше, чем кто-либо другой, и потому должна бы доверять мне. Поверь, что если бы я захотел, то мог бы объяснить все это к твоему полному удовлетворению, но ведь тайна принадлежит золотому дворцу. Для тебя самой лучше не знать ее.
Но ее язык уколол меня больнее, чем жало осы, когда она возразила:
– Я полагала, что знаю тебя, Синухе, но в твоем сердце открылась бездна, о которой я никогда и не подозревала. Хорошо, что ты защищаешь честь женщины, и я далека от того, чтобы совать нос в твою тайну. Ты волен приходить и уходить, когда пожелаешь, а я признательна всем богам, что у меня хватило ума сохранить свою свободу и отказаться разбить с тобой кувшин, если ты действительно имел это в виду. Ах, Синухе, как я была глупа, поверив твоим лживым речам, ибо те же самые слова ты нашептывал своей красотке весь этот вечер, – и как я хотела бы умереть!
Я попытался ласково погладить ее, но она уклонилась.
– Держи руки подальше от меня, Синухе, ибо ты, должно быть, устал, валяясь на циновках дворца. Они, конечно, мягче моей циновки, и ты, без сомнения, нашел там подружек помоложе и покрасивей меня.
И она продолжала в том же духе, нанося моему сердцу мелкие, но болезненные уколы, пока я не почувствовал, что уже схожу с ума. Тогда она наконец ушла, запретив мне даже проводить ее в «Хвост крокодила». Я мучился бы еще сильнее из-за ее ухода, если бы не стремился остаться наедине с моими мыслями, которые беспорядочно теснились у меня в голове. Я дал ей уйти, и, наверно, ее удивило, что я так легко отпустил ее. Я провел без сна всю эту ночь; время шло, и, когда улетучились винные пары, прояснились и очистились мои мысли, но я дрожал от холода, потому что был один и некому было меня согреть. Я слышал тихую струйку водяных часов. Вода в них струилась беспрерывно, и время текло незаметно, так что я чувствовал отчуждение даже от самого себя.
Я сказал своему сердцу:
– Я, Синухе, такой, каким сделали меня мои собственные поступки. И ничто более не имеет значения, Я, Синухе, обрек своих приемных родителей на безвременную смерть ради безжалостной женщины. Я, Синухе, все еще храню серебряную ленту Минеи, моей сестры. Я, Синухе, видел в воде мертвое морское чудовище, а рядом плавала голова моей возлюбленной и крабы рвали ее плоть. Так какое же значение имеет моя кровь? Все это записано на звездах задолго до моего рождения, и мне было предопределено стать чужим в этом мире. Мирный Ахетатон был лишь позолоченной ложью, а эта жесточайшая истина целебна, ибо мое сердце пробудилось от сна и теперь я знаю, что моя участь – вечное одиночество.
Когда солнце взошло в золотой дали восточных холмов, тени рассеялись; и так странно устроено сердце человека, что я горько посмеялся над призраками, порожденными собственной фантазией. Наверное, каждую ночь течение приносит брошенных детей в лодках, связанных узлами птицелова, а пепельный цвет моей кожи тоже ничего не значит, ведь врач проводит дни под крышами и навесами, так что ему негде загорать. Нет, при свете дня я не мог найти никаких убедительных доказательств своего происхождения.
Я умылся и оделся, и Мути подала мне пиво и соленую рыбу. Ее глаза покраснели от слез, и она презирала меня за то, что я мужчина. Потом я на носилках отправился в Обитель Жизни, где обследовал больных, а затем, минуя заброшенный храм, вышел наружу, сопровождаемый пронзительным карканьем жирных ворон.
Мимо меня стремглав промчалась ласточка, направляясь к храму Атона, и я последовал за ней. Сейчас храм не был пуст, там было много народа. Люди слушали гимны Атону и воздевали руки, чтобы славить его, а жрецы наставляли их, как жить по правде фараона. Это само по себе не имело особого значения. Фивы были большим городом, и любопытство могло собрать толпу в любом месте. Снова я увидел резьбу на стенах храма, и с высоты сорока колонн фараон Эхнатон взирал на меня, и в лице его была напряженная страстность. Я увидел также великого фараона Аменхотепа; хилый и старый, он сидел на своем троне, и его голова склонилась под тяжестью двух корон. Царица Тайя восседала рядом с ним. Затем я задержался перед изображением принцессы Митанни Тадукипы, приносящей жертву богам Египта. Первоначальная надпись была уничтожена, а новая гласила, что она приносит жертву Атону, хотя Атону не поклонялись в Фивах при ее жизни.
Изображение было выполнено в старой манере и представляло ее юной и прекрасной женщиной, почти девочкой. Ее головка в царском головном уборе была прелестна, а руки и ноги изящны. Я долго и пристально смотрел на статую, пока ласточка не пронеслась над моей головой с радостным щебетом, и я пролил слезы над судьбой этой одинокой девочки из чужой земли. Ради нее я желал бы тоже быть красивым, но мои ноги отяжелели и стали дряблыми, под париком врача была лысина. Думы избороздили морщинами мой лоб, и мое лицо отекло от излишеств, которым я предавался в Ахетатоне. Я не мог представить себя ее сыном. И все же я был глубоко взволнован и скорбел о ее одиночестве в золотом дворце фараона. А ласточка все еще радостно носилась над моей головой. Я вспомнил прекрасные дома и жалкую жизнь народа Митанни. Я вспомнил также пыльные дороги и токи Вавилона и понял, что юность ускользнула от меня навсегда, а моя зрелость погрязла в застое Ахетатона.
Так прошел мой день, и, когда наступил вечер, я отправился в «Хвост крокодила» поесть и помириться с Мерит. Она приняла меня холодно и, прислуживая мне, обращалась со мной как с чужим. Когда я поел, она спросила:
– Встретил ли ты свою возлюбленную?
Я раздраженно возразил, что ходил не к женщинам, а работал в Обители Жизни и посетил храм Атона. Чтобы дать ей понять, как я оскорблен, я подробно описал каждый свой шаг в этот день, но она выслушала это с насмешливой улыбкой.
– А мне и в голову не приходило, что ты отправился к женщинам, ведь прошлой ночью ты был изнурен и ни к чему не пригоден, такой лысый и жирный. Я только хотела сказать, что твоя возлюбленная была здесь и спрашивала о тебе и я направила ее в Обитель Жизни.
Я вскочил так стремительно, что мое сиденье опрокинулось, и вскричал:
– Что это значит, глупая женщина?
– Она приходила сюда искать тебя, разодетая, как невеста, увешанная сверкающими драгоценностями и размалеванная, как обезьяна, а вонь от ее притираний доходила до самой реки. Она передала тебе привет, а также и письмо на случай, если не найдет тебя, и я очень хотела бы, чтобы ты велел ей держаться подальше отсюда, ибо здесь приличный дом, а у нее вид хозяйки борделя.
Она вручила мне незапечатанное письмо, и я открыл его дрожащими руками. Когда я прочитал его, кровь ударила мне в голову и сердце заколотилось у меня в груди. Вот что писала мне Мехунефер:
«Привет врачу Синухе от сестры его сердца Мехунефер, хранительницы игольной шкатулки в золотом дворце фараона. Мой буйволенок, мой голубок Синухе! Я проснулась одна на моей циновке с болящей головой и еще более болящим сердцем, ибо моя циновка была пуста, а ты ушел. Лишь запах твоих притираний остался на моих руках. О, если бы я могла быть твоей набедренной повязкой, или помадой в твоих волосах, или вином на твоих устах, Синухе! Я хожу из дома в дом, пытаясь разыскать тебя, и не успокоюсь, пока не найду, ибо тело мое покрывается мурашками при мысли о тебе, и твои глаза для меня – блаженство. Поспеши ко мне, когда получишь это, лети как на крыльях, ибо мое сердце страстно жаждет тебя. Если ты не придешь, я примчусь к тебе быстрее любой птицы. Мехунефер, сестра твоего сердца, приветствует тебя».
Я прочитал эти омерзительные излияния несколько раз, не осмеливаясь взглянуть на Мерит. Наконец она вырвала послание у меня из рук, разломала палочку, на которую оно было накручено, растоптала папирус и сказала в неистовстве:
– Я могла бы понять тебя, Синухе, если бы она была молода и прекрасна, но она стара, вся в морщинах и уродлива, как жаба, хотя и ляпает краску на лицо, как на стену. Я даже не представляю, о чем ты думаешь, Синухе! Твое поведение делает тебя посмешищем всего города, да и надо мной станут смеяться.
Я разорвал на себе одежду, расцарапал грудь и вскричал:
– Мерит, я совершил ужасную ошибку, но у меня были на то причины, да мне и не снилось, что меня постигнет столь страшная кара! Разыщи моих корабельщиков и прикажи им поднять паруса. Я должен бежать, или эта гнусная ведьма придет и ляжет со мной насильно, а мне не справиться с ней. Она пишет, что полетит ко мне быстрее птицы, боюсь, что так оно и будет!
Мерит увидела мой страх и терзания и, по-видимому, все поняла, ибо растерянно засмеялась. Наконец она сказала голосом, все еще дрожащим от смеха:
– Это научит тебя быть более осмотрительным с женщинами, Синухе, во всяком случае, я на это надеюсь. Мы, женщины, – сосуды скудельные, и я по себе знаю, как ты умеешь обворожить, Синухе, возлюбленный мой!
Ее насмешки были безжалостны. С притворным смирением она сказала:
– Без сомнения, эта прекрасная особа более привлекательна для тебя, чем я. Во всяком случае у нее было вдвое больше времени, чем у меня, чтобы постичь искусство любви, и где мне состязаться с ней! Боюсь, что ради нее ты, не задумываясь, бросишь меня.
Я был так угнетен, что повел Мерит к себе и рассказал ей все. Я рассказал ей тайну моего рождения и все, что выудил у Мехунефер. Я рассказал ей также, почему ни за что не хотел верить, что мое рождение связано с золотым дворцом и с принцессой Митанни. Слушая меня, она умолкла и уже не смеялась, а вглядывалась куда-то вдаль, мимо меня. Глаза ес затуманились грустью, и наконец она положила руку мне на плечо.
– Теперь я понимаю многое, что было загадкой для меня. Я понимаю, почему твое одиночество безмолвно взывало ко мне и почему мое сердце таяло, когда ты смотрел на меня. У меня тоже есть тайна, и последнее время мне очень хотелось поделиться ею с тобой, но теперь я благодарю богов, что не сделала этого. Рассказывать о своих тайнах трудно и опасно. Лучше держать их при себе, чем делиться ими. Но я рада, что ты рассказал мне все. Как ты сказал, ты проявишь мудрость, не мучая себя напрасными раздумьями о том, чего, может статься, никогда и не было. Забудь об этом, как если бы это был сон, и я тоже забуду.
Мне очень хотелось узнать ее тайну, но она не пожелала рассказывать о ней, только коснулась моей щеки губами, обвила мою шею руками и чуть всплакнула.
Наконец она сказала:
– Если ты останешься в Фивах, то не оберешься хлопот с Мехунефер, которая будет докучать тебе каждый день своей страстью и сделает твою жизнь невыносимой. Видела я таких женщин и знаю, как они могут быть ужасны. Отчасти ты сам виноват, потому что заставил ее верить всякой чепухе и сделал это ловко. Вероятно, лучше всего было бы вернуться в Ахетатон. Сначала напиши ей и убеди ее оставить тебя в покое, иначе она будет преследовать тебя, да еще и разобьет с тобой кувшин при твоей беспомощности. Такой судьбы я тебе не желаю.
Это был хороший совет, и я велел Мути собрать мои пожитки и завернуть их в циновки. Затем я отправил рабов искать моих корабельщиков в тавернах и увеселительных заведениях города. Между тем я сочинил письмо Мехунефер, но, не желая обидеть ее, написал очень вежливо – вот так:
«Синухе, царский черепной хирург, приветствует Мехунефер, хранительницу игольной шкатулки в золотом дворце Фив. Друг мой, я глубоко раскаиваюсь в моем поведении, ибо ты неверно истолковала его. Я не могу вновь встретиться с тобой, потому что такая встреча могла бы ввести меня в грех, а мое сердце уже занято. Поэтому я уезжаю, надеясь, что ты будешь вспоминать меня только как друга. Вместе с письмом я посылаю тебе кувшин вина под названием «крокодилий хвост», которое, как я полагаю, поможет отчасти облегчить любое твое горе. Уверяю тебя, что тебе не о чем сокрушаться, ибо я усталый старый человек и такой женщине, как ты, не могу доставить никакого удовольствия. Рад, что мы оба удержались от греха; искренне надеюсь, что ты больше не увидишь твоего друга Синухе, придворного врача».
Это письмо заставило Мерит покачать головой; она заметила, что его тон был слишком мягким. По ее мнению, мне следовало бы выражаться более кратко и сказать Мехунефер, что она уродливая старая ведьма и что я бегством пытаюсь избавиться от ее преследований. Но я не мог написать подобное ни одной женщине. Немного поспорив, Мерит разрешила мне свернуть письмо и запечатать его, хотя и продолжала покачивать головой, словно предчувствуя что-то. Я послал раба в золотой дворец с письмом, а также и с кувшином вина, чтобы обеспечить себе по крайней мере на этот вечер свободу от преследований Мехунефер. Полагая, что избавил от нее, я вздохнул с облечением.
Когда письмо было отправлено, а Мути собирала мои пожитки и заворачивала их для путешествия в циновки, я взглянул на Мерит и преисполнился невыразимой грусти при мысли о том, что теряю ее из-за собственной тупости. Ведь если бы не это, я мог бы оставаться в Фивах и дальше.
Мерит, казалось, тоже погрузилась в размышления. Внезапно она спросила:
– Ты любишь детей, Синухе?
Ее вопрос озадачил меня. Глядя мне в глаза, она печально улыбнулась и сказала:
– Не бойся! Я не собираюсь никого тебе рожать, но у одной моей подруги есть четырехлетний сын, и она часто говорила, как прекрасно было бы для мальчика спуститься вниз по реке и увидеть чудесные луга, и обширные поля, и водяных птиц, и скот вместо кошек и собак на пыльных улицах Фив.
Я был очень смущен.
– Уж не хочешь ли ты, чтобы я взял на борт какого-то сорванца и лишился покоя и непрерывно дрожал от страха, что он свалится в воду или сунет руку в пасть крокодила?
Мерит улыбнулась, но очень невесело. Она ответила:
– Я не хочу досаждать тебе, но такое путешествие было бы счастьем для мальчика. Я сама свела его на обрезание, и у меня есть обязательства по отношению к нему. Я, конечно, отправлюсь вместе с ним и присмотрю за тем, чтобы он не упал в воду. Тогда у меня была бы достаточно веская причина сопровождать тебя. Но я не сделаю ничего против твоей воли; забудем же об этом.








