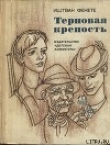Текст книги "Выстрел в Метехи. Повесть о Ладо Кецховели"
Автор книги: Михаил Лохвицкий (Аджук-Гирей)
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА В.3. КЕЦХОВЕЛИ
Сентябрь 1902 года
На предложенные мне вопросы отвечаю: Себя виновным в участии в Российской социал-демократической рабочей партии и в распространении противоправительственных воззваний признаю, В Баку я приехал дней шесть тому назад, откуда – отвечать не желаю. Ночевал, я в Баку ночи три, остальные дни, был в разъездах, где именно и у кого ночевал – сказать не желаю.
У Бакрадзе я остановился через два дня по приезде, хотя зашел в тот же день, как приехал, сложив вещи на вокзале. Считаю нужным сказать, что квартира Бакрадзе принадлежит не ему одному, а Георгобиани и Енукидзе, и если я остановился на этой квартире, то как знакомый всех троих. Отбыв негласный надзор в конце 1897 года, я подлежал призыву в 1899 году. Вынутый за меня жребий освободил меня от воинской повинности, но из-за уклонения нескольких человек я должен был попасть в набор; это меня возмущало, я стал скрываться и затем перешел на нелегальную почву и вступил на революционный путь, начал агитировать и пропагандировать среди рабочих, но где именно, сказать не желаю. Находя более плодотворной пропаганду путем литературы, я предпочел организовать типографию, тем более, что необходимыми техническими сведениями я обладал. Где и когда, а равно на какие средства я основал типографию, сказать не желаю. Типографскую работу вел я один, работая на русском самодельном станке. Где я приобрел материал, шрифт и прочую типографскую принадлежность – сказать не желаю, предъявленные оттиски признаю как выполненные моим шрифтом, с моего набора и моей редакцией (были предъявлены оттиски, выполненные в Бакинской губернской типографии с набора шрифта, задержанного в Аджикабуле, и приобщенные к дознанию в качестве вещественного доказательства). Месяца три тому назад работу типографии в прежнем моем месте пребывания нашел невозможной, почему решил ее перенести в несколько приемов, что мне отчасти и удалось. Последнюю партию я привез в Аджикабул и передал ее помощнику машиниста Виктору Бакрадзе. Я познакомился с ним месяц тому назад, а 1-го сентября в Аджикабуле, как упомянуто раньше, передал ему два тюка; почему именно ему поручил привезти набор и шрифт в этих тюках, ответить уклоняюсь. Шрифта в этих тюках было около 4 – 5 пудов. Шрифт был частью набран, частью рассыпан. Говорю положительно, что Бакрадзе, перевозя шрифт, был слепым орудием в моих руках. Он меня мог знать под именем Давида, мое настоящее имя, я полагаю, ему не было известно. О задержании моего шрифта, переданного Бакрадзе в Аджикабул, я был уведомлен минут за 30 до обыска в квартире Дмитрия Бакрадзе и мог бы свободно скрыться или защищаться находившимся при мне оружием, но не сделал этого, желая, во-первых, освободить от подозрений Виктора Бакрадзе и, во-вторых, не был уведомлен, что следы моего пребывания в доме Бакрадзе, Георгобиани и Енукидзе будут скрыты настолько, что не навлекут никакого подозрения на этих лиц, совершенно непричастных к настоящему делу…
Писать свое показание лично не желаю, предъявленное же мне, как записанное точно с моих слов, признаю, в чем и расписываюсь.
В. Кецховели
Ротмистр Зелтер.
Товарищ прокурора Д. Сафонов
С подлинным верно:
начальник Бакинского губернского жанд.
управления полковник Порошин
Примечание: не желая показать своего почерка, Кецховели подписывается печатными буквами.
Недоумения ротмистра Лунина
– Да, признаю, вы маг и волшебник, ротмистр, – сказал, улыбаясь, Дебиль, – прошу вас отныне всегда докладывать мне о ваших предчувствиях.
Лунич поклонился.
– О дурных тоже, ваше превосходительство?
– Дурных, уверен, теперь быть не может. Такая удача, черт побери! Захвачен неуловимый Кецховели. Осталось лишь отыскать типографию. Думаю, это вопрос одного-двух дней. Я еду к его сиятельству. Вам не по дороге? Могу подвезти.
– Благодарю, ваше превосходительство, я предпочитаю прогуляться.
Генерал уехал. Лунич не спеша прошелся по Михайловскому проспекту, потом по Михайловской улице, миновал кирху, домики немецкой колонии и дошел до памятника Воронцову. Конечно, можно было доехать до Дворянского собрания с Дебилем, но не хотелось торопиться. Каждый гурман знает, что самое приятное не столько тщательно обдуманный обед, сколько то время, когда разыгрывается аппетит. На голодный желудок чувствуешь себя бодрее и сильнее, а обжорство делает человека вялым. Но вкусно, в меру поесть, ей-ей, приятная штука. Сегодня надо и выпить, день все-таки не из обычных. Филер, приехавший из Баку, довольно толково рассказал об обстоятельствах ареста Кецховели. При обыске на конспиративной квартире он сначала назвался Меликовым, и два задержанных железнодорожника – Евсей Георгобиани и Дмитрий Бакрадзе подтвердили, что фамилия господина – Меликов. Третий рабочий, фамилию его филер не запомнил, сказал, что видит господина впервые. Обыск почти ничего не дал, и Порошин с Вальтером собрались было уходить, забрав с собой трех рабочих, когда Меликов отвел Вальтера в сторону, отдал ему свой револьвер и объявил, что на самом деле он Владимир Кецховели. На квартиру пришел после этого чертежник общества «Электрическая сила» Енукидзе. Порошин с Вальтером так, наверное, ошалели от того, что им в руки дался Кецховели, что увезли его одного, оставив других на свободе. Большую глупость трудно себе представить. В деле этом два непонятных обстоятельства: по какой причине Кецховели, имевший возможность скрыться, назвал свое имя, и почему Енукидзе, который, без сомнения, видел с улицы (филер сказал, что у дома собралась толпа, ходили жандармы, полицейские, стоял экипаж Порошина и тюремная карета), что в доме обыск, все же вошел туда? Что за этим кроется? Кецховели – опытный конспиратор. Енукидзе – тоже, он весной сидел в тюрьме, оба, по сообщению филеров, организаторы тайной типографии, оба знали, что им грозит, и вдруг один называет себя, другой прет прямо в руки полиции, зная, что его тоже арестуют. Кецховели мог стрелять, мог на месте уложить полковника и ротмистра, а вместо этого отдал револьвер… Стрелять, впрочем, ему было не для чего. Не такая фигура Порошин, чтобы из-за него идти на виселицу. Бог с ним, с револьвером. Но для чего Кецховели назвал себя? Поломав голову, Лунич махнул рукой и рассмеялся. Вот и его, вроде Лаврова, поставил в тупик Кецховели. Интереснейшая личность, приятно иметь перед собой крупного противника. Кецховели знает, что ему грозит, и тем не менее… Тут, видимо, такая игра, в которой на карту поставлена сама жизнь.
Лунич посмотрел с моста на мутную Куру, перешел на Мадатовский остров, направился оттуда в Александровский сад. В аллее сада на него налетел какой-то зазевавшийся парень с низким лбом. Увидев жандармского офицера, парень криво ухмыльнулся, в глубоко посаженных черных глазах его мелькнула злоба. Лунич хотел отвесить парню затрещину, но раздумал, повернул его за плечи спиной к себе и толкнул так, что тот полетел головой в клумбу. На спине парня оказался небольшой, почти неприметный для глаза горб.
Лунич зашагал дальше, не оглядываясь, и сразу забыл о горбуне.
Он зашел во дворец губернатора, подождал генерала и попросил его связаться с Порошиным, чтобы тот как можно скорее отправил Кецховели в Тифлис. Дебиль поощрительно, понимающе улыбнулся.
– Непременно, ротмистр, непременно.
В ресторан Дворянского собрания Лунич вошел в превосходном настроении. Посетителей было мало, за одним столом сидели трое, похоже было, что завсегдатаи клуба кутят за счет приехавшего из провинции помещика, толстого, с усами чуть ли не до плеч, с крупными, красивыми чертами лица и преглупыми глазами. Завсегдатаи прислали Луничу через официанта бутылку «Мукузани», он в ответ послал две бутылки шампанского, его пригласили пересесть к ним, и он согласился, но соперничать в питии отказался, и как только за окнами стемнело, откланялся и пошел на Лермонтовскую, прихватив с собой бонбоньерку с конфетами.
Амалия ждала его, и ему стало приятно. Оказалось, что няня мужа еще не приехала, а горничную Амалия выпроводила. На столике в спальне он увидел вазу с букетом белых роз.
Как и в прошлые встречи, они почти не говорили. Амалия ела конфеты, а Лунич рассматривал лицо ее с огромными глазами и пухлым ртом. Шоколад размазался по пальцам, она принялась их облизывать розовым языком, хмурясь от удовольствия. «Хорошенькая, но глупая рожица», – подумал Лунич, закурил и выпустил клуб дыма в лицо Амалии. Она закашлялась, с досадой посмотрела на него. Он снова пустил ей дым в лицо, бросил окурок в цветочную вазу и ущипнул Амалию так, что она вскрикнула и посмотрела на него с удивлением – для чего он делает ей больно?
От автора
Наверное, я сумею полностью узнать Ладо только после того, как прослежу за всей жизнью этого человека, загляну в детство и в юность и дойду вместе с ним до конца его дней. Мне хочется найти хоть одного старика, пусть совсем глубокого, который был знаком с Ладо и сумел бы, подобно Вергилию, взять меня за руку и повести в дни минувшие. Я ищу такого, но еще не нашел. Может быть, я справлюсь и без живого свидетеля, буду пока продолжать знакомство с теми людьми, которые имели отношение к Ладо, и с друзьями его, и с врагами. Они тоже не всегда раскрываются сразу, и даже тот, кто виден словно на ладони, может вдруг повернуться совершенно неожиданной стороной своего характера.
Темур
Костлявый кулак офицера толкнул Темура в самый горб. Горше ничего не могло быть. Отлетев на клумбу, Темур в ярости вскочил.
Ротмистр уходил, не оглядываясь. Да и что мог сделать Темур жандармскому офицеру? Он принялся топтать ногами белые астры. В ушах зашумело, из носа потекла кровь. Прижимая к носу рукав, он сошел с клумбы и сел на скамейку, запрокинув голову. В воображении он видел, как ротмистр ползает по земле и просит пощады. Темур небрежно бросает через плечо: «Повесить!» Ротмистра ставят на табурет, накидывают на шею петлю. Когда изо рта ротмистра высунулся синий язык, Темур усмехнулся. Вокруг стояли толпы людей, они менялись на глазах: горбатые становились стройными, слепые прозревали, хромые переставали хромать, глухие обретали слух, бедняки сбрасывали с себя лохмотья и надевали красивые, богатые одежды, и все кричали: «Да здравствует Темур!»
Кровь свернулась, Темур поднялся и пошел через мост на Михайловскую улицу. Кто-то выбросил из окна апельсиновую корку. Темур наступил на нее, поскользнулся и чуть не упал. В ушах снова загудело. Он выругался, отыскал булыжник и швырнул его в окно. Зазвенело разбитое стекло, раздались крири женщин. Темур медленно пошел дальше, удерживая себя от желания побежать. Его никто не преследовал. Конечно, тот, кто выбросил на улицу корку, не знал, что Темур наступит на нее, но почему все сегодня напоминает ему об одном и том же! Впрочем, пусть, пусть и сегодня, и завтра, и послезавтра все кричит о несправедливости, пусть в костер летят новые поленья, пусть огонь разгорается жарче и погибельнее!
Апельсины он видеть не мог, от одного их запаха начиналась тошнота. А ведь сколько лет прошло уже с того дня…
Мать вымыла Темура в деревянном корыте. Он удивился: откуда она взяла мыло? Потом надела на Темура чистую рубаху и переоделась сама. Отец отсутствовал, он, как это часто бывало, навесил замок на дверь кузницы и исчез. Мать говорила соседям, что он уезжает на заработки. Побродив где-то, отец через четыре-пять месяцев возвращался – без денег, похудевший и загорелый. Ночью он за что-то ругал мать, утром открывал кузницу и снова ковал скобы, подковы, кочерги и гвозди. Получив деньги, зазывал к себе соседей – кожевенника и лудильщика. Они пили вино, угощали прохожих, и отец звал Темура, чтобы влить ему вина в рот прямо из кувшина. Темур молча отбивался. Кончалось тем, что отец отвешивал ему подзатыльник. – Обожди, ваше сиятельство, я из тебя золотаря сделаю!
Когда сосед-лудильщик обучил Темура грамоте, отец, узнав об этом, разорвал книжки и закричал: – Он золотарем будет, а чтобы бочки с дерьмом возить, грамоты не требуется!
Мать повела Темура в Сололаки – район богачей. Она то и дело вздыхала, оправляя ему на спине рубашку. Он вырывался: – Не трогай, а то убегу. – Темур терпеть не мог, когда мать смотрела на него с жалостью и вздыхала. Подумаешь, выпирает лопатка и левое плечо выше правого. К тому, что мальчишки называли его горбуном, он давно привык.
– К князю идем, сынок, к богачу, – шептала мать. – Ты ведь хочешь в школе учиться? Князь тебя устроит, он давно обещал.
У двухэтажного дома с большими окнами стоял экипаж. Серые кони приплясывали, толстозадый кучер покрикивал на них.
Мать свернула в подворотню. За домом оказался большой двор, за двором сад, в саду бил фонтан. Из кустов выскочила с лаем огромная черная с сединой собака. Мать не испугалась. – Тубо, Марс! – Собака остановилась и отошла, помахивая хвостом. – Что значит «тубо», мама? Откуда ты знаешь ее имя? – Тубо – это не по-нашему, Темур, на иностранном языке. Я служанкой была у князя, когда ты еще не родился.
Вихлястый парень в белой черкеске поздоровался с матерью, она что-то сказала ему, парень пожал плечами и пошел к дому.
– К беседке идите! – крикнул он.
Мать повела Темура в сад. Под высоким раскидистым деревом, в беседке, увитой виноградной лозой, стояли на столе кувшин, стаканы и блюдо с большими желтыми шарами.
– Мам, это что?
– Фрукты такие, апельсины называются. Идет! К беседке медленно шел мужчина – небольшого роста, видный, в черкеске с эполетами, с непокрытой головой, седые кудри вились вокруг плеши, усы были подкручены, крупный нос высовывался из румяных щек. За ним, подпрыгивая, как на пружинках, семенил толстяк в городской одежде. Темур стал рассматривать эполеты князя и звезду у него на груди. Сразу можно было узнать, что это князь. Он шел так, словно ему принадлежали вся земля и все небо.
Мать стала кланяться. Князь кивнул, вошел в беседку и сел.
– Что они сказали, Шакро? – сердито спросил он у толстяка.
– В аренду не хотим, – пусть его сиятельство продаст землю.
– Мошенники! Знают, что проигрался, – проворчал князь, – совсем лес выведут, собачьи дети! Земля полита кровью предков… Но другого выхода нет. И долг чести, и Мери в Петербург посылать надо… Шакро, пусть сегодня же дают задаток. Привезешь вечером к Орбелиани, я там буду. Барыне ни слова. Подожди, не уходи. Так это ты, Маринэ, а я и не узнал. Постарела-а. М-да… Это твой сын! Для чего ты его привела?
– Ты говорил, вырастет, в школу определю, – глухо произнесла мать.
– Не помню.
Рука матери дрогнула. Она подняла голову.
– Если тебе трудно, я супругу твою попрошу помочь.
– Что? – переспросил князь. – Ишь ты, смелая какая стала.
– Мы тоже люди, господин. Мы ведь не крепостные.
Князь вдруг растерялся и покосился на толстяка.
– М-да, конечно…
Он перевел взгляд на Темура и задумался о чем-то. Улыбка раздвинула его красные, как у женщины, губы.
– Ты кем хочешь быть, мальчик? Как его зовут, Маринэ?
– Темуром назвала, господин.
– Так кем ты хочешь стать, Темур?
– Князем, как ты. Князь деланно засмеялся.
– Недурно, если только не ты, Маринэ, его подучила. А почему он так горбится?
Мать не ответила и вытерла глаза кончиком платка.
Князь поморщился.
– Я его в военное училище определил бы, а теперь и не знаю, как быть. Что с ним делать, а, Шакро?
– При Мариинской церкви есть школа и при семинарии – тоже.
– Пожалуй, иного выхода нет. – Князь потер лоб рукой. – Сколько забот – одного в училище, другую – в заведение святой Нины, третьего… Хорошо, Марина, будет твой сын учиться. А почему он босой? Разве твой муж не зарабатывает?
Мать молчала.
Темур переводил взгляд с князя на мать и снова на князя. Силачи-кузнецы с их улицы никогда так не разговаривали с людьми, как князь, ведь от того, что они унизили бы слабого, сами сильнее не стали бы. И мать ведет себя как-то странно, то униженно просит, то смотрит на князя со злобой, вызывающе.
– Кузницу он получил, – строго произнес князь, не дождавшись ответа, – домик получил, что же он такой неблагодарный? Может, он пьет?
Мать кивнула.
– Ты передай мужу, что я могу приставу сказать, и ему таких плетей дадут!
– Отца все равно дома нет! – крикнул Темур. – Пристав его не найдет!
Мать схватила его за ухо, но не так больно, как она это делала обычно. Князь улыбнулся.
– Оставь его, Марина, он не должен быть пугливым. Жаль, что горбатый… Впрочем, Темур-ленг был хромой. Что же, у каждого своя судьба. Идите. Шакро, дай мальчику апельсин.
Темуру не хотелось ничего брать, но он никогда не ел таких фруктов. Сжимая в руке пахучий желтый шар, он опередил мать, выскочил на улицу и впился зубами в апельсин. Он оказался горьким. Темур сплюнул и выбросил апельсин под ноги лошадям. Лошади вздрогнули, замотали головами и чуть не понесли. Кучер еле удержал их и стал ругаться…
Темур провел рукой по лбу, стирая воспоминания. И зачем он сегодня пошел пешком? Лучше бы сел в конку. Ладно, времени все равно много. Надо только перед дежурством поесть в подвальчике у вокзала. Копеек двадцать у него найдется. А что делать завтра? Ничего, скоро ему дадут разряд. Телеграфистам хорошо платят. Закро просил сообщить членам кружка, что занятие состоится у него на квартире в среду. Насчет занятий можно сказать и завтра. А на той неделе снова стоять на страже у ворот, следить, не появится ли полиция. Члены комитета доверяют ему и не подозревают, что он часто подслушивает у окна их разговоры. Нерешительный народ, все взвешивают, примеряют. Те парни, что называют себя эсерами, куда отчаяннее, но связываться с ними опасно. «Бомбисты» часто проваливаются. А вообще надо приглядеться и к тем, и к другим. Если все пойдет, как сейчас, он будет пробиваться в комитет эсдеков. А пробьется, завернет дела покруче. Состав комитета часто меняется, полиция хватает то одного, то другого. Понадобится, он поможет, как говорил Акимка-кучер, приехавший в Тифлис из Сибири, «погореть» тому, кто станет ему поперек дороги… Надо было еще заглянуть сегодня к матери, отнести белье в стирку. Тоже успеется. Мать, наконец, смирилась с тем, что он живет отдельно. А может, ее это даже устраивает. Кузнец опять в бегах, а она еще не старая. Сколько ей? Лет тридцать шесть, не больше.
Что он приблудный, ему сказали мальчишки в тот день, когда они вернулись от князя. Он рассказал, у кого был с матерью, и начался хохот. «Отца не узнал! Всему кварталу известно, с кем мать тебя прижила. Гулящая!» Он полез в драку, и кто-то рассек ему камнем щеку. Темур не плакал. Отбившись, он прибежал домой, посмотрел на мать, крикнул ей самое грязное слово, какое знал, и убежал. Его разыскал и привел домой сосед. Темур два дня носу на улицу не показывал, а потом, подумав, вышел к мальчишкам и стал издеваться над ними. Они – пыль, они – грязь, а он – сын князя, он станет большим человеком, а они будут его слугами. Он гоготал, бил себя руками по ляжкам и плевал им под ноги, а они, растерявшись, молчали.
В школе он тоже попробовал поплевать под ноги одноклассникам, но они только обрадовались, закричали по-русски: «Князь, князь, лицом в грязь!», подняли «его сиятельство» на руки, вынесли в сад и бросили в крапиву. Эти поповские сынки в грош не ставили дворянское происхождение. Единственное, чем можно было удивить их, – знаниями, единственное, чему они подчинялись, – физической силе. Хотя он умел и не боялся драться, но многие были сильнее его, и для всех он был «горбун» и «лицом в грязь». Память у него оказалась редкой, он запоминал наизусть десятки страниц, только раз прочитав книгу, и скоро стал получать высшие баллы по всем предметам, кроме пения, – слуха и голоса у него не обнаружилось. Заметь одноклассники, что он зубрит, ничего не изменилось бы, но то, что он занимался не больше других, а запоминал все, вызывало зависть и уважение. Учителя тоже выделяли его, даже хвастались способным учеником при посещении школы попечителем и инспекцией. И все же то одноклассники, то учителя нет-нет, да посматривали с усмешкой или жалостью на его горб, так ему казалось. Это приводило Темура в бешенство. В один из припадков ярости он швырнул миску с горячим супом в лицо отцу-эконому. Темура исключили перед самым окончанием школы, дорога в духовное училище и в семинарию закрылась. Мать хотела снова пойти к князю, но Темур не разрешил ей. Несколько раз Темур видел князя на улице, он ехал в экипаже с двумя детьми – мальчиком в бархатном костюмчике и хорошенькой девочкой. За то, что они ехали в экипаже и были нарядно одеты, их нельзя было не возненавидеть. Мир омерзительно устроен!
Помог Темуру сосед-лудильщик. Он устроил его в парк конки, сначала подмастерьем слесаря, потом Темур стал кондуктором, и тогда он ушел от матери и стал снимать комнатенку. Кто-то из кучеров, присмотревшись к Темуру, привел его с собой на занятие нелегального кружка. Тут Темур и узнал, почему мир устроен омерзительно. Оказалось, что князь, его отец, – один из тех, кто угнетает народ и против кого необходимо бороться, чтобы установить справедливость. И потому, когда в кружке его как-то спросили о родителях, он ответил: – Мой отец кузнец. – Он понял свое предназначение: он разрушит весь этот мерзкий мир и построит новый, справедливый, где все обиды будут возмещены и отомщены. Отомщены куда сильнее, чем он в школе отомстил одному из своих обидчиков – ночью обмотал ему пальцы на ногах ватой и поджег. Никто не узнал, что сделал это Темур, и погорельца еще посадили в карцер за прожженное одеяло. То было, как ему сейчас казалось, очень давно. Теперь перед ним раскрываются куда более широкие возможности, остается только набраться терпения. Он снова вспомнил жандармского ротмистра и выругался. – Будешь ты у меня болтаться в петле!
Темур дошел до вокзальной площади. Спустившись в подвальчик, поел и направился на свою новую работу, куда ему помог перейти один из членов кружка, – Темур стал учеником телеграфиста на железной дороге.
Сдав Темуру дежурство, рыжий, с лицом в веснушках телеграфист по кличке Костер позвал его в коридор и шепотом спросил:
– Слыхал про Кецховели? Знал его?
– Что с ним?
– Арестовали в Баку. Не то вчера, не то позавчера. Ребята депешу приняли…
У Темура даже ослабели ноги. Он процедил сквозь зубы:
– Свирепствуют жандармы. Беда. Вернувшись в аппаратную, сел за работу. Может, известие ошибочное? Слишком невероятно, чтобы Ладо мог попасться.
В первый раз Темур увидел Кецховели три года назад на занятии кружка. Темур устал за день, слушал невнимательно и клевал носом, случайно он перехватил взгляд пропагандиста, и сонливость прошла. Во взгляде пропагандиста не было ни упрека, ни жалости, так смотрит равный на равного, спрашивая: «Устал, брат?» Говорил он так, будто думал вслух, и от этого невозможно было не поддаться его убежденности. Темур не сводил с него глаз. Пропагандист пошутил, улыбнулся, и Темур рассмеялся. Почудилось, что нет у него больше горба и все вокруг стало лучше. Несколько дней подряд он вспоминал глаза и голос пропагандиста и наконец разузнал, что это конторщик типографии Хеладзе Ладо Кецховели.
На следующем занятии он не сводил с Кецховели глаз, потом подошел к нему и, запинаясь, спросил, что изменит революция, не вообще, не в смысле свободы и равенства, а… начальники все-таки будут? Ладо улыбнулся, и глаза его сузились в ласковые щелочки. Он положил руку на плечо Темуру. – Понимаешь, революция освободит народ от насилия, от угнетения. А какие силы угнетают народ? Армия, чиновники, жандармы. От них и надо освободиться. Народ будет сам выбирать тех, кто должен управлять заводом, железной дорогой. А чтобы они не стали чиновниками, народ будет их часто менять. Вот ты рабочий, кондуктор конки. Выбрали тебя начальником на время, потом ты возвратишься на свое рабочее место, а начальником станет другой. Привилегий, пока ты отдежуришь начальником, у тебя не будет, жалованье сохранится прежнее.
Темур надолго задумался над тем, что сказал ему Ладо, и усомнился в его правоте. У людей разные характеры, разная внешность, разные способности, один нравится всем, другой – никому. После революции останутся и дураки, и трусы, и слюнтяи, неужели все они, наравне с другими, будут избираться на время в начальники? Вряд ли, выбирать будут лучших. Но что тогда получится… Предположим, что революция уже свершилась. Рабочие конки, конечно, изберут первым начальником Ладо, а не Темура, но когда придет очередь Темура, рабочие скажут: не надо его, пусть лучше снова отдежурит Кецховели, и так все время. Начальником всегда будет один человек. Есть над чем подумать.
Темур брился перед зеркальцем. Он посмотрел внимательно на свои угловатые скулы, острый подбородок, низкий, заросший волосами лоб и плюнул на отражение в зеркале. Лицо его навсегда останется уродливым, и от горба ему не избавиться, а Кецховели строен и красив, и этого у него никто не отнимет. Глядя на Ладо, люди убеждаются, что глаза и лицо – зеркало души человека. Скорее всего так и есть – в глазах Ладо видишь сочувствие, ласку, он смотрит на человека, как на любимого брата. Неужели в душе его нет ни капли злобы, зависти, презрения, неужели он не смотрит, хотя бы изредка, свысока на других? При следующих встречах Темур стал искать в Ладо скрытый порок или недостаток, не сумел их обнаружить и оскорбился. Все шло прахом! Какой смысл разрушать старый мир и создавать на его обломках новый, если и в новом мире сохранится несправедливость, если Ладо легко, не стремясь к этому и не желая того, всегда будет иметь над людьми власть, просто так, по той же причине, по какой у Темура есть горб, а у него нет?
Ладо больше не появлялся – вместо него пришел другой пропагандист. Самым досадным было то, что Темур все же огорчился. С завистью и даже ненавистью он мог думать о Ладо, не видя его, а при встречах невольно поддавался обаянию его глаз, его голоса.
Увидел он снова Ладо неожиданно. Представители комитета эсдеков собрали кучеров и кондукторов конки в парке дороги, чтобы помочь им провести забастовку. Одного представителя комитета Темур узнал, несмотря на то, что он сбрил бороду. Ладо заговорил, и Темур стал всматриваться в еще более открытое без бороды лицо, прислушиваться к его словам. Вокруг так же жадно слушали. И Темур вновь подумал о том, что ему никогда не стать таким, Как Кецховели. Сколько бы он ни учился, сколько бы ни знал, таким, как Ладо, он не будет, не сумеет ни говорить так, ни находить такой отклик в людских душах. Если бы только можно было исправить эту несправедливость!
Темур не верил ни в бога, ни в дьявола, иначе он заподозрил бы, что один из них вдруг протянул ему руку помощи. Кто-то тихо сказал за его спиной:
– Узнать бы, кто этот смутьян? Как инородцы кашу заваривают, так нашему брату, русскому, солоно приходится. – Темур обернулся, увидел знакомое испитое лицо, курносый нос и злые глаза. Об этом рабочем говорили нехорошее. Темур думал мгновение.
– Я знаю бритого, – вполголоса сказал он. – Это Ладо Кецховели, работает конторщиком в типографии Хеладзе. – Темур отвернулся, чтобы рабочий не запомнил его лица.
Утром во двор конного парка ворвались полицейские. Рабочие отступили, и Темур понял, что пришел его час, что он может показать себя. Он выломил из ограды железный прут, с криком кинувшись на полицейского, и, холодея от ужаса, ударил его прутом, как копьем, в живот. Острый конец прута вонзился глубоко, полицейский закричал и повалился. Другие рабочие тоже стали выламывать прутья и выковыривать из мостовой булыжники. Темур бил ногами полицейского, не в силах остановиться. Кто-то оттащил его. – Очумел ты что ли, парень? Хватит, он давно мертвый. – К парку скакали казаки и жандармы. Темур огляделся, перелез через ограду и спрятался в саду Муштаида…
Те, кто видел, что Темур первым бросился на полицейского и убил его, молчали. Эсдекам стала известна смелость горбатого кондуктора и то, что он повел людей за собой. Полиция расспрашивала всех о Кецховели. Рабочие узнали, что назвал его имя русский слесарь. Темур выдавил сквозь зубы, что предателя надо убрать, может ведь он пьяным случайно упасть под вагон конки. Рабочие переглянулись: «Голова у тебя варит». Через несколько дней доносчик утонул в Куре, и полиция установила, что он утонул в состоянии опьянения.
Темур присматривался к членам комитета, определяя тех, кто в будущем может быть опасен ему. Однажды, подслушивая у окна, он узнал голос Кецховели. Снова этот человек! Откуда он появился? Одно лишь смог узнать Темур – Ладо будет ночевать на квартире Джугели. Кровь прилила к голове Темура, и он отошел к воротам. Когда стемнело, Закро, как всегда, подошел к нему: – Все ушли тем ходом, ты тоже можешь идти. – Темур, не глядя, кивнул. Он долго ходил по улицам, решаясь, и решился: с дороги, на которую раз ступил, не сворачивают. Он надвинул фуражку на глаза, подошел к жандармскому управлению и повелительно сказал стоящему на улице жандарму: – Передай сейчас же ротмистру Лаврову, что Кецховели будет сегодня ночевать на квартире Джугели. – Жандарм козырнул и вошел в подъезд. Темур убежал. Несколько дней он ждал известия о том, что Ладо пойман, но тщетно.
И вот теперь Костер сообщил ему об аресте.
Темур принялся за работу. Как бы узнать, правда ли, что Ладо арестован? Отправив депеши, он покосился на старшего телеграфиста – отпустит он его или нет? Услышав, что Темур нездоров, старший телеграфист разрешил ему уйти.
Темур поблагодарил, вышел и через четверть часа постучал условным стуком в ставень домика на Елизаветинской улице, где была конспиративная квартира.
Известие об аресте Кецховели подтвердилось.
Темур отправился к матери. Разбудив ее, попросил вина. Мать обрадовалась Темуру, достала кувшин вина, поставила хлеб, сыр, зелень. На лице ее появились морщины, но коса была густая и блестящая, как у девушки. Заметив взгляд Темура, она накинула на голову платок, села напротив и, пряча в уголках глаз и в морщинках жалостливую, виноватую улыбку, смотрела, как он пьет вино.
– Хорошее? – спросила она.
Темур пожал плечами. Он не любил вино и пил его редко, наверное потому, что маленьким часто видел, как напивается кузнец.
– Одного… знакомого арестовали, – сказал он, – в Баку.
Мать понимающе закивала.
– Вот несчастье. Да ты пей, сынок. Мяса вот только у меня нет.
– Без денег сидишь?
– Тебе нужны, сынок? У меня есть три абаза[4]4
Абаз – двадцать копеек.
[Закрыть].
– Оставь себе. Придет время, ни в чем не будешь нуждаться. Помнишь дом князя? В нем будешь жить, – пообещал он.
Она опустила голову.
Ладо арестован. Руки Темура остались чистыми. Впрочем, какое это имеет значение! Ладо может сбежать из тюрьмы, и все начнется сначала. Что ж, Темур вроде бы окончательно излечился от симпатии к этому человеку, единственному, которого он чуть было не полюбил.