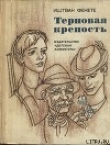Текст книги "Выстрел в Метехи. Повесть о Ладо Кецховели"
Автор книги: Михаил Лохвицкий (Аджук-Гирей)
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Разговор в адском карцере
Все шло прахом. Самодовольный тупица Дебиль пожинал плоды стараний Лунича, был отмечен и переведен на более высокую должность. Прощаясь с подчиненными, генерал даже не счел нужным выразить им благодарность и лишь пожелал успешной службы со своим преемником, полковником Ковалевским. Удивительно, право, удивительно, что более всего продвигаются теперь любители загребать жар чужими руками и бездарности. Неужели правы были однокашники, осевшие в столичных канцеляриях? Отец во время последней встречи говорил, что люди мельчают, а мельчают они обычно тогда, когда правители не в силах внести в государственную повседневность ничего нового и тщатся сохранить существующее положение. Лунич, надумав, возразил, что время призовет крупных людей, ибо движение снизу нарастает и для сопротивления ему потребны сильные деятели. Отец понял, что он думает о себе, и пробормотал:
– Я только рад буду.
Но, выходит, что отец прав – время призвало Дабиля, а Лунич требовался лишь как ступенька, по которой после Дебиля шагнет вверх Ковалевский. Даже осел Лавров, это, кажется, понял. Впрочем, обиженная, мина его продержалась недолго, он вскоре стал есть глазами нового начальника. Вот они рядам – Лунич и Лавров. Вверх не движутся оба, хотя един умет, а другой тупица. Если интеллект не в почете, почему круглый дурак тоже не в фаворе? Наверное, потому, что ограниченность Лаврова слишком уж явная, он не умеет ее прятать. Да, сейчас лучше тем, кто не рассуждает, не обнажает своей тупости и создает видимость усердной работы. Господи, на чем только держится государство? Поневоле признаешь, что те, кого Лунич допрашивает в Метехской тюрьме, куда значительнее всех его начальников и сослуживцев. Особенно Кецховели. Иногда кажется, что Кецховели догадывается обо всем, что думает Лунич, знает о нем больше, чем кто-нибудь другой. Кецховели сейчас держат в карцере. Милок рассказывает, что Кецховели ни с того, ни с сего обругал его. Что-то явно не так. Без причины Кецховели не выругался бы. Видимо, Милов прислушался к совету Лунича и. нашел повод отомстить за щиты на окнах.
Странное выработалось отношение к Кецховели. Он внес сплошное беспокойство в жизнь Лунича и, как ни глупо быть суеверным, кажется, что из-за Кецховели. его ждут большие неприятности. Но одновременно – нечего кривить душой – Кецховели и притягивает к себе. Теперь, после окончания следствия, даже как будто не хватает разговоров с ним. Одно время, когда Лунич только стал офицером, нечто похожее было во взаимоотношениях с отцом. Не уважать отца было нельзя, но постоянно хотелось поспорить с ним, чем-то досадить, доказать свое с ним равенство. Отец и не догадывался, как сын временами тайно его ненавидел.
Зазевавшись, Лунич налетел на какую-то даму и извинился.
Как же он забыл? Как мог он забыть? На прошлой неделе Амалия сказала, что она беременна. Лунич рассмеялся, представив, как загалдят тифлисские кумушки, что у старого князя, застрявшего где-то в Париже, родился ребенок. Амалия удивленно на него посмотрела, не понимая, что он нашел смешного в её положении. Он объяснил. Губы ее тоже тронула улыбка, потом она расплакалась.
Лунич не любил, когда Амалия ревела. Нахмурившись, он подумал, что история эта сейчас ему совершенно ни к чему. Пойдут разговоры, и, учитывая, что с полковником Ковалевским отношения еще не определились, огласка может повредить ему. Долг чести офицера позаботиться о том, чтобы неприятные для женщины последствия были ликвидированы без сплетен и, конечно, за его счет. – Не волнуйся, – сказал он, – я найду акушерку. – Я думала, – тихо произнесла она, – я думала, что ты… – Что? – Лунич расхохотался так, что чуть не упал с постели. Амалия вскочила и набросила на себя капот. – Уходи! Уходи! – Он испугался, что крики ее услышат соседи, хотел зажать ей рот, но она вырвалась, отбежала в конец комнаты и схватила со столика металлический нож для разрезания бумаги. – Уходи, а то я ударю тебя! – Она махала перед собой ножом, наступала на Лунича. Лунич схватил ее за руку. Она перехватила нож левой рукой, и острие воткнулось ей в ладонь. Лунич отнял нож, надавал Амалии пощечин, швырнул ее на кровать и держал, чтобы она не могла встать. Она вырывалась, пыталась оцарапать ему лицо, укусила в щеку, и пришлось еще раз ударить ее. Луничу надоело играть мелодраму. Он встал, оделся, сказал, чтобы она завтра пришла к нему, и удалился.
Амалия не появлялась, он забыл о ней и вспомнил только сейчас. Какая-то женщина шла ему навстречу, задумавшись и улыбаясь. Лунич, заметив выступающий живот, угадал, что она улыбается жизни, которая зародилась в ней. Так же когда-то улыбалась и его мать, когда он шевелился в ее утробе. Черт побери, неужели в Амалии уже живет то, что продолжит Лунича, и его отца, и всех других Луничей, неужели может появиться мальчик – смуглый, с темными глазами? Никогда еще в голову не приходила мысль о возможности появления сына. До сих пор разговоры или предположения о женитьбе, о семье были такими же, как разговоры о переезде на новую квартиру или приобретении жеребца для верховой езды. Пожалуй, отец обрадовался бы, если бы Лунич привез ему внука. Что если в самом деле?.. Амалию можно поместить пока за городом, няньке заткнуть рот деньгами, затем договориться в Ольгинском повивальном институте, там имеются отдельные комнаты для секретных рожениц. Амалия родит, вернется домой, а Лунич наймет кормилицу и отвезет сына в имение к отцу. Все приличия при этом будут соблюдены.
Никогда раньше он не задумывался над тем, что его незадачливые любовницы покушались на него самого, убивая его, Лунича, наследников. Отцу вряд ли следует объяснять, кто мать ребенка, у старика свои взгляды, переубеждать его совершенно бессмысленно. Отец тоже пошаливал, и не только в молодости. Но негоже интересоваться отцовскими грехами, В конце концов, человека должно занимать только то, что связано с ним самим и с его потомками.
Лунич развеселился и, разрешив себе вольно думать обо всем, шагал по Михайловскому проспекту, с удовольствием ощущая, как упруго и легко он идет, как приятно звенят шпоры и как смотрят на него прохожие. Не все его знали в лицо, но все, конечно, чувствовали, что имеют дело с личностью. В наше время это главное – знать себе цену, знать, что ты личность, и бог о ним, со всей той глупостью, которая растет, прыгает, пляшет вокруг тебя.
Лунич свернул в переулок и вошел в парикмахерскую. Маленький старичок-парикмахер при виде его вздрогнул, уронил книжечку, которую держал в руках, и вскочил.
– Здравствуйте, пан ротмистр, вы пожаловали… Давно не имел чести вас видеть. Прошу, прошу. Минуточку, я оботру кресло.
– Ну, ну, не суетитесь так, – сказал Лунич, поднимая брошюру. – Чем это вы были так увлечены? Письмо Домбровского Каткову. Издание старое, нелегальное. Где вы взяли эту брошюрку, господин Поклевский?
У парикмахера задрожали губы.
– У букиниста.
– Да? – Лунич бросил брошюрку на столик, устроился в кресле, расстегнул воротник и с улыбкой посмотрел на перепуганного поляка. – А может, у вас имеется что-либо поновее? Признайтесь лучше, а то придется явиться к вам с обыском. Приступайте, приступайте к делу.
Поклевекий намылил Луничу лицо и принялся брить его.
– Все-таки как волка не корми, а он в лес смотрит, – посмеиваясь, лениво рассуждал Лунин. – Сколько уже лет прошло после польского восстания, давно Домбровского нет в живых, а вы все за старое. Кого из тифлисских поляков вы знаете?
– Я живу одиноко, господин ротмистр, – тихо ответил Поклевский.
– Да, да, потому я и спрашиваю. Ваше заведение весьма удобно, – скажем, для передачи нелегальщины. Один зайдет, забудет сверточек, другой захватит его. А вы вроде ни при чем. Расскажите, кто у вас забывал книжечки или газеты?
– Никто, господин ротмистр. Неужто вы в самом деле подозреваете меня? Езус Мария, я живу… меня только цветы интересуют, у меня садик. Я старый человек, господин ротмистр, мне недолго жить осталось, я и так уже наказан, за что же вы?
– Старый, говорите вы? Старым как раз и нечего бояться. Скажите, господин Поклевский, неужели когда вы ложитесь спать и перед сном думаете о жизни вашей и вообще о жизни, на ум вам не приходят мысли о том, допустим, что не все ладно в государстве нашем? У каждого мыслящего человека есть идея. Вы, надеюсь, тоже из мыслящих? Какова ваша тайная идея, в чем она?
Лунич улыбнулся и закрыл глаза.
Он сидел, запрокинув голову. Не услышав ответа, открыл глаза и увидел склонившееся к нему лицо Поклевского, со сведенными седыми бровями, с каким-то безумным лихорадочным взглядом. Пальцы Лунича сами, прежде чем он успел подумать, вцепились в руку Поклевското и вывернули ему кисть. Бритва упала на пол, Лунич вскочил и ударил Поклевского кулаком в подбородок. Старик упал легко, словно ожидал удара, и заплакал.
Лунич приподнял его, схватив за ворот халата.
– Ты что это, ты что задумал, сволочь польская?
– Я ничего, – в ужасам глядя на него, ответил Поклевский.
Лунич выпустил его, и он снова упал па пол. Лунич выпрямился, посмотрел в зеркало на свое серое лицо и ощутил, как холодок, словно от сквозняка, пронесся по спине. Не оборачиваясь, он поднял с пола бритву и принялся сам добривать себе шею.
– Встаньте, – сказал он, – сядьте в углу на стул и не двигайтесь.
Было слышно, как старик завозился, как у него хрустели кости и зашарпали по полу штиблеты. Когда Поклевский сел, в зеркале отразилась его физиономия – губы от удара Лунича были разбиты. Намеревался он или нет? Если намеревался, то открой Лужин плаза секундой-двумя позже, его уже не было бы. Неделю назад схватилась, за нож Амалия, сегодня этот старикашка. Не жизнь, а авантюрный роман какой-то. Однако шутки шутками, но если Поклевский в самой деле намеревался… Подумать только, сколько лет подряд Лунич брился здесь и каждый раз, как садился в кресло, мог, оказывается, перестать существовать. Мгновение – и нет ни мыслей, ни желаний, ни отца, ни будущего сына – ничего. Что делать со стариком? Посадить в тюрьму? Прокурор запротестует. Внутреннее намерение не есть преступление или попытка совершить его. Намерения могли измениться. Что на это возразишь? Показалось странным выражение его глаз? Поставишь себя в идиотское положение. Даже если господин Поклевский подтвердит, что такое намерение пришло ему в голову, осудить его невозможно, за мысли не наказывают.
Лунич отложил бритву, застегнул воротник и повернулся к старику.
– Слушайте, вы в самом деле намеревались полоснуть меня по горлу или мне показалось? Говорите, не бойтесь. К сожалению, вам ничто не грозит.
Поклевский поднял голову, обтер с лица кровь, посмотрел на свои пальцы, и потухшие глаза его оживились.
– Я больше не боюсь вас, господин ротмистр. Я жалею, что не успел… Что я говорю, что со мной?
Он обхватил руками голову, заплакал и закачался из стороны в сторону.
Лунич не ждал признания. Ему почему-то хотелось, чтобы старик отказался.
– Вы в самом деле намеревались? – повторил он. – Но почему, что я вам дурного сделал?
Поклевский не ответил. Матерно выругавшись, Лунич вышел. На проспекте он остановил фаэтон и поехал к Амалии.
Подумав, Лунич решил, что Поклевский сказал правду, и на душе у него полегчало, как у человека, мимо которого прошла смерть, не задев его. «Долго жить буду», – решил он, засмеялся и пошутил с кучером.
С моста был виден Метехский замок. Лунич подумал о том, как, должно быть, скверно чувствует себя Кецховели. Ловко придумало тюремное начальство. Зимой сажает арестантов в холодный карцер с выбитыми стеклами в окне, с водой, просачивающейся сквозь пол, а летом – в карцер без окна, прилегающий одной стеной к печи и дымоходу тюремной кухни. Арестанты называют карцер «адским».
Лунич остановил извозчика, купил в цветочном магазине букет роз и поехал дальше.
Горничная, румяная девка, осклабилась, увидев его. Он бросил ей монету и вошел в комнату.
Амалия лежала в постели. В комнате пахло аптекой и еще чем-то.
– Здравствуй, моя… хорошая, – сказал Лунич, наклонившись над кроватью, и коснулся губами горячего, сухого рта Амалии. – Почему ты лежишь?
Он придвинул стул, сел, взял ее руку и стал целовать – от запястья до локтя.
– Прости меня, я был груб. Что с тобой, скажи мне?
Не выпуская руки Амалии, он с нежностью всмотрелся в ее лицо. Оно осунулось, пропала припухлость щек, глаза посветлели.
Он рассказал о своих планах.
Амалия приподнялась немного, подоткнула подушку, чтобы голова была выше и, смотря Луничу прямо в глаза, жестко сказала:
– Ты, оказывается, палач. Он засмеялся.
– Теперь у тебя нет больше причин сердиться. Какая ты была с ножом… Дай я тебя поцелую.
– Не прикасайся ко мне! Я говорю, что ты палач и по службе. Мне рассказали. Я думала, ты офицер. А ты, оказывается, мучишь арестантов в Метехи. Поэтому ты был таким со мной.
– Я следователь, Амалия. Ты ведь знаешь, что такое юрист? Следователь, прокурор, судья, адвокат…
– Нет, ты противный. Я думала, я поняла, тебе нравится быть таким.
– Перестань сердиться, я же сказал, что тебе нечего беспокоиться. Никто ничего не узнает. Сына я увезу.
– Ты грязный, – убежденно сказала она, – даже сам не замечаешь. Я как будто в пятнах, не отмыться. Сына у тебя не будет, никого не будет. Я вчера…
Лунич поверил ей сразу. Он понял теперь, чем пахло в комнате.
– Что ты натворила, – тихо сказал он.
Она перестала смеяться и холодно спросила:
– Думаешь, я боялась, что все узнают? Да я лучше бросилась бы в Куру, чем родила от тебя.
Она позвала няньку и сказала Луничу:
– Уходи.
Лунич побрел к двери. Его словно кто-то ударил под ложечку. Амалия ограбила, обворовала его еще до того, как он открыл для себя, что такое сын.
Он дошел до Дворянского собрания, выпил прямо у буфетной стойки полбутылки коньяку и снова вышел на проспект. Боль прошла.
Наверное, отец и мать того ребенка, которого он сбил конем, еще острее, еще оглушительнее переживали смерть сына, ведь сын Лунича еще не родился, а тот уже несколько лет бегал, смеялся, говорил. Сколько ему могло быть лет? Семь-восемь, не больше…
Лунич вернулся в ресторан Дворянского собрания, чтобы выпить еще коньяку. В дверях ему встретился полковник Габаев, высокий, худой, с неожиданно огромным, круглым животом, выпирающим из сухого туловища; лицо Габаева отличалось такой же странностью – длинное, скуластое, а подбородок тройной, словно взятый взаймы у другого, очень толстого человека.
– Здравия желаю, ротмистр, – пробасил Габаев. – Вы сюда, а я, увы, покидаю приятное застолье. Еду в Метехи.
– Так рано, ваше высокоблагородие? Может, выпьете со мной коньяку?
– Коньяк не жалую, предпочитаю вино. И служба, служба!.. Вот когда вы переловите всех бунтовщиков, нам станет полегче.
– Я все же налью вам рюмочку.
– Одну, так уж и быть.
Лунич взял еще коньяку, налил рюмку Габаеву, а остальное для себя вылил в большой фужер.
– Ого, – сказал Габаев.
– Лечусь, ваше высокоблагородие. В минуты горести незаменимая микстура. За ваши успехи! Вы вот говорите – «когда переловите». Про бакинскую стачку знаете? Почти месяц все стояло – промыслы, заводы, железная дорога, пароходы. А тифлисская забастовка! Кстати, это не ваш батальон по рабочим стрелял? А забастовки в Михайлове, Боржоме, Батуме, Поти? Знаете, сколько рабочих бастовало по Закавказью этим летом? Сто тысяч человек. Сто тысяч! А вы нас упрекаете.
– Помилуйте, ротмистр, и не думал упрекать.
– В душе все равно упрекаете. Армия всегда недовольна жандармерией. А сами? Что сумели сделать войска в Баку? Ничего. Так вы в Метехи?
– Мой батальон несет там охранную службу. Разве вы забыли?
– Поехали!
– Мне надо проверить несение службы, дать кое-какие дополнительные указания. А вам для чего, тем более после коньяку?
– Мне тоже надо, – с пьяным упрямством ответил Лунич.
– С обыском хотите нагрянуть? Они сели в коляску полковника.
Полковник Габаев был разговорчив, но Лунич не слушал его. Выпивка странно подействовала на Лунича. Он был пьян. Но коньяк оглушил только одну часть мозга, другая вроде бы соображала. И эта трезвая половина спрашивала у пьяной: «Зачем ты едешь в тюрьму?» На что пьяная отвечала: «Я так хочу».
– Ротмистр, вы что, не слышите? – услышал он голос полковника. – В третий раз спрашиваю.
– Прошу прощения. Повторите, пожалуйста, еще.
– Я спрашиваю, кого вы собираетесь накрыть? Если это не секрет, конечно.
– Накрыть? Ах, накрыть… Я накрою одного заключенного. У него в камере часто что-нибудь обнаруживаешь. Впрочем, нет, он в карцере.
«Что если в самом деле еще раз допросить Кецховели? – подумал Лунич. – Вдруг карцер на него подействовал, и он устал, ослаб…»
– Должен допросить Кецховели, ваше высокоблагородие.
– А-а, беспокойная личность: Милову о нем не напоминай, за сердце хватается. Я распорядился, чтобы на пост номер шесть ставили самых надежных солдат, а то мой земляк – политик, действует на часовых, аки лукавый змий. А ведь дворянин! Удивляет меня, что с такими, как он, позорящими наше дворянство, столь преданное государю-императору, так цацкаются.
– А вы не цацкайтесь! – сказал Лунич. – Вы покруче!
– Генерал Светлов то же самое приказал мне вчера. Особое внимание, мол, уделите Кецховели.
Они въехали во двор замка. Габаев пошел в дежурку, а Лунич, стараясь держаться прямо, в сопровождении унтер-офицера и надзирателя направился к летнему карцеру.
Шаги их многократно отдавались в коридорах. Надзиратель отомкнул дверь карцера.
– Занеси фонарь и выйди, – приказал унтеру Лунич. Помедлив, он вошел в камеру величиной немногим больше стенного шкафа. Горячий воздух ударил ему в лицо. Унтер протянул в дверь руку и поставил «летучую мышь» на пол. Язычок пламени в фонаре съежился. При слабом свете Лунич увидел Кецховели, сидящего на полу, спиной к стене, глаза у него были открыты, веки часто мигали – тусклый свет фонаря после темноты оказался слишком ярким.
– Тут и сесть не на что, – сказал Лунич.
– Садиться можно прямо на пол, – хрипло произнес Ладо, – табуреты и кровать здесь, как вам известно, запрещены, да и не поместятся. К тому же, у пола сравнительно легче дышать.
– Здравствуйте, – сказал Лунич. – Черт побери, дверь лучше оставить открытой.
– Вы не лишены сообразительности, господин ротмистр.
– Вы еле говорите.
– А вы попробуйте посидеть в этой жаровне шесть суток.
– Унтер! – крикнул Лунич. – Принеси кувшин воды. Не думал, что здесь такое пекло.
– Разве не вы с Миловым придумали этот райский сейф? Если вам трудно стоять, присядьте на парашу, тем более что вы, кажется, пьяны.
Лунич промолчал. Он всматривался в лицо Кецховели. Борода у него, отросла, давно не стриженные волосы падали на лоб, он расстегнул ворот рубахи, подставляя грудь воздуху, вползавшему снизу от двери, и глубоко дышал.
Унтер принес глиняный кувшин с водой и железную кружку. Лунич показал на Кецховели. Унтер наполнил кружку, Ладо взял ее и медленно, задерживая воду во рту, стал пить. Унтер опустил кувшин на пол и скрылся за дверью.
– Что вам угодно, господин ротмистр? – спросил Ладо. – Надеюсь, не просто в гости, иначе я попал бы в неловкое положение. Сегодня у меня голодный день, а вчерашнюю порцию хлеба я уже съел.
Лунич переступил с ноги на ногу. Только от быстрого опьянения могла прийти в голову дурацкая мысль, что на Кецховели подействовал карцер. Надо уйти. Недостойно офицера являться к голодному Кецховели сытым и пьяным.
– Извините меня. Я на самом деле выпил, но… На что все-таки сесть?
– Переверните кувшин – в нем уже нет воды, и садитесь. Я привык к полу.
Лунич сел на кувшин.
– Что за срочный вопрос вы хотите мне задать? – спросил Ладо.
– Я не для допроса. И ничего срочного. Приехал по другому делу и решил поговорить с вами. – Лунич провел ладонью по лицу. – Честно говоря, даже не знаю, чего меня сюда занесло. – Он то еще сильнее пьянел, то вдруг трезвел. – Скажите, а за что вас сюда посадили?
– Неужели не знаете? Я попросил, чтобы больную арестантку выпустили из карцера. А господин Милов на мои слова о возможной забастовке арестантов обозвал арестантку грязным словом. Я обругал его. Дать пощечину, к сожалению, не успел.
– Милов не дворянского происхождения, – сказал Лунич.
– Вы в самом деле верите в эту чепуху? Или вам неизвестно, что никого так не почитают в простом народе, как мать, как вообще женщину.
Разговор не налаживался.
Лунич оглянулся на дверь и пробормотал:
– Не люблю театра. Мое появление здесь словно из плохой пьесы.
– Почему обязательно плохой? У Шекспира в трагедиях тюремщики тоже приходят в башню поговорить с арестантом. Поговорят, даже сочувствие выразят и велят вести арестанта на плаху, сославшись на историческую необходимость.
Сознание Лунича снова затянулось пьяной пеленой. Кецховели прав, издеваясь над ним. Как бы он сам на его месте отнесся к приходу жандармского следователя? Кецховели и не подозревает, как у следователя муторно на душе, не хочет – и правильно делает, что не хочет, – замечать, как он расстроен, как ему тяжело от всего случившегося с ним, и от одиночества, и вообще от всей этой клоаки, называемой жизнью.
Он посмотрел в глаза Кецховели и вдруг сказал;
– Дважды за эти дни меня чуть не убили. А сегодня я потерял сына…
Кецховели поднял кружку надо ртом, поймал несколько капель воды.
– У меня не было сына, но я вас понимаю. Что с ним случилось?
Лунич увидел, что в глазах его появилось сочувствие. Словно обрадовавшись, он стал торопливо, захлебываясь словами, рассказывать о том, что случилось с ним в эти дни, одновременно досадуя на себя за сбою пьяную болтливость.
Он замолк. Ладо поджал колени ж оперся о них головой, обхватив ноги руками.
Лунич протрезвел. Заставив себя усмехнуться, он неловко сказал:
– Видите, я вам исповедовался, как священнику.
Ладо молчал.
Лунич спросил вполголоса, почти шепотом:
– Почему вы как-то задавали вопрос, не участвовал ли я в карательной экспедиции?
– Когда я был мальчиком, при мне казаки запороли насмерть одного старика, сказочника. У офицера было сходство с вами. По-моему, вы меня уже спрашивали об этом.
– Запамятовал, видимо. Лунич облегченно вздохнул.
В дверь просунулась голова унтера.
– Звали, ваше благородие?
– Нет. Прикрой дверь.
Стало душно, и от духоты голова Лунича снова отяжелела. Он спросил:
– Скажите, а возмездие существует?
Ладо посмотрел на него. У трезвого язык, конечно, так не развязался бы. Лунича грызет какая-то боль, и не только от того, что любовница не пожелала оставить ребенка, а парикмахер чуть не перерезал ему горло. Лунича мучает нечто более глубокое. Надо дослушать этого человека, не думая о том, что он один из его преследователей.
Ладо спросил:
– Какое возмездие вы имеете в виду?
– Бог ли, судьба, рок – какая разница, – пробормотал Лунич. – Допустим, понесла лошадь, на дороге человек, какой-то мальчишка, вы могли направить лошадь в сторону, почему-то не сделали этого, и смяли этого мальчишку, может быть, лошадь даже убила его. Я придумываю… Так вот: может ли потом, много лет спустя, из-за этого погибнуть ваш близкий?
– Сын, допустим, – сказал Кецховели.
– Сын или дочь, или сестра, я вообще говорю, я ведь не о себе.
Ладо подумал, что прийти сюда, в карцер, пьяным и затеять, с арестантом такой разговор могли заставить Лунича муки совести. Совесть просыпается рано или поздно. Кажется, Енукидзе рассказывал, что сосед его, всеми уважаемый старик, умирая, кричал на всю улицу: – Уберите! Кровь, кровь! Простите! – Оказалось, что старик в молодости служил где-то в Сибири, в остроге для политических арестантов. Но Лунич не просто освобождает душу от грехов, он добивается какого-то ответа.
– Вы в самом деле хотите, чтобы я ответил вам? – спросил Ладо.
– Да. Я пьян, но все понимаю.
– Тогда скажите мне, почему вы решили, что у вашей возлюбленной должен был родиться именно ваш ребенок? Почему не ее? Почему не общий?
Лунич пожал плечами.
– Вы не поняли моего вопроса, – сказал Ладо. – Если бы вы любили женщину, которая понесла от вас, она родила бы. И в будущем ребенке вы тоже хотели полюбить только себя…
Лунич сделал движение рукой.
– Не я пришел к вам, а вы ко мне, – сказал Ладо, – вы в своих мыслях о себе, кажется, забыли, что я в карцере, в тюрьме, а вы один из тех, кто тщится, чтобы я просидел здесь как можно дольше, а то и остался навсегда. Хотите меня дослушать?
– Вы правы, я сам навязался. Говорите, я дослушаю до конца.
– Вы не любите людей. К сожалению, вы не единственный, кто людей не любит. Но земля ведь не необитаемый остров. Живя с людьми, надо выбирать – за них вы или против. Вы избрали второе, вы служите тем, кто грабит и порабощает народ, служите старательно, по убеждению, и когда люди протестуют, сажаете их в тюрьму, мучаете и убиваете, называя убийство службой отечеству… Подождите, а сказал еще не все.
Лунич протянул руку и толкнул дверь. По глазам его Ладо увидел, что он почти совсем протрезвел.
– Вы спросили о возмездии, налагая, что оно пришло к вам, когда ваша возлюбленная избавилась от ребенка. Вы ошибаетесь – вы убили обоих – и того, кого сбили конем, и своего, еще не родившегося. Ваши мысли о возмездии не случайны. Вы боитесь, очень боитесь. Вы начали, понимать, что защищаете то, что отомрет, а во мне видите представителя тех, кто вас уничтожат. Вы ощущаете приближение перемен и ищете не утешения, а спасения, оправдания перед судом будущего. Вы, по-моему, готовы даже на приговор: «Виновен, но заслуживает снисхождения», и рассчитываете, что о снисхождении скажу вам я.
– Я говорил, с вами, как человек с человеком, – сдавленно произнес Лунич, – а вы говорите, как революционер с жандармам..
– Я сказал вам то, что думаю, В конце концов, каждый человек сам себе судья, и высший суд – это суд твоей собственной совести.
– Мне казалось, что вы добрее.
– Очень жаль, что вы так ничего и не поняли, – сказал Ладо, – вы получили от меня сегодня «добро» по высшей мере. Вы не понимаете языка, на котором я говорю.
– Я все понимаю, я не пьян… Могу попросить вас об одной, услуге – никому не передавать содержание нашего разговора?
– Немедленно напишу начальнику жандармского управления.
Лунич чуть не задохнулся. Его били, как мальчишку.
– Вы угадали, господин Кецховали, кто на вас доносит?
– Доносит?
– Помните, я вам говорил?
– Не помню.
«Что ты за человек такой, – с ненавистью и с уважением подумал Лунич, – я по сравнению с тобой мелок и мерзок».
Он встал и, сделав над собой усилие, спросил:
– Чем я могу быть вам полезен? Скажите, я постараюсь исполнить.
Ладо подумал секунду и мягко произнес!
– Прикажите, чтобы мне принесли еще воды.
Лунич шумно выдохнул и скривил губы. Еще немного, и он застрелит этого человека, который все видит и все понимает.
– Я хочу спросить вас. Вы подали прошение, чтобы вас выслали в отдаленные места, не дожидаясь решения суда. Несколько необычная просьба. Чем вы ее можете объяснить?
– Моя камера по сравнению с карцером кажется мне сейчас очень приятной. А ссылка, на мой взгляд, значительно лучше камеры.
– Побольше возможности сбежать и снова бросать бомбы, убивать?
– Я не сторонник террора. Это убеждение, к которому я давно пришел.
– Как вас понять? Вы что, отказываетесь от борьбы?
– Борьба с теми, кто не дает народу дышать свободно, – святое дело, а святыню не попирают ногами.
Глупо было ожидать другого ответа на такие вопросы. Лунич деланно усмехнулся и вышел из карцера.
Унтер-офицер и надзиратель о чем-то лениво переговаривались. Лунич протянул надзирателю кувшин. Разве можно было приезжать сюда!
Во дворе замка Лунич наткнулся на полковника Габаева. Возле него стояли начальник караула и разводящий унтер-офицер.
– Закончили, ротмистр? – спросил Габаев. – Как операция прошла, успешно? Долго вы что-то.
– Повозиться пришлось, – сквозь зубы ответил Лунич.
– Вы что-то не в настроении.
– Этому Кецховели одна дорога – на виселицу, и чем скорее, тем лучше!
Габаев повернулся к начальнику караула.
– Пусть часовые не ловят ворон, а следят за окнами. Слышали, что сказал его благородие? – Габаев покосился на Лунича. – Вбейте солдатам в голову, что за излишнее усердие не наказывают. Поехали, ротмистр?
Лунич направился к коляске. Он немного остыл после разговора с Кецховели и рассуждал теперь вполне трезво. Такого человека нельзя выпускать из тюрьмы. С его отношением к людям, с его самоотреченностью и с его пониманием добра он способен увлечь за собой кого угодно. Надо помешать отправке Кецховели в Сибирь, написать завтра же полковнику Ковалевскому о своих соображениях по этому поводу.
– Не завидую вашей службе, – сказал Габаев, – вид у вас, доложу я вам… Скажите, ротмистр, а лупить их вам самому приходится или для этого имеете специальных людей?
– При ведении следствия законом запрещаются принудительные меры получения признания.
– Законы я знаю… Мне лично моя служба осточертела, жду не дождусь отставки. Как было бы хорошо жить, если б народ не бунтовал. Признаться, я с тревогой смотрю в будущее. Не за себя беспокоюсь, за детей. Иной раз так хочется обо всем позабыть.
– Давайте в самом деле забудемся, приглашаю вас в Ортачальские сады. Разумеется, я плачу за все, и за женщин тоже.
– Не знал, что вы любитель. Поедем! Но с условием – в воскресенье вы будете моим гостем.
НАЧАЛЬНИКУ ТИФЛИССКОГО
ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
10 августа 1903 г.
Обвиняемый Владимир Кецховели в числе прочего, изложенного в донесении в Департамент полиции от 31 мая 1903 г. за № 3105, произведенным дознанием изобличен в том, что был главным организатором тайной типографии, печатавшей почти все прокламации и другие революционные издания, распространявшиеся до ареста Кецховели, т. е. до сентября 1902 г., в разное время в районах Тифлисской, Кутаисской и Бакинской губерний… Прокламации к тому же, как установлено, имели самое широкое распространение среди войск, маневрировавших под г. Тифлисом и собранных сюда в числе почти ста тысяч человек для смотра высочайших особ, бывшего в конце сентября 1901 г. по случаю празднования столетнего юбилея присоединения Грузии к России…
Кецховели, благодаря своим обширным революционным связям и знакомствам под чужими фамилиями и с подложными паспортами, во время розыска его, сумел совершенно безнаказанно несколько раз переезжать русскую границу и скрытно прожить в течение указанного промежутка времени в таких сравнительно больших центрах, как Тифлис и Баку, и сорганизовать такое сложное и рискованное предприятие, как тайную типографию, функционировавшую в течение почти двух лет, часть коей к тому же до сих пор так и осталась необнаруженной… Донося вышеизложенное, имею честь доложить, что хотя предварительная высылка Кецховели в одну из отдаленнейших местностей и желательна, но было бы полезно ввиду доказанных дознанием серьезности и значения Кецховели для революционного движения, – чтобы против Кецховели были бы приняты какие-либо особые меры, так как Кецховели, получив свободу, при первой же возможности сбежит за границу и в будущем по своим крайним убеждениям, наверное, принесет много зла…