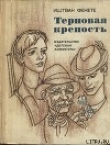Текст книги "Выстрел в Метехи. Повесть о Ладо Кецховели"
Автор книги: Михаил Лохвицкий (Аджук-Гирей)
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Красин
– М-да, – вслух сказал Красин, – час от часу не легче.
Он открыл окно и задумался.
Вдали темнели стены Баиловской тюрьмы. Привезли туда Кецховели или еще держат в полицейском участке? Второго такого гениального организатора подпольных типографий днем с огнем не сыщешь. До чего находчив и сообразителен! История с приобретением большой машины у Промышлянского была поистине гениальна. Мало было тайно изготовить в Тифлисе фальшивый бланк бакинского губернатора, мало было подделать губернаторскую подпись, но придумать снять с фальшивки нотариальную копию и получить подлинный документ! Кто еще додумался бы до этого?.. Типография, если Енукидзе и наборщику повезет, уцелеет. Как бы узнать, что обнаружили при обыске у Кецховели? Если у него были адреса, надо срочно об этом сообщить. Хорошо хоть, что шифр заменен. «Корабль одинокий несется, несется на всех парусах…»
Провалы в революционной работе неизбежны, но самопожертвование Кецховели… Надо было все же подумать о деле, о себе. Впрочем, не вам, глубокоуважаемый Леонид Борисович, главному инженеру «Электросилы» и тайному эсдеку, рассуждать о поступке Кецховели. Не вы ли, совершенно забыв о деле – и о том, и о другом, забыв о себе, когда на промыслах произошла у берега моря авария и стали гибнуть рабочие, не вы ли бросились в волны спасать незнакомых людей? Гм… Что на барометре? Давление падает. Паршивый климат! Пожалуй, единственная возможность узнать детали обыска – сделать визит к губернатору Одинцову. У него будет Порошин, он хвастун, выболтает.
Красин вдруг затосковал по прохладе, по грибной влажности леса, по хрусту первой наледи на траве. Так было, когда он и Люба вышли из березняка и увидели плотного старика с широким носом, бородищей и острыми глазами под нависшими бровями. Графа Льва Николаевича Толстого знала вся Россия. Красин приложил руку к козырьку, Люба поклонилась. Толстой ответил, остановился. – Разрешите погулять с вами, молодые люди? – С превеликим удовольствием, Лев Николаевич. – Ум в ваших глазах и интеллигентное лицо, молодой человек, не вяжутся с унтер-офицерскими погонами. – Я студент-технолог, Лев Николаевич, сидел в тюрьме, а теперь… – Понимаю, участие в студенческом кружке, революционные идеи. – Толстой вздохнул. Красин, волнуясь, начал излагать свои взгляды: – Ведь окружающий нас мир и вся история человечества вроде периодической системы Менделеева, по которой можно предвидеть существование новых, еще не открытых элементов и предсказать с точностью их свойства. Сравнение, разумеется, приблизительное, но все же можно с уверенностью сказать: Маркс, подобно Менделееву, открыл систему, вывел научные законы развития капитализма, и на основании этой системы можно предсказать будущую революцию со всеми ее свойствами, неизбежное преобразование плохо организованного общества в общество разума. – Толстой нахмурился. – Революция, – буркнул он, – революция – это насилие! – Благостное насилие! – воскликнул Красин. – В новом мире, а он будет стройным, совершенным, построенным на основе законов, выведенных наукой, не станет места злу, происходящему от социальной несправедливости, от свойств характера отдельной личности. Я учусь в Технологическом институте, чтобы в мире будущего, в царстве разума создавать электрические станции. Электричество преобразует труд, природу, человека, принесет ему счастье. – Толстой ядовито усмехнулся и перебил: – Надо думать не о революции, не о насилии, а о спасении души человека, о нравственном усовершенствовании личности. Ваши слова о благостном насилии – солдафонские рассуждения. Небось пошли в полк, чтобы научиться стрелять в человека? – Толстой затопал ногами и, резко повернувшись, быстро пошел обратно.
Красин вздохнул. Каким он был тогда мальчишкой!
Толстой на другой день отыскал его в полку, извинился за грубость и попросил передать свои извинения Любе. – Лев Николаевич, – спросил он у Толстого, – а как вы, утверждая непротивление злу насилием, обратились с письмом в газеты во время голода? – За несколько лет до этого, во время повального голода, Толстой поехал на два года в Данковский уезд, создавал столовые, собирал средства для помощи голодающим и написал резкую статью о причинах бедственной нищеты крестьян. Статью не напечатали, и Толстой переслал ее за границу. Весь мир читал его статью, император поспешил заявить: «В России нет голода, а есть местности, пострадавшие от неурожая». «Московские ведомости» обвинили Толстого в пропаганде против правительства, Комитет министров хотел лишить Толстого российского подданства и выслать за границу, а брат царя, великий князь Сергей, смягчившись, предложил, чтобы Толстой опубликовал в русских газетах письмо, в котором отказался бы от статьи, назвал бы ее фальшивкой. Толстой подтвердил в письме в газеты свое авторство. Выслушав вопрос Красина, Толстой кашлянул, усмехнулся в бороду, но так и не ответил.
В прошлом году, когда Толстого отлучили от церкви, Красин рассказал о своей встрече с Толстым Кецховели. – Упорный старик, – сказал Кецховели, – храбрец, в одиночку воюет с царем, с церковью, со всем государством. У нас Илья Чавчавадзе такой – соглашаешься с его взглядами или не соглашаешься, все равно восхищаешься им.
Красин оделся, умылся, посмотрел в окно на тюрьму и пошел завтракать.
Днем он с головой ушел в работу, а вечером поехал к Одинцову, Порошин был там, и оба – и губернатор, и начальник жандармского управления – не удержались, чтобы не поделиться с Красиным чрезвычайной новостью – задержали опаснейшего эсдека, которого полиция отыскивала много лет. Красин выведал, что Кецховели в тюрьме и, по всей вероятности, его скоро отправят в Тифлис и что у него обнаружили несколько паспортных книжек и какие-то зашифрованные адреса.
Одинцов подвел к Красину красивого господина и представил инженера Костровского, приехавшего из Петербурга. Костровский тоже, оказывается, учился в Технологическом институте.
– Думаю наладить нефтедобычу, а то добывают нефть варварски.
Они поболтали. Нашлись общие знакомые по институту. Костровский спросил:
– Вы, кажется, по делу брусневцев привлекались?
– Да.
– А теперь? – спросил Костровский.
– Теперь занимаюсь электричеством. Костровский чем-то не понравился Красину. Дамы попросили Красина сесть к роялю, потом был ужин, за которым, как всегда, Красин развлекал общество остроумными анекдотами. Одинцов предложил тост за Порошина.
После ужина разговор оживился. Одна из дам, жена нефтепромышленника, вспомнила о своем вояже в Испанию, а муж ее заявил, что теперь, после того, как утихли страсти вокруг испано-американской войны, надо съездить на Кубу и на Филиппины, говорят, что женщины там – антик!
– А разве там была война? – спросила его жена. – Я и не знала.
Раздался общий хохот. Красин наконец уяснил, чем ему не понравился Костровский, – когда он смеялся, открытое лицо его искажалось и становилось злым. Кецховели как-то сказал: «Если жандарм хорошо смеется, не все потеряно, с ним еще можно столковаться». Хоть бы Кецховели оставили в Баку, тогда удастся, быть может, кое-что предпринять, организовать ему побег.
За столом говорили уже о Китае. Одинцов заявил, что позиции России на Дальнем Востоке и в Азии будут, без сомнения, крепнуть и крепнуть. Русский солдат твердо стоит в Порт-Артуре и в Дальнем.
– Нас, однако, – сказал Костровский, – потеснили в Корее, мы ведь были вынуждены под напором японцев закрыть там банк.
– Чепуха, – возразил Порошин, – мы свое возьмем.
«Идиоты бывают разные, – подумал Красин. – Неужели им ничего не говорит договор Японии с Англией и то, что янки поддерживают японцев, неужели они не замечают, как германские дипломаты водят наших за нос? Скорее всего, будет война…»
Красин встал и откланялся, сославшись на то, что устал и ему надо ехать в Баилов.
Домой Красин возвращался на извозчике. Вдали шумел прибой. Дул сухой ветер, и луну закрыло облаками. В груди снова защемило. Неужели сердце стало шалить? Никогда еще оно не давало знать о себе.
Копыта лошади мягко постукивали по пыльной дороге. Изредка подкова ударялась о камень, и в темноте рассыпались белые искры. Завтра, наверное, ветра не будет…
Подъехали к электрической станции. Красин решил прогуляться возле дома.
Ему вдруг стало тоскливо, как бывало редко. Многие считают его более чем сдержанным, даже рассудочным человеком. Знали бы, какие вихри иной раз носятся в нем, побуждая броситься в нарастающие события! Да, впереди многие перемены, войны и потрясения…
От тюрьмы донесся крик часового. Красин глубоко вздохнул, махнул рукой и отправился домой – дел у него завтра хоть отбавляй.
Взгляд из Ваиловской тюрьмы
Камера Ладо выходит в тюремный двор. По другой стороне тянется на желтой стене длинный ряд черных окон.
Ладо стоит у решетки.
Светает. Рассвет начинается с моря, которого за другим крылом тюрьмы не видно. Море угадывается, потому что облака, отражающие воду, подернуты бледной зеленью. Ночью шумел прибой, сейчас все стихло.
Арестанты спят. Политических, кроме Ладо, нет. Нет по букве закона. Но разве не окрашено политикой почти каждое преступление, совершаемое в государстве? За теми окнами спит татарин, который, защищаясь от побоев мастера-бельгийца, переломил ему кулаком переносицу. В одной камере с татарином – дети промысловиков. Они влезли в кухню ресторана, впервые за долгое время поели до сыта и заснули; разбудил их околоточный надзиратель. По соседству ждет суда рабочий – токарь. Инженер завода Ротшильда нанял в прислуги сестру токаря, принудил ее к сожительству и выгнал на улицу, когда она забеременела. Токарь ударил инженера сверлом. Старик-надзиратель, принимая Ладо, прошамкал беззубым ртом: «Ведуть вас, горемычных, и ведуть, уже и места живого нет, а конца-краю не видно, надоть новые тюрьмы закладывать». Чем неблагополучней в государстве, тем больше строится тюрем.
Вторую ночь плохо спится. От Авеля ни весточки, а ведь в Баиловке у него должны быть знакомые надзиратели – он просидел здесь целый месяц. Все ли с ним и с Вано благополучно? Какие глаза были у Авеля, когда он услышал, что Ладо хочет назвать себя! Авель не понимал, что другого выхода у Ладо не было – только открывшись жандармам, удалось бы спасти людей. Авель не представлял себе, как опасно все может обернуться для Виктора. «Нину», разумеется, искали давно, и на Бакрадзе – единственного человека, захваченного со шрифтом, взвалили бы всю ответственность за создание типографии. А для полноты картины, показывая свое рвение и свои успехи, жандармы могли присоединить к Виктору как сообщников и Дмитрия, и Евсея Георгобиани, и даже машиниста Циклаури. – Ах, вы уверяете, что вам ничего не известно? – издевательски спросил бы Порошин. – Однако, упорно вы запираетесь. – Всякое отрицание, даже идущее от правды, наводит жандармов на еще большие подозрения, и они искренне сочли бы арестованных политическими преступниками. Виктору грозила каторга, а к чему присудили бы остальных, бог весть. Но ведь ни один из них понятия не имел о «Нине», не знал, кто такой Датико. Разве должны были Виктор и другие безвинные люди отвечать за Ладо, сидеть в тюрьме, в то время как он разгуливал бы на свободе? Все, что угодно, – только не это!
Солнце быстро поднимается, и первый луч стремительно влетает в окно, ослепив Ладо.
Здравствуй, солнышко!
Ладо закрывает лицо руками, дает глазам привыкнуть, и, прищурившись, смотрит на другой флигель, там еще спят. Пусть поспят, во сне они на свободе. Он снова ходит по камере, теперь уже из угла в угол. Нет хуже однообразия, бесконечного повторения, хождения по одной-единственной тропе. Но в тюрьме на лучшее рассчитывать не приходится.
Какую нелепицу допустил Авель, когда ввалился в квартиру, занятую жандармами! Наверное, узнав, что не только Ладо, но и Вано там, он решил: раз все рухнуло, разделю общую участь. Славный человечище Авель, на такое решаются только с отчаяния! Ладо был уверен, что, заполучив его, Порошин и Вальтер отпустят Виктора, не тронут Дмитрия и Евсея, он надеялся и на глупость жандармов, но того, что Порошин и Вальтер оставят на свободе даже знакомого им Енукидзе, не сумел бы предугадать никто. Как говорит с амвона своей маленькой деревенской церкви отец Ладо – есть жертвы, угодные богу, и всевышний, принимая их, отводит глаза нечестивым. Ладо рассмеялся.
От решетки протягиваются тени, разбивая каменный пол на неровные прямоугольники. Нет, не прямоугольники, как-то иначе… Совсем семинарская наука вылетела из головы. А, трапеции! Ладо ходит, перешагивая из трапеции в трапецию. Если бы можно было подняться на стену и зашагать по ней, потом пройтись по потолку… Что за стеной? Камера. За ней еще, и еще камеры, потом двор, высокая стена с вышкой – на вышке часовой, и оттуда видна строящаяся электростанция. Там, у входа в контору, прогуливается сторож Георгий Дандуров. Смуглый, страшноватый на вид, в бешмете и в папахе, надвинутой на брови, он ловко прикидывается диким горцем, который чуть что – и за кинжал. Ни одному филеру не удалось пройти мимо него незамеченным. Георгий, бывший кучер тифлисской конки, увидев в Баку Ладо, сразу узнал его, спросил: – Первую стачку нашу помнишь? Уй, как меня били! По ребрам, сапогами… – Глаза Георгия налились кровью. Ладо судорожно сгреб его и прижал к себе. – Ничего, – пробормотал Георгий, – ничего. – Везение требуется, чтобы люди приходились друг другу по нраву, так, как здесь, в Баку, чтобы между ними не пролегала все углубляющаяся пропасть разногласий. Ни разный возраст, ни различие в характерах не разъединяли членов бакинского комитета. Спорили много, но не о цели, не о методе, спорили о практических действиях. – Да нет же, друзья, нет, – энергично утверждал Кнунянц, отбывавший в Баку ссылку, – наша работа должна быть направлена только на рабочих. – Хе-хе, – посмеивался, поблескивая стеклами очков, доктор Файнберг. – Только? Это узость! Не только, а прежде всего. Совсем забывать о кустарях, оставлять без всякого внимания мужиков нельзя, – Верно! – перебивал его сухонький, с острым подбородком и острыми локтями, напоминающий рассерженного ежа, Эйзенбет. – Не игнорировать всю трудящуюся массу из-за промысловиков и заводских рабочих! Пробуждать весь, весь пролетариат! – И не только пролетариат, – спокойно произносил Красин. – В политической борьбе, я подчеркиваю, политической, рядом с пролетариатом в его борьбе с абсолютизмом, как мы видим, становятся все группы общества, и это следует учитывать; временные союзы могут заключаться с любыми оппозиционерами. – Если временные, согласен, – заявлял Енукидзе, – а вообще гусь свинье не товарищ. – Устами рабочего класса глаголет истина, – подводил итог Ладо. Перехватив его взгляд, Файнберг укоризненно покачивал головой. – Милый Ладо, не смотрите вы так влюбленно на этих злостных заговорщиков, уверяю вас: все мы, особенно ваш покорный слуга, гораздо хуже, чем вы о нас думаете.
Брат Нико тоже сказал бы: – Опять идеализируешь человечество? Возможно, что у Ладо есть такой грех, но лучше быть идеалистом-грешником, чем несчастным, который в каждом встречном прежде всего замечает дурное. Когда о знакомом человеке говорят, что у него огромный горбатый нос, Ладо всегда хочется поправить: «Нос с горбинкой», хотя это не мешает ему замечать в приятелях смешное и рисовать на них шаржи. Однако на такого, как Порошин, шарж получился бы далеко не добродушным, а острым и злым. Порисовать бы в самом деле!
Ладо тщательно осматривает стены, не отломится ли где-нибудь кусок штукатурки? Вот досада, и гвоздя неоткуда вытащить. Не думалось, что ему уготована именно Баиловка. Когда изредка представлялась тюрьма, она бывала или тифлисским Метехским замком или каким-то неизвестным сибирским острогом. Французских революционеров ссылали на далекие тропические острова, и крышей, стенами тюрьмы для них становились звездное небо и просторы океана. Кто знает, что более гнетет – клеть тюрьмы или сама природа, превращенная в каторгу. Тяжелее всего неподвижность, на которую обречен человек за решеткой, особенно если он легок на ногу. Пожалуй, представ пред очи всевышнего, на вопрос: «В чем ты наиболее грешен, человече?» Ладо ответил бы: «Люблю людей и движение».
Он остановился у окна. Небо над тюрьмой жаркое, словно его заливает желтым расплавленным металлом. Такое знакомое желтое небо.
…Ни кустика, только пески, скалы в трещинах и ослепительно белое, словно кипящее море. Занесло же Ладо в такую пустыню! Губы потрескались, на лбу и щеках соленые лишаи, высохший пот и пыль. В Тебризе какой-то человек взялся создать перевалочный пункт для переброски литературы из Мюнхена в Закавказье. Помочь обещали армянские эсдеки. Не использовать ли, помимо других, древние караванные пути, может быть, и контрабандистские шхуны, не наладить ли самому знакомства на персидской границе? Несколько дней Ладо лазил по приграничным трущобам, пытаясь найти общий язык с чабанами, крестьянами. Пограничная стража искала контрабандистов, контрабандисты подозревали в каждом чужаке агента стражи, крестьяне не хотели знаться ни с теми, ни с другими. Чтобы дать привыкнуть к себе, надо было пожить подольше, подождать появления кого-либо из армянских социал-демократов, но времени не было, без Ладо типография остановилась бы. Пришлось уносить подобру-поздорову ноги, заметать следы. Уже вблизи Баку, спасаясь от назойливого интереса встреченного случайно охотника, Ладо, когда охотник спал, ушел к берегу моря и наутро угодил в пустыню, где ни воды, ни тени, где от камней шел такой же запах, как после удара кресалом по кремню, и казалось, вот-вот от скал посыпятся искры и все окрест заполыхает ярким оранжевым пламенем. Разумнее было залечь в какой-нибудь пещере, а ночью двинуться дальше. Но в каждой щели прятались от зноя скорпионы и змеи. Еще разумнее повернуть обратно, охотник уже позабыл о нем, ушел, но повернуть – значило потерять дня два. Идти вперед, напрямик! В кармане у Ладо лежала дудка, подарок курда-чабана. Присев перевести дух, Ладо, чтобы рассеяться, посвистел на дудке. Из-за камня растянутой кверху пружиной вдруг поднялась гюрза, от укуса которой почти нет спасения, и танцовщицей-персианкой заколыхалась в дрожащем сухом воздухе. Не сводя с гюрзы глаз, Ладо медленно поднялся и стал пятиться, то и дело оглядываясь, чтобы не наступить на какую-нибудь другую змею. На почтительном расстоянии он перестал играть на дудке, и витки змеиного тела, плавно разворачиваясь, упали на землю. Ладо повернулся, прибавил шаг и, чтобы прийти в себя и освежиться, прямо в одежде бросился в горячее, но все-таки мокрое море. Потом он снова шел в сторону Баку, думая о непостижимости и загадочности всего сущего, вспоминал мифических сирен, приманивавших своим пением кормчих кораблей, читал вслух звучные греческие стихи, думал о том, сколько голосов зовет к себе человека, сманивая его с прямого, избранного им пути, и ощущал, как распухший от жажды язык не вмещается во рту. Краснеющие пески начинали плыть перед воспаленными глазами, но он все равно тел, падал и снова шел, пока не очнулся под тенью гюль-эбрешима – шелковой акации: чья-то рука вливала ему в рот прохладную воду из глиняного кувшина…
Другой бы счел пережитое уроком, подсказкой судьбы: угомонись хоть немного, не каждый груз взваливай на свои плечи, есть у тебя свои обязанности, есть «Нина», занимайся ею, и хватит, ты ведь понимаешь, что в серьезно законспирированной организации обязанности четко распределяются, у каждого – своя узкая специальность, не случайно ведь было решено, что ты будешь заниматься только типографией. Он понимал – так должно быть, но ведь людей не хватало, возникали все новые и новые дела, с которыми, ей-ей, он управлялся лучше других. Что не удалось ему тогда на персидской границе, не удалось бы и другому, а от неудач никто не застрахован. Впрочем, можно ли считать эту первую пробу неудачей? Ведь при следующей поездке, вместе с Авелем, им все же удалось договориться с контрабандистами, и литературу от границы стали привозить на лошадях. Если уж честно каяться в грехах, надо смиренно согласиться: горбатого одна лишь могила исправит. Сколько раз пытались повернуть его на свой лад, сбить с пути, пели ему не только сладкозвучными голосами сирен, но даже и грубыми голосами рабочих…
Они приехали в Баку специально для встречи с ним, на деньги Тифлисского комитета, чтобы отговорить выпускать нелегальную «Брдзолу». Те, кто послал их, были уверены: никого Ладо не выслушает так внимательно, как рабочих Главных железнодорожных мастерских, наборщиков типографий Хеладзе и Шарадзе, тифлисских табачников и ткачей. И Ладо знал, что послали к нему рабочих один из вожаков комитета Джибладзе и редактор газеты «Квали» Ной Жордания, люди умные, но все более расходящиеся с революционными эсдеками. – Говорят: непрошенный гость, что в горле кость, – начал один из рабочих, Аракел, – но ты должен нас внимательно выслушать. – Ладо улыбнулся, тоже ответил пословицей: – Что в лицо сказано, со злом не связано. – Слушая рабочих, Ладо не перебивал, давая им выговориться, и думал. Думал о том, что пока еще несложно повернуть рабочих в свою сторону, о том, что Жордания боится – нелегальная газета отобьет читателей у легальной «Квали», о том, что Джибладзе отказался дать деньги на создание «Нины», но не пожалел денег на дорогу стольким людям, и отбрасывал все, о чем думал, потому что мысли эти были поверхностными и не существенными, а существенно и важно то, что за всем этим – вопрос о двух путях борьбы, о будущем всего народа. – Для чего нам нелегальная газета, Ладо? Объясни. Есть же «Квали», мы ее читаем, любим. На новую газету нужны средства. Где ты возьмешь деньги? Опять собирать у мастеровых? А сколько сил уйдет на новую газету! А как трудно будет ее распространять! Легальную газету каждый может купить, ее читают десятки тысяч, а нелегальную прочтут всего сотни… Печатаешь брошюры? Хорошо! Прокламации? Очень хорошо! Ничего больше не надо. Пойми, Ладо, ты разделишь нас, никто не будет знать, что читать, кому верить… Большой вред принесешь рабочему делу, очень большой! – Рабочие курили и он курил табак, который они привезли с собой, рабочие смолкли, думали, и он молчал и думал вместе с ними, рабочие иногда спорили между собой, и он мысленно становился то одним спорщиком, то другим, и когда они совсем выговорились, ему показалось, что не они ему доказывали свое, а он пытался доказать самому себе правильность их точки зрения. – Ты молчишь, – спросил кто-то, – значит, согласен? – Нет, – сказал Ладо, – нет! – Он достал из кармана «Квали» и «Искру». – Хоть и говорится: хороша веревка длинная, а речь короткая, я буду говорить длинно. Вот две газеты – легальная грузинская и нелегальная на русском языке. Я прочту сообщения с мест оттуда и отсюда. – Он прочитал корреспонденцию из «Квали», потом, переводя на грузинский, – из «Искры». – Почему так по-разному говорится об одном и том же? Как ты думаешь, Аракел? – Аракел наморщил лоб, подумал и сказал: – Цензура запретила «Квали». – Верно. А теперь скажи, почему ты считаешь, что русскому рабочему можно получать полную правду, а тебе, грузину, и полправды достаточно? Я, мол, прочитаю, что правительство позволит, а настоящей правды, которая будет в «Брдзоле», не хочу! Так? – Аракел потер рукой лоб и ухмыльнулся. – Крепко ты меня поддел. – Остальные недружно засмеялись. – Ишь, не изменился Ладо, пальца в рот не клади… Ну, ну, друг, шпарь дальше, посмотрим, что ты еще скажешь. – Ладо посмотрел поочередно на каждого. Такие, как Аракел, читали книги, другие были малограмотны, но житейская смекалка и здравый смысл сделали их умудренными. И Ладо сказал, чтобы понять мог каждый, так, как говорят о своем и очень личном: – Я не хочу брать в руки нож, ружье и убивать. А Жордания говорит, что я только к этому и рвусь. Мы думаем и твердим одно – у правителей надо отобрать все, что они награбили у народа. Но Жордания говорит мне: Ладо, не будем спешить, понемногу, постепенно. потесним правительство, отнимем стул у одного министра, и на это место сяду я, на другое посадим тебя, на третье – Аракела. Я не соглашаюсь: – Нет, ты забываешь о том, что если даже правительство и уступит три стула для тебя, меня и Аракела, то завтра оно снова выдернет из-под нас стулья, особенно когда мы начнем спорить с ним. Так мы ничего не добьемся. – Ной говорит: – Добьемся, Ладо, вот увидишь. Ты же заметил, как под напором легальных газет и общества правительство уступило, разрешило рабочим бастовать. – А ты не заметил, – спрашиваю Ноя, – что правительство распространило «Правила об усиленной охране» на большие города? А по этому закону жандармы и полиция могут арестовывать и сажать в тюрьму зачинщиков и участников стачки. У правительства всегда будет возможность отобрать права, которые получит народ, а вместе с правами и плоды его труда. Так же, как с «Квали». Сегодня цензура, а цензура – это одна из рук правительства, разрешит напечатать статью о бедственном – положении тифлисских ткачей, а завтра не разрешит, и Ной только слезы утрет. А в нелегальной «Брдзоле» никто никогда и ничего не запретит. Что хотим, то и напечатаем, что вы напишете, то, даю слово, в газете и появится. В ней будет только правда! Что вы на это скажете? Первым нарушил молчание Аракел: – Я скажу так: не зря мы к тебе ехали, потому что нас больше стало. За одного, битого ведь двух небитых дают.
Может быть, самое лучшее из всего, что было в тот день, – это общий согласный хохот…
В окнах напротив появляются арестанты. Слышится свист – бывший рыбак Ахмед подзывает воробьев. Они слетаются на его свист, прыгают по подоконнику, подбирают хлебные крошки и дружелюбно поглядывают на Ахмеда. Если вместо него в окне покажется другой арестант, воробьи улетают. Ахмеда посадили за вооруженное нападение на купеческую шхуну. Вчера он крикнул: – Эй, политически! Тебя почему так стерегут? Сколько жандармов зарубил? – Революционеры представляются Ахмеду разбойниками на конях, они убивают из засады казаков и жандармов, грабят имения помещиков и раздают добро и красивых княгинь беднякам. Ладо, чтобы не огорчать его, ответил: – Не считал. – Валлах![2]2
Валлах – выражение наивысшего одобрения (турецк.),
[Закрыть] – воскликнул Ахмед.
Увидел бы он, что приходится делать Ладо! Приехать в Тифлис, заглянуть в магазин Гюльназарова, отложить пятьсот листов писчей бумаги «для бланков фирмы» (для прокламаций), зайти в дом Мириманова, на склад Дитятковского товарищества, назваться хозяином типографии Деметрашвили, попросить отгрузить в Баку, до востребования, сто кип нарезанной газетной бумаги (для «Брдзолы»), заказать еще сто кип английской (для печатания «Искры» с лондонских матриц), взять у друзей – типографских рабочих чемодан со шрифтом и приехать в Баку. А до этого? Сколько вечеров он сидел с Авелем, втолковывая ему, как выглядит печатная машина, чтобы тот сделал чертежи, сколько забраковал этих чертежей, наконец, обругал Авеля за бестолковость и повел в типографию Шапошникова. – Мне нужно разместить кое-какие заказы. Какие виды работ вы исполняете?.. Кстати, этот молодой человек интересуется печатным делом, покажите ему, как это происходит. – Пока Авель слушает объяснения, Ладо запускает руку в наборную кассу и незаметно кладет в карман несколько литер – Авель дома измерит их высоту и узнает, какое расстояние должно быть между плитой и барабаном печатной машины. И снова они сидят за чертежами, каждую деталь надо вычертить на отдельном листе, потом порознь объезжают заводы и по одной заказывают детали. Получив готовые детали, собирают машину… Ладо, ликуя, садится за стол и пишет: «Свободное слово, действие, братская любовь – запрещенный плод для многострадального народа… гнусные агенты правительства сеют в обществе взяточничество, страх, разврат…»
– Эй, политически! – кричит Ахмед. – Оглох? Не слышишь, зовут тебя?
Справа за решеткой кто-то машет рукой. Солнце светит с той стороны, слепит глаза, и Ладо не может разобрать, кто там. Голос знакомый… Щурясь, он всматривается, солнце заходит за высокую печную трубу, и Ладо видит Авеля.
Лучше бы месяцами еще ломать голову в догадках, предполагать и отчаиваться, лучше бы ничего не знать до самой смерти, чем увидеть Авеля в тюрьме! Неужто вторично не послушался, снова пришел к жандармам?
На лице Авеля ухмылка во весь рот. Он кричит по-грузински:
– Здорово, Ладо! Как спалось? Мы снова вместе! Нашел чему радоваться! Кажется, никогда еще
Ладо не приходил в такое бешенство, кажется, никогда еще он так не ругался. Вцепившись руками в решетку, он, вне себя, кричит, осыпая Авеля руганью.
Авель что-то говорит, но Ладо не слышит. Он умолк и только смотрит, смотрит с недоумением на улыбающееся лицо Авеля.
– Кто еще в тюрьме? – спрашивает наконец Ладо.
– Виктор и Дмитрий Бакрадзе, а недавно привели Гришу Согорашвиди! – весело кричит Авель.
И Согорашвили? Солнце выходит из-за трубы, снова ослепляет Ладо, и он отходит от окна. Бог с ним, с Авелем, который, кажется, с ума сошел. Ладо смотрит на потолок, на стены, на дверь, обитую железом. Для чего он здесь, если все оказалось напрасным? Для чего сидел в пустой квартире, ожидая жандармов, для чего прислушивался к их разговору, выясняя, что жандармы сделают с Виктором и Дмитрием, и узнав, что их и Вано увезут, назвал себя, и увидел, как Вальтер не поверил, оторопел, потом повернулся к Порошнну и поющим голосом спросил: «А вы знаете, кто на самом деле этот господин, ваше превосходительство?» Для чего Ладо доставил радость тем, кого ненавидел, если ничем не сумел помочь тем, кого любил? Ведь если так, все бессмысленно, все бесполезно!..
– Ладо! Ладо! Авель снова зовет его.
– Говори! – кричит Ладо, подойдя к окну. – Что еще?
– Твоя девушка жива! Хозяин не дал ей выехать, забрал к себе в деревню, сказал – спрячу, никому не отдам, пока брат Давид не вернется!
«Нина» спасена. Так вот почему смеялся Авель!
Надзиратели орут, чтобы они прекратили разговоры. Авель, не обращая на надзирателей внимания, спрашивает:
– Хозяину можно верить?
Можно ли верить Джибраилу? Да, конечно!
– Можно, Авель, он сдержит слово! Где тебя взяли?
Авель исчезает, наверное, его оттащили от окна.
«Нина» уцелела! Ладо скажет жандармам, что сам спрятал ее, и никто, кроме него, не знает, где типография. Виктора и Дмитрия отпустят – вынуждены будут отпустить. Значит, не бессмысленно… Конечно, не бессмысленно! Иначе и быть не могло!
– Эй, политически, – зовет Ахмед. – Ты какой злой! Сагол[3]3
Сагол – одобрительное восклицание.
[Закрыть], как ругался! Правду скажи, сколько жандармов зарубил?