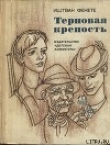Текст книги "Выстрел в Метехи. Повесть о Ладо Кецховели"
Автор книги: Михаил Лохвицкий (Аджук-Гирей)
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
От автора. Старый Тифлис
И вот мы с Варламом в Тбилиси или, как его называли раньше, Тифлисе. Для нас не существует новых районов города, новых названий улиц, новых мостов, театров, мы не замечаем автобусов, троллейбусов и автомобилей…
Мы сели у вокзала в такси, попросили, чтобы шофер ехал помедленнее.
Варлам одет в черкеску. Где он хранил ее до сих пор? И неужели не растолстел со времен своей молодости? Черкеска сидит на нем, как влитая. Варлам очень старается помочь мне во всем, иногда даже немного неуклюже и наивно. Трогательный старик!
Шофер с любопытством поглядывает на Варлама в зеркальце. Варлам замечает это, усмехается и говорит мне:
– Попади ты в своем синтетическом костюме в прошлый век, кучер обязательно спросил бы у меня: откуда это чучело?
Шофер засмеялся. Он уже не молод, гладко выбрит, в белой рубашке с галстуком.
– А ты что, – спросил он у Варлама, – из прошлого века выпрыгнул?
В Тбилиси легко переходят на «ты».
– Прямым ходом оттуда.
– Хе, я же тебя знаю, – сказал шофер, – по телевидению видел. Ты руководитель хора столетних колхозников.
– Ошибся, дорогой, – возразил Варлам, – я не руководитель, а солист. «Мравалжамиер» в моем исполнении слышал?
– Куда ехать?
– Приказывайте, господин, – с улыбкой сказал мне Варлам.
– Поедем по городу.
– Поезжай прямо, потом сверни на Михайловский, то есть на Плехановский проспект, – распорядился Варлам и развалился на сиденье с видом человека, показывающего свой дом, – напомни мне, пожалуйста, насчет года.
– Проедемся по последнему году прошлого века.
– Мчись, Мерани мой, неудержим твой бег и упрям. Размечи мою думу черную всем ветрам! – продекламировал Варлам строки из Бараташвили.
Была поздняя осень, и ветер гнал по мостовой опавшую листву.
Не успели мы проехать квартал, как Варлам схватил меня за руку.
– Видишь человека в шляпе? Шофер, поезжай медленнее.
У самого края тротуара шел небольшого роста худенький человек в пальто с поднятым воротником и в шляпе, надвинутой на самые брови. Руки он держал в карманах.
– Вылитый Саша Цулукидзе, – шепнул мне Варлам.
Словно почувствовав, что мы говорим о нем, человек посмотрел на такси. Глаза у него были черные, как остывшие угли. Так смотрят люди, у которых что-то болит внутри. Он закашлялся, остановился и, когда кашель заглох, свернул за угол.
– Цулукидзе прожил недолго, – сказал Варлам. – Умница был, хороший публицист. Смерть меньше других щадит талантливых людей.
Цулукидзе был ровесником Ладо, в гимназии писал стихи и рассказы. В то лето, когда Ладо сидел в Лукьяновской тюрьме, Саша приехал в Тифлис и сотрудничал в газете «Иверия», потом перебрался в Баку, организовал вечерние курсы для рабочих, а затем учился на юридическом факультете Московского университета. В Тифлис он снова приехал в 1899 году уже зрелым революционером.
– Мне в самом деле посмотреть бы на Цулукидзе, – сказал я, – увидеть его вместе с Ладо.
– Все в твоей воле, – ответил Варлам.
– Чего-то не пойму, – сказал шофер, – кто вы такие и что задумали.
Я объяснил. Он резко затормозил и повернулся к нам, сияя из-под усов улыбкой.
– Смотри ты, как повезло. Я ведь наследственный извозчик. Дед мой держал фаэтон, а отец был кучером на конке. Потом на вагоновожатого трамвая переквалифицировался. Раньше бы приехали, пока отец жив был!
– Он что-нибудь вспоминал о Кецховели?
– Не помню. Может и вспоминал. А уж знать – наверняка знал. Ладо был человек, что надо! Жаль, тюрьму снесли, в которой он сидел. Святое место!
Позади засигналили машины. Высунувшись из окна, шофер крикнул:
– Проезжайте, не видите, делом занят! Подумаешь, князья, объехать не могут! – Он посмотрел на Варлама. – Сколько тебе лет?
Варлам. ответил. Шофер присвистнул.
– Ишь, сохранился. Но я. Тифлис тоже неплохо знаю. Ка;к настоящий извозчик! Так что называй улицы, по-старому, точно довезу, без ошибки.
– Тогда погоняй лошадей до– Михайловского и палево.
– Левого поворота там нет, немного дальше-придется проехать.
Варлам снова заговорил голосом экскурсовода:
– Мы пересекаем Елисаветинекую улицу. Слева пивоваренный н лимонадный завод Луизы Мадер. Пиво куленбажекое, царское, лимонады грушевый, ванильный, кофейный, малиновый и лимонный. Отличные напитки! Конкуренция! Плохо сваришь пиво, его никто пить не станет, и фрау Мадер прогорит.
Таксист свернул на Плехановский проспект.
– Справа – обсерватория, – сказал Варлам, – в ноябре 1899 года разразилась новая забастовка в семинарии. Как и прежде, многих семинаристов исключили. Младшего брата Ладо – Вано и его однокашника еще. по горийскому духовному училищу Сосо Джугашвили исключили с волчьим билетом. В обсерватории работал Ражден Каладзе, он и помог устроиться – сперва Вано, потом Ладо пристроил сюда же Сосо. Они жили в одной комнате. Изредка у них ночевал Ладо. Постоянного жилья у него не было… А здесь был сад Тифлисского собрания, – объяснял Варлам, – сад Немецкого клуба. Налево кирха.
– Ее еще до войны снесли, – вставил шофер.
– Направо городская больница на двести кроватей. Хочешь лечиться, плати 12 рублей в месяц за кровать в общей палате, хочешь отдельную комнату – плати 60 рубликов. Полная демократия – в рекламном объявлении сказано: принимаются больные всех званий. Приползи в лохмотьях, протяни 60 рублей и царствуй один, приди в королевской мантии, но без денег, перед тобой захлопнут дверь.
Крепкий, с плечами и шеей борща, человек в шляпе словно приклеился глазами к такси. Взгляд у него был тяжелый, казалось, он мысленно зарисовывает наши лица. Я толкнул Варлама локтем.
– Кто это, как вы думаете?
– По-моему, филер. Чем-то мы ему подозрительны.
Шофер фыркнул.
– Это вы про того, здорового? Сосед мой, бывший штангист, теперь директором столовой работает.
Варлам подмигнул мне и забормотал:
– Сретение Господне, Благовещение, Вознесение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, первый и второй день Пасхи…
– Что с вами? – спросил я.
– Подожди. Эх, сбил ты меня… Бог с ним! Мы подъезжаем к почте, и я стал вспоминать, в какие праздничные дни почта не работала совсем, а в какие работала с восьми до одиннадцати часов дня. В обычные дни почта закрывалась в два часа.
Проехали еще немного. Варлам спохватился и попросил шофера вернуться немного назад. Он остановил такси у небольшого домика.
Мы вышли на тротуар из старых каменных плит. Варлам повел меня во двор и показал на маленький флигель, прислонившийся к стене двухэтажного дома.
– Там жил Эгнате Нжношвили.
– Сюда приходил семинарист Ладо?
– Да. Ладо говорил мне, что Эгнате дал ему читать Маркса, но «Капитал» он тогда осилить не смог.
Мы вернулись на улицу. Шофер стоял у дома и читал надпись на мемориальной доске.
– Поехали?
– Поехали, – ответил Варлам.
– Вы до которого часа ездить будете? – спросил шофер. – У меня в час кончается смена.
– Скоро освободим тебя.
– Я почему спросил – давайте доедем вместе до гаража. Сдам машину и поедем ко мне, пообедаем. Вино есть, хлеб, сыр есть, посидим, поговорим о Ладо. От души прошу.
– Спасибо, – сказал Варлам, – лучше в другой раз, не сегодня. Мы будем заняты до ночи.
– Хорошо, договорились. На Вардисубанской улице спросите таксиста Амирана. Если дома меня не застанете, подождите.
Я назвал свой адрес, Варлам пригласил Амирана в Гори.
– Главное, – сказал Амиран, – при встрече обрадоваться, вспомнить, что мы знакомы. Разговаривайте, не буду больше мешать.
– С каким множеством людей встречался Ладо, – сказал я, – и как быстролетны, кратковременны бывали встречи, какой-то людской калейдоскоп. Значит, его освободили от гласного надзора полиции в 1897 году?
– Да, но не освободили от негласного. Он распрощался в Джаве с Санакоевым и приехал сюда, стал искать себе работу. Он несколько дней прожил в одной комнате с Ражденом Каладзе и Северианом Джугели, потом вместе с Северианом перешли к старому знакомому, содержателю книжной лавки Захаршо Чичинадзе. Ладо попросил Захария помочь ему устроиться в типографию, и Захарий рекомендовал его владельцу типографии Хеладзе.
Такси проехало по мосту на бывший Мадатов-ский остров, где раньше были сады, а на другой стороне – городская свалка.
Переехали второй мост, и Варлам крикнул:
– Кучер, на Лорис-Меликовскую! Я покажу тебе типографию Хеладзе.
– Не надо, – сказал я, – о ней мне все известно. Даже лучше, чем вам. На Головинский проспект!
Варлам прищурил один глаз.
– Сомневаетесь? – спросил я. – Тогда слушайте. Ладо поступает в типографию Хеладзе. Корректуру он уже умеет читать, наборное и печатное дело осваивает быстро. Он сообразителен, весел, энергичен и очень нравится Хеладзе. Тот назначает его конторщиком. У Хеладзе женится сын. Типография на первом этаже, Хеладзе живет на втором. У Ладо припрятана бумага, набор на грузинском языке брошюры польского социалиста и писателя Дикштейна «Кто чем живет?». Это популярное изложение «Капитала» Маркса. В типографии спрятался подмастерье Васино, мальчишка, влюбленный в Ладо. На втором этаже гремит музыка, пол гнется от пляски. Ладо незаметно встает из-за стола, спускается в типографию, достает набор, закладывает его в печатную машину, приправляет, и к рассвету брошюра отпечатана, уложена в корзины из-под фруктов. Первая нелегальная брошюра в Закавказье!
– Из твоей скороговорки я понял, что ты дотошно работал в архивах, – сказал Варлам. – А знаешь, кто сделал перевод Дикштейна?
– Кецховели.
– Так все считают. На самом деле он перевел одну главу, а всю брошюру перевел социал-демократ Дмитрий Каландаришвили. Кстати, вспомнил одну историю. Как-то видит Ладо, что впереди идет по улице Каландаришвили. Ладо подошел, дохнул ему в затылок и, картавя, сказал: – Я жандагмский погучик Агаханов. Попгошу не обогачиваться. Тепег налево, тепег напгаво. – Привел на конспиративную квартиру, разрешил повернуться и захохотал. Каландаришвили ругался так, что стекла дрожали… А вот здесь была такая вывеска над ювелирным магазином: «Прошу убедиться в дешевизне». Тебя она соблазнила бы?
– Меня больше соблазнила бы вывеска над духаном.
– Вполне согласен. Я тоже проголодался.
Мы принялись уговаривать Амирана, чтобы он пообедал с нами.
– Не могу, – с сожалением сказал он, – сменщик ждет. И я ведь за рулем – за стол сяду, а выпить за ваше здоровье не смогу.
Пришлось попрощаться.
Пообедали в подвальчике. Народу было изрядно. За соседним столом сидела развеселая компания. Тамада пил из большой цветочной вазы, стоял прямо, развернув плечи, подняв красивую голову, и вазу держал, откинув локоть, привычно, как старый солдат держит винтовку. Варлам улыбнулся.
Толстяк-буфетчик вышел из-за стойки и поставил перед нами две бутылки вина.
– Мы не заказывали, – сказал я.
– Шофер, что вас привез, просил от него передать.
Мы выпили за здоровье Амирана, поели и вышли.
– Теперь пешком? – спросил Варлам.
– Да. Неплохо бы на какой-нибудь старый завод заглянуть.
Мы ходили по узеньким улицам, на которых раньше с трудом разъезжались два фаэтона. На иных они не могли разъехаться, и тогда открывались окна, высовывались головы, дети высыпали на улицу, и все вместе громко обсуждали, как быть. Мужчины тоже выходили из домов, снимали пояса, измеряли ширину фаэтонов и ширину улицы, качали головами, убедившись, что разъехаться невозможно, все же приподнимали фаэтоны, прижимали их к стенам, и, в конце концов, один из фаэтонов катил назад до перекрестка, другой проезжал, но после этого никто не расходился, все продолжали обсуждать происшествие, ругали Думу и городского голову за то, что улицы такие узкие.
За углом послышались крики. Мы подошли и увидели две автомашины – «Москвич» и «Волгу». «Москвич» въехал одним боком на узенький тротуар, но «Волга» все равно не могла проехать, и шоферы вышли на мостовую, и уже раскрывались окна, и дети выбегали из крохотных двориков.
– Чего он на тротуар въехал? – возмутился Варлам. – Подал бы назад, до перекрестка!
– Здесь одностороннее движение, – возразил я, – «Волга» нарушила правила. Кроме того, почему должен уступать дорогу именно «Москвич»?
Мы чуть было не заспорили, но, посмотрев друг на друга, захохотали и отправились дальше. Прошли мимо Майдана, где неподалеку от Сионского собора мирно соседствовали еврейская синагога, армяно-грегорианская церковь и мечеть.
– Ты знаешь слова о том, что труд создал человека, – сказал Варлам, – я покажу тебе, что труд делал с человеком.
Он провел меня к длинным строениям на берегу Куры.
– Здесь был кожевенный завод Адельханова и компании. Сапожный товар поставлялся военному округу…
Смрад. Во дворе с арб и телег сбрасывают на землю окровавленные, вонючие, просоленные или подсушенные шкуры. Над ними роятся большие зеленые мухи. В первом помещении шкуры вымачиваются в огромных деревянных чанах, в следующем с них соскребают мездру большими, кривыми, как ятаганы, ножами. Дальше шкуры гноят, чтобы с них сошла шерсть, и плотно укладывают в ямы, а с размягченных сдирают скребками остатки мяса и волос. Еще дальше шкуры квасят – погружают в длинные ванны, наполненные жижей из куриного и собачьего помета. Мельницы размалывают дубовую кору, кожи дубят, рабочие «уколачивают» их молотками на ровных плоских камнях, чтобы будущие подошвы и голенища сапог стали плотными. Сырые, гнилостные испарения, дубовая пыль, которая ест глаза и раздирает горло, и повсюду десятки, сотни рабочих, полураздетых, грязных, не похожих на людей. Здесь и грузины, и армяне, и татары, и русские – на завод берут только по одному признаку: сила и крепкое здоровье. В полумраке двигаются, орудуют крюками, ножами и молотками обтянутые блестящей от пота кожей мускулистые руки – уродливо вздувшиеся, искареженные однообразным трудом. И только когда кто-нибудь поднимает голову, показывается измученное лицо и глаза – у одних потухшие, полуслепые, у других ожесточенные и твердые…
– У них был четырнадцатичасовой рабочий день, – говорит Варлам.
На обратном пути мы оба молчим.
Возле моста Варлам останавливает меня. Я слушаю его рассказ…
Похоронная процессия. Впереди и возле тротуаров едут конные полицейские. При виде процессии из лавок и домов высыпают зеваки.
– Кого хоронят?
– Кто-то важный, гляди, полиции сколько.
Высоко, с наклоном поднятый на руках, гроб плывет над людьми. В гробу лежит человек с красивым, смугловатым, чуть улыбающимся лицом. За гробом идут две женщины в трауре – пожилая и молодая, с маленьким мальчиком на руках. Мальчик испуганно поглядывает по сторонам. За ними густо движется толпа. Больше всего рабочих, но кое-где среди шапок и картузов виднеются шляпы и студенческие фуражки. Все идут молча. В том, как они медленно и торжественно идут, в никем не нарушаемой тишине – только шорох обуви по мостовой и цокот копыт, – могучая, сдерживаемая сила. Позади процессии едет тюремная карета.
В толпе – Ладо. Рядом с ним, сгорбившись, идет Саша Цулукидзе.
– А кого хоронят?
– Техника, он работал в железнодорожных мастерских, протестовал против произвола администрации, у него нашли нелегальную литературу, арестовали, в участке избили, потом бросили в тюрьму, а через месяц после того, как выпустили, он умер внезапно от горячки.
Миновав мост, процессия поднимается по улице, огибающей Метехский тюремный замок, и движется к Петропавловскому кладбищу.
Цулукидзе и Ладо останавливаются вблизи могилы. Цулукидзе нервно покусывает ногти, а Ладо смотрит на мать покойного. Его лицо выражает такое горе, словно он брат или близкий друг человека, которого опускают в землю.
Над могилой поднимается холм, и полицейские, оставившие лошадей у входа на кладбище, приходят в замешательство: люди не расходятся, стоят молча, с опущенными головами. Старик-пристав суетится, проходит к могиле, срывающимся голосом говорит:
– Господа, господа…
Никто не отвечает и не двигается с места.
Пристав совсем растерян. Придраться и потащить кого-нибудь в карету не за что – никто не говорит речей, не бросает листовок, не совершает ничего противозаконного, люди просто стоят в скорбном молчании. Так бывает перед грозой – еще и гром не ворчит вдалеке, и молнии не рассекают небо, но все окрест затихает в ожидании.
Пристав почему-то подходит к Цулукидзе. Видимо, тонкое интеллигентное лицо его внушает приставу доверие.
– Господин, прошу, вас, церемония уже закончилась.
– Прошу не указывать мне. Я сам знаю, когда мне покинуть кладбище.
У старика-пристава лицо в красных прожилках, глаза от возраста помутнели, старый служака, видно, тянет лямку, чтобы получить приличную пенсию.
– Однако же вы не близкие покойного, – бормочет он, поглядывая на Ладо, – с какой целью вы явились сюда?
– Отдать человеческий долг, – отрывисто отвечает Цулукидзе.
– Что за удовольствие стоять так? – не унимается пристав. – Предполагаю, что вы не близкие друзья…
– На ваши похороны, господин пристав, – резко, со злостью говорит Ладо, – я пришел бы с гораздо большим удовольствием!
Пристав отскакивает и всматривается в лицо Ладо, запоминая его.
Все, не сговариваясь, вдруг начинают расходиться – в разных направлениях, полицейские суетятся, и филеры бегают, не зная, за кем идти…
Мы с Варламом вернулись па правый берег Куры и еще побродили по улицам. Когда стемнело, остановились у какого-то дома. Варлам сказал, что мы должны постоять здесь и он кое-что расскажет.
Я закурил.
В доме напротив светились окна, за занавесками виднелись люди, слышались голоса. Кто-то пробежал пальцами по клавиатуре рояля, глубокий, мягкий баритон запел по-грузински романс.
Стена за моей спиной была прохладная, она не успела согреться за день. В саду за домом заиграла зурна, захлопали в ладоши, и мужские голоса ритмично закричали:
– Таш-туш! Таш-туш!
Неужели все это уже было? Та же улочка, духота догоревшего дня, большие редкие звезды над головой, звуки рояля, веселый плач зурны… Я учился в десятом классе и как-то вечером забрел сюда, в старый город, и остановился у стены послушать романс. Странное состояние. Наверное, оно знакомо всем. Вдруг начинает казаться, что повторяется уже случившееся с тобой.
– Здесь, в этом доме, в такие же вечера собирались члены комитета, – говорит Варлам.
…Голос Ладо:
– Вы не правы. Мы с вами сходимся в одном: мы вместе хотим, чтобы знамя, на котором написано «подлость и насилие», было отброшено и чтобы его сменило наше знамя с надписью «свобода и любовь». Но вы не хотите замечать изменений, которые произошли в жизни нашего народа.
– Я не слепой, Ладо! – отвечает резкий взволнованный голос. – Мы только и трубим об этих изменениях, о том, что промышленность наша растет, как в русских лесах грибы. Ты и Цулукидзе пытаетесь, хотите вы этого или не хотите, задержать, остановить исторический, неизбежный процесс развития капитализма.
Кто-то хохочет.
– Задержать и остановить? – Это глуховатый голос Цулукидзе.
– Да, задержать и остановить! – слышится еще чей-то голос.
– Толкать рабочих, вчерашних крестьян – а грузины-рабочие еще связаны с деревней и долго не порвут связи с ней – на путь борьбы с капитализмом и означает стараться помешать развитию промышленности. А в чем еще так нуждается наша бедная крестьянская страна, как не в притоке капитала, как не в европеизации всего уклада нашей жизни? Тот не патриот своей страны, кто не хочет ее развития!
Цулукидзе снова смеется.
– Подожди, Саша! Вы не видите, что у нашего рабочего и психология еще крестьянская. Ему нужно стать грамотным, ему надо научиться думать.
– И пусть мучается, умирает от голода, от эксплуатации! – кричит Цулукидзе. – А мы будем наблюдать за этим с холодным сердцем и ждать, пока народ наш научится думать! А уже потом… Говоря о народе, вы отворачиваетесь от него и смотрите на заводчиков!
– Глупости! Кто говорит, что нужно отворачиваться от народа, от рабочего? Ему надо помогать, о безобразиях на заводах надо печатать в газете, привлекая к этому внимание всего общества. Положение рабочего надо улучшать, улучшая условия труда, процессы производства. А кто в Грузии сейчас может этого добиться, как не сам заводчик, не сам капиталист? У каждой страны – свой путь, у каждого народа – своя дорога, и нельзя смотреть на далекую, огромную Россию и не видеть того, что происходит на твоей собственной земле!
– Давайте посмотрим, что происходит на нашей земле, – спокойно говорит Ладо, – давайте подумаем о том, отличаются ли условия жизни нашего народа от условий жизни народа России. Есть только одна разница, я оговариваю ее наперед, – та, что Грузия под двойным гнетом – собственных заводчиков и помещиков, и колониальным гнетом русского царизма. Ну, а в остальном? Чем русский капиталист отличается от нашего, чем русский дворянин, помещик отличается от нашего, чем грузинский крестьянин отличается от русского мужика, и грузин-рабочий от русского рабочего? Та же эксплуатация, то же угнетение. Сама жизнь показывает рабочим – и русским, и грузинам, и армянам, кто их грабит, угнетает и с кем им надо бороться. Не перебивайте меня, я слушал вас внимательно и дал вам высказаться, теперь выслушайте меня. Вы согласны с тем, что движение протеста рабочих возникало само собою, что оно будет крепнуть и шириться?
– Допустим, так.
– Отлично. Я согласен с вами – чтобы движение рабочих само собой приняло организованный, политический характер, надо ждать, пока разовьется промышленность, пока численность пролетариата увеличится, и он составит большинство населения. Но ждать этого придется очень долго, десятки лет. Так?
– Согласен. Ты повторяешь мои слова.
– Но есть и другое обстоятельство. Ты забываешь о распространении социалистических идей, о том, что учение революционной социал-демократии упало у нас на благодатную почву, что уже не первый год существуют рабочие кружки, ты забываешь о том, что у нас в этом году в апреле состоялась первая рабочая политическая демонстрация. Ты ведь помнишь, как мы собрались у Соленых озер? Ты не думаешь о том, что лучшая часть наших рабочих теперь понимает – надо бороться не только со своим хозйином, а с правительством, с царем!
– Понимает, потому что вы это им вдалбливаете в голову.
– Верно, мы ведем пропаганду. Я хочу вернуться к тому, что ты говорил о патриотизме. Грузию мы любим не меньше тебя, но, подумай над этим, борьба с царем, с правительством ведь и есть кратчайший путь к освобождению Грузии. Ваш путь – это путь долгий и неверный. Вы, говоря ее освобождении народа, по сути дела предлагаете еще многие десятилетия держать его в угнетении.
– Нет!
– Вы часто повторяете, – говорит Ладо, – что мы не патриоты, что настоящий патриот Жордания, Таких патриотов, как вы, Грузия видела немало. Давайте вспомним. Кто первый начал кричать о своем национализме, о патриотизме? Наши князья, наше дворянство после присоединения Грузии к России. Они хотели освобождения Грузии, чтобы вернуть потерянные привилегии. А кто теперь у нас больше всех кричит об освобождении Грузии? Буржуазия, которая боится конкуренции, хочет оградить нашу страну таможенным кордоном, изгнать русских заводчиков со своего рынка. И все для того, чтобы разбогатеть, а не ради любви к народу. И вы, повторяя слова буржуазии о независимости, сбиваете с толку рабочих, вы хотите помочь буржуазии загребать жар чужими руками! Вы предлагаете не руководить движением рабочих, а приглушать его, успокаивать. Если бы вам удалось повести народ по вашему длинному пути… Помните пословицу: «У вороны сдох птенец, и она подбросила его сове, у тебя, мол, большая голова, ты и оплакивай его»? Вы сказали бы это нам, убедившись в своей ошибке. Веселый смех Цулукидзе.
– Нет, я не могу согласиться с вами, – продолжает Ладо. – Мы будем руководить рабочими, организовывать стачки, бороться за улучшение условий жизни, но мы будем объяснять и объяснять им, что главная их задача – политическая борьба с правительством, борьба за быстрейший захват власти! И мы поведем их именно по этому пути!..
Варлам кладет руку мне на плечо.
– Откуда вы знаете об этом споре? – спрашиваю я. – Разве вам приходилось бывать на заседаниях комитета?
– Я приехал в Тифлис и случайно встретился с Ладо. Он шел после заседания возбужденный и сразу стал рассказывать. Я ведь говорил, что он многое доверял мне. А интересно было бы оказаться в том времени на самом деле, войти в комнату, принять участие в разговоре… Куда мы теперь?
Я посмотрел на площадку, где раньше чернел на скале Метехскин замок. На эту сторону выходило окно камеры, в которой находился Ладо. Прежде чем я вернусь к нему, мне надо узнать о последних днях жизни Ладо в Тифлисе до отъезда в Баку.
Я проводил Варлама на вокзал.
Старый Тифлис медленно уходил от нас, и мы снова слышали шум автомобильных моторов и шорох, с которым проносились по улице троллейбусы.
Подошли к вагону.
– У меня такое чувство, будто я теперь долго тебя не увижу, – сказал Варлам.
– Не знаю. Работы у меня сейчас много.
– У меня тоже дел уйма – и виноградник, и сад, и самое важное – мои больные. Сколько минут до отхода?
– Около двадцати. Поднимитесь в вагон.
– В вагоне душно, лучше постою здесь.
– Вам много приходилось оперировать?
– Нет. Операция – дело вынужденное. Авария, ранение, вконец запущенная болезнь – когда уже нет другого выхода. Я специализировался как терапевт и психиатр. И, признаюсь в одной своей слабости, я завидую акушеркам. Ведь это так здорово! Маленькая жизнь, заложенная в большой, должна выйти из нее и стать самостоятельной. Пожалуй, ничему так нельзя радоваться, как первому крику нового человека.
– А вам известно, что где-то в Сибири живет родственник Ладо?
– Что за нелепость! В Сибири?
– Да, помните историю о том Кецховели, который убил князя Авалишвили и сгинул без вести в Сибири?
– Еще бы. Ладо не раз вспоминал о нем.
– Сравнительно недавно, несколько лет назад, сын Нико, академик Николай Николаевич Кецховели получил письмо из Сибири, кажется, от инженера по профессии, по фамилии Кецховели. Он писал, что прочитал в газете отчет о сессии Академии наук, на которой выступал Николай Николаевич, и впервые встретил однофамильца. До этого и сам он, и окружающие считали, что фамилия его итальянская. Видимо, это потомок того мятежного дворянина, который убил Авалишвили.
Вот уж чего не ожидал. – Варлам рассмеялся. – Тебе сам Николай Николаевич об этом рассказал?
– Да, мы с ним давние знакомые. Я учился в университете, а он был в те годы ректором. Идите в вагон, поезд сейчас тронется. Я не прощаюсь с вами.
– Я буду ждать тебя.