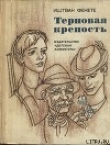Текст книги "Выстрел в Метехи. Повесть о Ладо Кецховели"
Автор книги: Михаил Лохвицкий (Аджук-Гирей)
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
От автора. Много лет спустя
В Гори Варлама не оказалось. Дом был закрыт. Я поехал в Тквиави. Ни в домике, ни в землянке Варлама не было. Походив по саду, я увидел его. Он сидел на камне, в парусиновых брюках и в старой куртке, забрызганной медным купоросом. Улыбнувшись, махнул мне рукой. Я подошел и увидел, что у ног его стоит на земле опрыскиватель. Мы поздоровались.
– Садись рядом, отдохни.
– Я не устал. А где Машо? – спросил я, устраиваясь на другом камне.
– Ходит по домам, делает прививки от холеры. Я тебе очень срочно нужен?
– Не очень. Я хочу, чтобы вы показали мне старый Тифлис.
– Что-то ты слишком уж привык на все старое смотреть моими глазами. Двинемся, если можно, через несколько дней, мне надо закончить опрыскивание виноградника.
– Это ваш или колхозный?
– Хо-хо, – рассмеялся он, – хочешь заполнить на меня анкету? Откуда у меня участок, работаю ли я в виноградарской бригаде, сколько получаю на трудодни? Боишься, что кто-нибудь спросит тебя, на какие средства я живу?
– Ехидный вы старик.
– Какой есть. Я пенсионер, заслуженный пенсионер, имею законное право на приусадебный участок.
– Ладно вам, – сказал я, – что вы придираетесь к слову? Лучше скажите, знали вы Марусю?
– Гимназистку, соседку Ладо по Киеву? Я кивнул.
– Был знаком. – Он посмотрел на меня. – Рассказать?
– Конечно.
– Видел ее несколько раз. На концерт вместе ходили, как-то втроем сидели, болтали в ее саду. Сирень там росла буйно. Маруся больше других цветов любила сирень и хризантемы. Ладо тоже хризантемы нравились. Шли мы раз по улице. Она увидела в палисаднике хризантемы. – Отвернитесь, господа кавалеры, у меня узкая юбка, а мне надо перелезть через эту ограду. – Ладо, конечно, перемахнул в палисадник, стал срывать самые крупные хризантемы. А она мне: – Лезьте вы тоже, если кто-нибудь покажется, я чихну. – Отказаться было неловко. Только я перелез через ограду в палисадник, она: – Ап-чхи! – Я толкаю Ладо: – Скорее, идут! – Мы обратно, я зацепился за штакетник, чуть брюки не порвал, а она хохочет на всю улицу: – Я не потому! Никого нет, я на самом деле чихнула. – Веселая была девушка, но язык у нее без костей. В тот же вечер, когда мы шли с концерта, она показала на дом фабриканта Яковлева, там была кариатида, скульптура Атласа, держащего на плечах небо, фыркнула и сказала: – Этот Антей – вылитый Варлам. – Ладо, стесняясь, поправил ее: – Маша, это не Антей, а Атлас – Все равно похож, – И пошло: с того дня иначе меня не называла, как господин Атлас.
– Неужели вы обиделись? По-моему, очень метко сказано. Антей вам, больше, конечно, подходит,
– Если ты будешь одобрять все остроты по моему адресу, не стану тебе ничего рассказывать.
– Почему он не открылся ей? Может быть, и она стала бы революционеркой.
– Ладо не хотел перекладывать свой груз на плечи близких людей. Подумай и о другом. Ладо знал участь революционера – это почти неизбежно тюрьма, каторга. – Варлам покачал головой. – Нет, Ладо не мог направить на такой путь совсем еще юную девушку. Достаточно уже того, что она стала сельской учительницей. Жаль, что о ней ничего не известно. Они больше не увиделись. Она ведь уехала в Полтавскую губернию.
– В село Тепловку. А шестьдесят лет спустя Маруся, впервые с того дня, как они попрощались, узнала о Ладо. Она увидела на том доме, где он жил, мемориальную доску и узнала, что он был революционером. Потом она увидела табличку: «Улица Ладо Кецховели».
– Узнал бы я Марусю сейчас? – пробормотал Варлам. – Она сильно изменилась?
– Я не успел ее повидать. Когда я приехал в Киев, было уже поздно, она умерла. И, насколько мне известно, совсем одинокой.
Варлам долго сидел, задумавшись.
– Пойду поработаю еще, – сказал он и встал. – Ты не голоден?
– Вы всегда об этом спрашиваете.
Я застегнул на нем ремень опрыскивателя.
– Спрашиваю, потому что ты с дороги. А вообще я всегда терпеть не мог болтунов, которые с амвона призывали других людей к умерщвлению плоти и отказу от благ жизни, обещая им за это блаженство в будущем раю или райскую жизнь для их внуков. Такие призывы – обычно величайшее ханжество! Проповедники, сойдя с амвона, идут вкусно и обильно обедать, не отказываясь от шашлыка в пользу будущих внуков человечества.
Он пошел, прикрыв рот и нос платком, в виноградник, и серебристое облачко раствора купороса покрыло зеленью листья лозы. «Какой он большой, высокий», – подумал я, любуясь Варламом, его широкими плечами. Несмотря на тяжелый опрыскиватель, он держался прямо, шагал легко. Пройдя один ряд, перешел в другой и двигался теперь на меня. Лучи солнца пробивали влажное облачко раствора и образовывали вокруг головы и плеч Варлама сияющее зеленое полукружье.
– Вы зеленый, как виноградные листья! – сказал я, когда он приблизился.
Он остановился и бросил на меня озорной взгляд из-под зеленовато-серебристых бровей.
– Иногда мне кажется, что я родной брат виноградной лозы. Не сиди без дела, наруби дров и разожги огонь. Скоро придет Машо.
Машо улыбнулась, увидев меня, и принялась готовить ужин. Я снова обратил внимание на ее спокойную уверенность.
– Машо, – спросил я, – вы когда-нибудь волнуетесь?
На ясном лбу ее появилась морщинка, тоненькая, как тень от нитки.
– Я не поняла…
– Бывает, чтобы вы не знали, как поступить, колебались, были в плохом настроении?
– Не знаю… Нет, пожалуй, нет. Это плохо?
– Нет. Но неужели вы ни из-за чего не беспокоитесь, ничего вас не огорчает?
– Почему же, я беспокоюсь за своих больных, вообще не люблю, когда люди болеют. Но ведь жизнь – это жизнь, правда?
– Да, конечно, – сказал я. – Вы очень напоминаете Варлама.
– Я рада, что похожа на него.
Варлам закончил работу, умылся и переоделся. Мы поужинали. Машо вымыла посуду и заспешила на автобус – она возвращалась в Гори.
– Сколько лет Машо? – спросил я. – Замуж она не собирается?
Варлам пожал плечами.
– Ждет, как и всякая девушка, когда появится тот, кто ей предназначен. Я в ней уверен. Сердце ее не ошибется. Могу даже сказать, каким он будет.
– Каким?
– Очень сильным тут – Варлам согнул руку в локте и показал на свой бицепс, – и тут – он постучал себя пальцем по лбу, – и очень добрым.
– Каждая девушка мечтает о таком, – сказал я, – а еще более каждый дедушка для своей внучки.
– Поддразнивать меня – зряшное дело. Я знаю Машо и могу добавить, что если ей не встретится такой, она полюбит самого несчастного, обиженного судьбой человека.
Понимая несуразность своего вопроса, я все же спросил:
– Допустим, что она ждет, ждет, а он все не появляется. Когда определится, что у нее уже нет надежды встретить его?
– Не знаю, это таинство. Что-то вдруг созреет и, как почка, лопнет, и раскроется одновременно во всем мире и в ней.
Мы помолчали, прислушиваясь к стрекоту цикад. Варлам вздохнул.
– Да-а, так и не встретились Маруся и Ладо в новом, светлом мире… А что ты хочешь увидеть в старом Тифлисе, сынок?
– Я хочу посмотреть на Тифлис последних лет прошлого века. Ладо ведь перебрался туда в 1897 году?
– Да. Ладно, посмотрим старый Тифлис. А Джава тебя интересует?
– Разве вы бывали там в те годы?
– Конечно, ездил к Ладо в гости. И не раз. Тквиави находится у самой границы с южной Осетией, в десятке километров от города Цхинвали, а нынешнее курортное местечко Джава, расположенное в ущелье за Цхинвали, было при жизни Ладо маленьким горным селением. Я бывал в Джаве, но немногое смог узнать о Ладо, и мне в голову не пришло спросить о Джаве у Варлама.
– Вы для меня прямо клад, – сказал я. – Но разве в это время вы были не в Киеве?
– Меня зимой того года выгнали. Я дал пощечину профессору, который оскорбил моего товарища, еврея. Так рассказать про Джаву?
– Да.
– Над Ладо, как тебе известно, был установлен гласный надзор, то есть он должен был раз в месяц являться в соседнее село к приставу – я, мол, никуда не исчез. По-моему, гласный надзор приятнее негласного. Иди угадай, кто за тобой следит, выясняет, с кем ты видишься, подслушивает, о чем ты говоришь. Ладо много читал, собирал крестьян в укромных уголках. После тюрьмы он стал каким-то неистовым, твердил одно: вооруженное восстание – единственное, что может сделать людей свободными. Ладо начал работать писарем в Джаве, в канцелярии сельского старшины и лавочника Санакоева. Это устраивало всех – пристав считал, что Ладо будет под надежным присмотром, Захарий был доволен, что сын работает, получает жалование, Санакоев обрадовался грамотному помощнику, сам Ладо получил возможность вести работу с горцами-осетинами. В Джаве была старая церковь. Возле нее – канцелярия. А через речку – дом Санакоева, в первом этаже – лавка. Санакоев был славный дядька, они даже породнились с Ладо. Ладо крестил его дочку Ольгу. Она, по-моему, живет сейчас в Тбилиси… Приехал я как-то к Ладо, а Санакоев в тот день уехал и поручил лавку Ладо. Лихо он наторговал! Пришел крестьянин – оборванный, боязливый, с палкой в руке. Заглянул в лавку. Видел, ты, каким взглядом осматривает товары в универмаге человек без денег? Так и тот крестьянин: пошарил он глазами по полкам и даже без вздоха – к выходу. Ладо ему: – Обожди, обожди! Что тебе больше всего нужно? – Бязи хотелось бы, только… – Ладо взял у него палку, рулон бязи – на прилавок и отмерил палкой, будто аршином, изрядный отрез. – Возьми. Запомни, что я десять раз отмерил. Деньги будут, придешь с этой палкой к Санакоеву. Понял? – Понял, господин, понял, дай бог тебе долгих лет жизни! – Ушел, кланяясь. Я спросил у Ладо: – А если у него не будет денег? – Санакоев не разорится, – ответил.
– Глушь там была непроходимая. Что такое врач, и не слышали. Я хотел осмотреть больных детей, а они их спрятали, боялись показать. Одно они твердо усвоили – без взятки, без подношения к начальству не суйся. Как-то приплелся из дальней деревушки крестьянин за справкой. Ладо в два счета выправил документ. Крестьянин кланялся, кланялся, потом втащил в канцелярию овцу. Ладо погнал его вместе с овцой в три шеи. Крестьянин перепугался. – Господин, бедняк я, всего пять овец у меня. – Ладо его за дверь, он чуть не плачет и все пытается оставить овцу. Ладо схватил овцу и огрел ею бестолкового крестьянина. – Чтоб ты не смел взяток предлагать! Вон отсюда! – Выскочил крестьянин за дверь, сел со своей овцой у церкви и долго сидел там, все никак прийти в себя не мог, потом поднялся и заковылял домой. Овца побежала за ним, как собачонка… Я не узнавал Ладо, прежнее спокойствие он словно растерял, легко взрывался и даже кричал иногда, что на него совсем уж не похоже.
– И дома?
– Дома тоже. Примерно в то время и был срублен тополь.
– Какой тополь?
– Я же тебе рассказывал. Священный тополь, что рос возле их землянки. Нико и Маро решили обвенчаться. Ладо обрадовался, расцеловал обоих и позвал отца. – Поп, – сказал он, – передай свои полномочия Иико. Отныне глава семьи он, и мы все будем признавать только его! – Захарий посмотрел на Ладо, ничего не ответил и ушел в землянку.
Ладо заявил, что надо срубить священный тополь, распилить на доски и построить новый дом. Ты знаешь, как в наших деревнях строят дома – собираются соседи, и близкие, и дальние, и сообща берутся за дело. Созвал Ладо крестьян. Узнав, что надо срубить священное дерево, те уперлись. – Не будем! Беду накликаем! Громом поразит, если тронем. – Ладо принес топор, позвал отца и громко сказал: – Поп, ты знаешь, что это дерево не священное. Возьми топор и ударь первым. – Захарий попятился. Ладо, видел бы ты его, – скулы, как булыжники, зрачки с булавочную головку – крикнул: – Отец! – Я даже вздрогнул от его голоса. У Захария затряслась борода. Все молчат, ждут, что будет. Захарий подошел к тополю, перекрестился и взмахнул топором. Женщины вскрикнули. Некоторые бросились бежать. Топор вонзился в дерево так глубоко, что Захарий с трудом его вытащил. – Теперь Нико, – распорядился Ладо. Крестьяне осмелели, подошли ближе. После Нико за топор взялся Ладо, и тогда один из крестьян сказал ему: – Дай-ка теперь я, сынок. – Строили дом медленно, и он так и остался недостроенным. В 1904 году умер Захарий, потом начались волнения 1905 года, и с домом перестали возиться. В 1918 году убили Сандро, а в 1920 скончался от тифа Георгий. Вскоре умер и Нико. Вано жил в Тбилиси, он, как ты знаешь, умер в 1951 году. Дети Нико тоже разъехались. Остался в доме только один из его сыновей – Леван. Колхоз построил для него новый дом, а в старом открылся музей.
Мы долго сидели в задумчивости.
– Спасибо вам, – сказал я. – После того, как я вас послушаю, мне многое становится яснее.
– Мне и самому, – отозвался Варлам, – теперь, спустя столько лет, жизнь Ладо представляется полнее. Говорят же, что издали все лучше видно.
Мы поговорили еще немного и легли спать.
Я не мог заснуть.
Старая землянка жила странной ночной жизнью. Громко тикали карманные часы Варлама. Пробежала, тарабаня лапками, мышь. За ней, с писком, другая. Где-то треснула доска. В щелях посвистывало от ветра. Шуршала на столе газета. Мне показалось, что по комнате кто-то ходит. Я поднял голову – нет, никого, показалось, конечно. Закрыл глаза, и снова почудились чьи-то шаги. Может, это Ильяшевич? Подойдет, склонится надо мной и запишет, что от меня пахнет вином и табаком. Потом заметит рукопись, прочтет о себе, об Анастасии, Иоанникии, Петрове, узнает все о Ладо и побежит докладывать. А может, пришел с обыском ротмистр Лавров? Надо спрятать от него рукопись, иначе она попадет в руки Лунича.
А. КЕЦХОВЕЛИ
Метехская тюрьма. 21 октября 1902 г.
Брат Сандро!
Я знаю, что тебе не очень приятно теперешнее мое положение. Еще бы! Что хорошего в пребывании в тюрьме? Но, признаться, и на свободе я не был особенно счастлив. Моя жизнь давно – на шаткой основе. У меня не было выхода. Нужно было выбирать одно из двух: или навсегда оторваться от привычных, любимых мест, или же продолжать, сколько возможно, мытарствовать, волноваться, часто голодать и оставаться бездомным, только бы быть ближе к тому, что я считал святым, любимым делом. Судьба или случай сохранили меня до сегодняшнего дня, а затем изменили, бросив в руки тех, от кого я бежал. Боль и горечь всегда сопутствуют человеку, в каких бы условиях он ни находился. И здесь, конечно, не будет недостатка ни в том, ни в другом, но если поразмыслить, особенно отчаиваться и горевать нечего: случилось то, что обязательно должно было случиться. Со стороны горе и нужда близкого человека, как всегда, кажутся преувеличенными. Поверь мне, что человек со всем мирится и все переносит. Так или иначе, прошу верить, что я неплохо себя чувствую и если бы знал, что и мои близкие так же горюют обо мне (а не больше), как и я, тогда я чувствовал бы себя в тысячу раз лучше. Короче говоря, вот мое положение: второго сентября меня арестовали в Баку. Сначала мое дело хотели расследовать там, и я находился в тамошней тюрьме, затем предпочли Тифлис и перевели меня сюда. Я не могу точно представить себе, каковы будут последствия этого дела в отношении меня, многое зависит от следствия, которое, кто знает, когда закончится! Вообще же я думаю, меня сильно прижмут и надолго упекут отсюда. «Но все равно, – скажут, – он был негоден, черт с ним, если погибнет!.. И здесь никому не принес пользы, издалека же тем более».
В этой тюрьме, я думаю, пробуду долго и считаю, что наши свиданья возможны. Если тебе часто случается бывать в Гори и, конечно, если у тебя есть свободное время, можно устроить так: утром приедешь, после полудня повидаешься со мной, а вечером опять возвратишься в Гори.
Только вначале это не так легко будет сделать, так как необходимо взять разрешение у жандармов… Возможно, что и вовсе не дадут разрешения, от них и этого можно ожидать… Написал письмо Нико, если увидишь, попроси написать мне несколько слов… Если сумеешь приехать, может быть, доставишь мне какие-либо книги, например, Шекспира на русском или на грузинском языке. Книги передашь жандармам, но чтобы в них не было никаких помарок и надписей. Они мне передадут. Журналы и газеты передавать нельзя, все остальное можно. Я тебе все это поручаю, но кто знает, в каком ты положении?..
Прошу извинить меня, если своим поведением я кому-либо причинил горе и неприятности, прошу не обращать внимания на мое положение…
Твой Ладо Кецховели.
Р.S. Прошу… прислать одну или две простыни, синюю блузу, брюки, чусты и, если это будет нетрудно, легкое одеяло… Если бы я был уверен, что рано или поздно выйду отсюда, не беспокоил бы, но чувствую, что отсюда мне придется ехать прямо в Сибирь, и считаю, что надо теперь же готовиться. Во всяком случае ни одна моя просьба к вам не является обязательной… Очень прошу книги и за них заранее благодарен. Вот коротко список, по возможности доставь их:
1) Шекспир (все произведения на русском языке),
2) Гёте – «Фауст» (траг., дешев, изд.), 3) Гейне (стихотворения, если не дорого!), 4) Самоучитель немецкого языка по методу Тусена (кажется, стоит 3 руб., если его не будет, французский или английский), 5) Стихи Н. Бараташвили. Одним словом, что сумеешь… Будь счастлив…
Л. К.
Бог благословит
Над карталинской долиной стояла жара. Собаки, спасаясь от пекла, заползали под дома.
Духота держалась в Тквиави и ночью. В доме Кецховели спали плохо. Тяжело дышала Маро, дети что-то говорили во сне. Нико ворочался с боку на бок. Датико Деметрашвили лежал на балконе. Он спросил:
– Нико, спишь?
– Нет.
– Жарко. Прямо, как на сковороде лежишь, Думал, в деревне прохладнее будет.
– Жалеешь, что приехал?
Датико понял по голосу Нико, что тот улыбается.
– Нет, не жалею. Ладо мне здесь у вас не хватает, Когда он в последний раз приезжал?
– Я же говорил прошлым летом. Всего на часок заскочил. Оставил тетради со своими рисунками. Шаржи очень забавные и автопортреты. На одном, как в детстве, он нарисовал себя в терновом венце. Завтра покажу. Он уехал, а через день ротмистр Лавров пожаловал.
Послышался далекий топот копыт на горийской дороге.
– Кто-то едет, – сказал Датико.
– Слышу. Неужели опять жандармы? Топот приближался.
На краю села залаяли собаки.
– По-моему, едут сюда. Лежи, я встречу. Датико поднялся, быстро оделся и спустился с балкона. Под лестницей зарычала овчарка. К дому подъезжал фаэтон. На облучке никого не было. В глубине фаэтона сидел человек. Он бросил вожжи и спрыгнул на землю. Овчарка завиляла хвостом.
– Кто это? – спросил приезжий, вытянув шею и вглядываясь в Датико.
– Сандро? Почему ты в такой час?
На балкон вышел Нико, зажег керосиновую лампу и поднял ее над головой.
– Что это за жандармская привычка по ночам ездить?
– Днем некогда было. Письмо от Ладо получил, он арестован, в Метехи.
Они поднялись по лестнице. Сандро вытер платком глаза, лоб, щеки, и платок почернел.
– Где его арестовали? – спросил Нико.
– В Баку.
– В конце концов это должно было случиться, – спокойно произнес Нико.
– Да ты что, не понимаешь, – взорвался Сандро, – ведь живым они его не выпустят!
– В тюрьме он в безопасности, сказал Датико. – Будет суд, самое худшее – в Сибирь отправят. В чем его обвиняют?
– Не знаю. – Сандро протянул брату письмо Ладо. – Надо, пока не поздно, повидаться с ним, может быть, нанять адвоката.
В дверях появилась заспанная Маро. Нико объяснил ей, что произошло. Маро сжала ладонями голову.
– Где отец? – спросил Сандро. – Надо, чтобы он поехал с нами в Тифлис, он священник, ему могут пойти навстречу.
– Отец в Карби, – сказал Нико, – у Анаты. Ты голоден?
– Нет, нет. Воды бы только выпил.
– Маро, принеси воды, – попросил Нико, – Сандро, я съезжу за отцом в твоем фаэтоне.
– Да, конечно.
Сандро жадно выпил стакан воды, второй, третий, присел на тахту рядом с Датико, обнял его за плечи.
– Приготовь передачу для Ладо, все, что он просит, и нам поесть в дорогу, – сказал жене Нико, спустился с балкона и взобрался в фаэтон.
Лошадь не хотела ехать быстро, и фаэтон еле-еле потащился по проселочной дороге.
«Надо же было, чтобы отец вечером уехал в Карби», – подумал Нико.
В воскресенье с утра отец ушел мотыжить кукурузу. Когда припекло солнце, Нико забеспокоился, не стало бы отцу худо, и пошел в поле. Захария там не оказалось. Нико вспомнил, что отец должен был отпеть покойника, и повернул обратно. За церковью, на кладбище, чернела свежевырытая могила. Нико вошел в церковь. Посреди возвышался гроб. В белых пальцах покойника горела свеча. Полукругом стояли, тоже со свечами в руках, родственники умершего. Нико после семинарии ни разу не был в церкви. Впрочем, был – когда венчался. Но как служит службу отец, он не слышал с детства. Захарий тотчас заметил сына, взглядом спросил его: «Чего тебе?» – и продолжал читать молитву, помахивая дароносицей.
– Истинно, истинно говорю вам, слушайте слово мое, и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос сына божия и, услышавши, оживут…
В церковь забрела слепая старуха Даре. Она подошла к гробу и, вытянув руки, притронулась к лицу покойника.
– Уберите ее! – буркнул, прервав молитву, Захарий.
Ее вывели, и она громко заплакала.
Пахло ладаном, запах которого нравился Нико, потому что был похож на запах соснового леса. Сосна не росла в Горийском уезде, и в сосновом бору он был только раз, когда ездил в Боржомское ущелье и поднялся в деревню Кечхоби, откуда был родом их дед.
Вдыхая запах ладана, Нико рассматривал обтянутое почерневшей кожей лицо покойника, его острый нос, опущенные веки и слушал слова молитвы.
– Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды – нараспев говорил Захарий, – ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним…
После похорон Нико подошел к отцу.
– Пойдем домой.
– Иди, я потом приду. Мотыгу с собой возьми, вон там, в сарайчике.
Захарий пришел в сумерках, немного навеселе, взгромоздился на своего хромого коня Буцефала и поехал к дочери.
Фаэтон тряско двигался вдоль зарослей ежевики. Узкий серпик луны ушел за горы. В вязкой тишине глухо стучали копыта лошади. Было тепло, но Нико знобило.
Конечно, это должно было случиться с Ладо рано или поздно. Но всегда казалось, что жандармам не удастся его схватить, он вновь и вновь будет неожиданно приезжать домой. Появится, как обычно, ночью, поест, посмеется, и никто его ни о чем не будет спрашивать, потому что издавна сложилось так, что спрашивать бесполезно…
Нико вздохнул. Он посмотрел на небо, полное звезд. Завтра опять будет знойный день. Фаэтон въехал в деревню. Нико остановил лошадь у дома сестры. На лай собаки в окне появился отец. Нико помахал ему рукой. Захарий, полуодетый, вышел и спросил:
– Ладо?
Нико ответил:
– Арестовали. В Метехи сидит. Надо в город ехать.
Захарий уставился в лицо ему, круто повернулся и, по-медвежьи загребая ногами, ушел в дом. Протирая глаза, на балкон вышла Аната. Нико в нескольких словах рассказал то, что знал.
Аната оглянулась на отца, который уже оделся, дернула себя за волосы, распустила их, царапнула по щекам ногтями и открыла круглый рот в крике:
– Вай ме!
– Детей пожалей, – строго сказал ей Захарий. – За Буцефалом присмотри. Поехали, Нико.
Они сели в фаэтон, и Нико стегнул лошадь.
– Доигрался! – бурчал вполголоса отец. – Доигрался! Все это ты, ты его всему научил. Да, истинно сказано: не делай зла, и тебя не постигнет зло.
– Это Ладо делал зло? Опомнись, отец!
Захарий искоса посмотрел на него, отвернулся, потом жалобно спросил:
– Ты поедешь со мной в город, а, Нико? Там ведь по-русски говорить надо.
– Мы все поедем, и Сандро, и Давид, – с раздражением ответил Нико.
– И Датико у нас? Останови лошадь. Захарий вылез на дорогу, подобрал булыжник и сунул его в ноги Нико.
– Пригодится, – сказал он.
До Тквиави они не разговаривали.
Когда вошли в дом, Сандро хотел обнять отца, но тот отвел протянутые к нему руки и сердито сказал:
– И ты, небось, в тюрьму мечтаешь попасть! Тоже своих рабочих против Зеземана подбиваешь. – Он повернулся к Деметрашвили: – А ты не боишься? Двойник! Может, Деметрашвили надо было под стражу взять, а не Кецховели?
Датико удивился – откуда Захарию стало известно, что он отдал свой паспорт Ладо?
– Ты бы переоделся, отец, – сказал Нико. – В городе будем.
Захарий надел парадную рясу, по старые стоптанные сапоги не сменил. – Па-апа! – сказал Сандро укоризненно,
– Сойдет и так, – буркнул Захарий, – и нечего новые сапоги трепать.
Маро уткнулась лицом в грудь мужу. Он погладил ее по пушистым волосам. Дома она не носила платка.
– Если повидаете, – сказала она, – скажи, что мы ждем его.
В Гори они пошли на вокзал и сели на скамью в зале ожидания. Под потолком чадила керосиновая лампа. Народу в зале еще не было.
– Когда поезд? – спросил Нико.
– В половине восьмого. Я прилягу. – Сандро вытянулся на скамье и заснул, подложив руку под голову. Он был очень горяч и подвижен, но, как и Ладо, легко засыпал. В дверь заглянул усатый жандарм. Сандро поднял голову, выругался и вновь задремал. Датико сидел рядом с ним, под глазами у него набухли мешки, и он казался теперь много старше своих лет. А как выглядит Ладо? Тоже, наверное, изменился: жизнь у него тяжкая. Не случайно он написал, что и на свободе не был особенно счастлив.
Жандарм ушел, его подкованные сапоги застучали по перрону.
Нико покосился на отца. Он сидел, откинувшись на высокую спинку скамьи, с закрытыми глазами, седые волосы распустились по плечам, большой крест на груди чуть поднимался от дыхания.
Нико посмотрел на узловатые, мозолистые руки отца. Сколько ему уже? Семьдесят пять? Нет, семьдесят шесть. Сколько помнит Нико, отец всегда вставал в три-четыре часа утра и кончал работу в поле и на огороде только с темнотой.
Нико так долго смотрел на загорелое, морщинистое лицо отца, что тот поднял веки.
– Что теперь будет? – сказал Нико,
– Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем, – пробормотал Захарий. – А вы, безумцы, думаете, что можете изменить существующее от сотворения мира.
– Ты ведь любить его, – сказал Нико, – как ты можешь так говорить?
– И ты, и Сандро, и Георгий, и Ладо, и Вано, и Аната – все вы рождены от меня, но разве вы когда-нибудь меня слушали?
– Он хочет правды, хочет истины. В твоем же Екклезиасте говорится: и обратился, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. Разве ты это не видишь, разве ты сам…
– Так было, так будет. Пойдем походим, у меня затекли ноги.
Они вышли на перрон. Пахло мазутом. На светлеющем небе черным пнем высоко срубленного дерева стояла горийская крепость.
– Вы все скрываете от меня, – сказал Захарий, – но я не слепой и не глухой. Я думал – вы несете слово, а человек должен жить не хлебом единым, но и всяким словом, исходящим из уст божьих. Однако и вы станете убивать, как тот, кто убил Авалишвили. В вас – его дурная кровь. И даже если бы вы не захотели убивать, вам придется, потому что тот, чей глаз насытился богатством, не отдаст его по доброй воле. Вы сеете ветер…
Они остановились и посмотрели друг на друга. В глазах Захария была теперь одна печаль. Он поправил крест на груди. И Нико вспомнил, как отец ударил этим распятием собаку за то, что она утащила из кладовой окорок.
– Отец, – спросил он, – ты веришь в бога?
– Верую, – не сразу ответил Захарий.
Он подошел к стене и вслух стал читать цены на проезд до Тифлиса:
– Первый класс – два рубля пятьдесят пять копеек. Второй класс – рубль пятьдесят три копейки. Третий класс – рубль две копейки. Нико, в третий класс возьми билеты. Слышишь?
Город, несмотря на утренний час, встретил их духотой и гомоном.
– Давай сюда! – кричали на вокзальной площади извозчики. – Эх, барин, прокачу. Ваши высокоблагородия, прошу ко мне! До Авлабара сорок копеек! За час – шестьдесят копеек! А ну, кому дрожки! Кому подешевле – дрожки!
Сандро повел всех к вагончику конки.
– Заедем к Михо Бочоридзе, – сказал он, – может быть, узнаем подробности, посоветуемся.
Лошади тронулись. Навстречу, занимая всю улицу, шла развеселая компания: впереди, в широченных шароварах, в крохотных фуражках, с длинными цветными платками в руках, выплясывали друг перед другом, словно вывинчиваясь из мостовой, два кинто. За ними ковылял багровый длинноусый шарманщик, а позади, обнявшись и покачиваясь, брели торговцы вином – микитаны.
Они остановили конку. Один из микитанов поднял кувшин с вином и сказал:
– Я Микич. Всю ночь пили. День тоже будем пить. Вот вино, вот стакан. Пока каждый не выпьет, конка не пойдет.
Первый стакан поднесли кондуктору. Датико что-то сказал Микичу. Микич со стаканом в руке поднялся на ступеньки вагона и поклонился Захарию.
– Ты отец хорошего сына. За твое здоровье, за здоровье Ладо. Пусть скорее на свободу выйдет.
Он выпил вино, прижал руку к груди, сошел, и вагончик двинулся дальше.
Пассажиры стали перешептываться, поглядывая украдкой на священника. Кондуктор, перехватывая поручни, пробрался к кучеру, тот остановил лошадей и подошел к Захарию.
– Я знаком с Ладо, отец, говорил с ним. Если понадобится – всю тюрьму разнесем, камня на камне не оставим, а Ладо выручим. Пусть только знак подаст.
Они поехали на Авчальскую улицу, оттуда на Мостовую, вышли из конки и повернули на Михайловскую улицу. Здесь работал бухгалтером винного склада Михо Бочоридзе. Он сказал, что знает только одно – Ладо пожертвовал собой, чтобы спасти нескольких своих товарищей, рабочих. Связь с ним еще наладить не удалось, и неизвестно пока, в какой камере его держат. Взять адвоката власти вряд ли разрешат.
Возле Бочоридзе стоял небольшого роста горбатый парень.
– Не беспокойся, отец, – сказал он вполголоса, – если с Ладо что-нибудь случится, мы отомстим. Даю тебе слово. Десяти жандармам головы отрежу!
Захарий отшатнулся от него и перекрестился.
– Всякое беззаконие – как обоюдоострый меч, – глухо произнес он, – так раны не лечатся.
– Ты слишком много болтаешь, Темур, – рассердился на горбуна Бочоридзе.
Они поехали к майданскому мосту, поднялись к воротам Метехского замка.
Дежурный офицер, вызванный часовым, пробурчал, что не имеет разрешения на прием передачи и вообще не знает, содержится ли в тюрьме Владимир Кецховели. Оглядев с головы до ног Захария, он смягчился и посоветовал обратиться в губернское жандармское управление.
Датико и Сандро отправились в книжную лавку Чичинадзе, поискать книги, которые просил Ладо, а Захарий с Нико поехали в жандармское управление.
Никто не хотел разговаривать с отцом и братом политического арестанта. Каждый чиновник, узнав, в чем дело, отправлял их к другому, тот – к третьему, и, в конце концов, кто-то, сжалившись, объяснил, что они напрасно ходят, что до окончания следствия им не дадут свидания с заключенным.