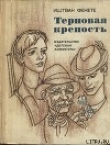Текст книги "Выстрел в Метехи. Повесть о Ладо Кецховели"
Автор книги: Михаил Лохвицкий (Аджук-Гирей)
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
– Отец ругаться из-за рубахи будет, – с досадой говорит Ладо. – Каждый день мы с ним ссоримся… Скажи, Васо очень больно было?
– Наверное.
– Значит, ты решил, что станешь хирургом?
– Почему именно хирургом? Вообще врачом.
– Я на твоем месте стал бы только хирургом. Оперировать – все равно что резать правду в глаза.
Он провожает Варлама до дома Пимена, хлопает по плечу и уходит, напевая «Марсельезу».
Маша. Заурядная история
Ученик третьего класса Киевской духовной семинарии Кецховели выходит из дома, останавливается на крыльце. На платанах хрипло каркает воронье. По тротуару, подпрыгивая и размахивая книжками, перевязанными ремешком, бежит гимназистка – стройненькая, разрумянившаяся, на выпуклый лоб спадает завиток волос, серые глаза блестят. Ремешок вдруг лопается, книжки летят на грязную мостовую, гимназистка останавливается и смотрит на книжки так, как смотрят на приятеля, который без умысла, ни с того, ни с сего вдруг подставил тебе ногу.
Ладо спрыгивает с крыльца, собирает книжки, вытирает их носовым платком и протягивает девушке. Она улыбается и говорит:
– Спасибо… Я вас знаю. Вы живете в доме госпожи Ширжерской. Я живу за углом, в Покровском переулке. Вон в том доме, номер восемь. А рядом с вами в этом доме живет моя тетя. Разве вы ни разу меня не видели?
– Наверное, видел. Да, да, конечно, видел!
– Но не изволили замечать, да? Вас зовут Владимир и вы грузин, правда?
– Вы знаете, как меня зовут?
– Я вовсе не интересовалась, не воображайте. К маме и тете на прошлой неделе зашел дворник Василий… Правда, он на быка похож? Он и рассказал про семинаристов, что квартиру снимают.
– Там не один я грузин.
– Другой – такой насупленный, бука, и на медведя похож. Третий – маленький и быстрый, как зайчик.
– А я на кого похож?
– Вы? – она наклонила голову к плечу и засмеялась. – Не скажу.
– Как вас зовут?
– Правда не знаете?
– Мне дворник ничего не рассказывал.
– Мне он тоже на вас пальцем не показал. Я угадала.
– Я тоже угадаю. Вас зовут…
Она с любопытством уставилась на него.
– Ну?
– Не то Евлампия, не то Евпраксия. А может быть, Варвара.
Она возмущенно уставилась на него и расхохоталась.
– Сами вы варвар! Поделом мне. Меня зовут Марией. Ой, я заболталась, а мне на музыку… Может, вы придете к нам? Приходите, не стесняйтесь, я буду ждать вас.
– Спасибо, Маша.
– Дома меня называют Марусей.
– Мне нравится имя Маша. Мария по-грузински – Маро или Машо.
– Очень приятно. До свидания, я опаздываю. Она убежала.
Он посмотрел ей вслед. Как случилось, что он не замечал ее до сих пор? Ведь живет она совсем рядом. Впрочем, ему так все вокруг не нравится, что на людей даже смотреть не хочется. На чужой стороне – прескверно. Еще только осень, а он мерзнет в своем старом пальто. То теплое, которое ему сшили дома, он отдал Элефтеру Абесадзе – у него вообще нет своего пальто. Отец Элефтера умер, и мать посылает ему всего двенадцать рублей в месяц. Восемь из них он отдает за квартиру. Живется неуютно и голодно. Связь с кружками наладить пока не удалось. Он пошел по адресу, полученному в Тифлисе, там уже никого не было, и хозяйка испуганно сказала: – Арестовали их, уходите скорее. – Инспекция была к нему особенно внимательна, видно, из Тифлисской семинарии сообщили о его неблагонадежности. В Киеве все было почти так же, как в Грузии: запрещалось обучать детей на родном языке, и если у семинариста обнаружат «Кобзаря» Шевченко, его немедленно исключат.
Они столкнулись на перекрестке улицы Боричев-ток и Андреевского спуска. Маруся сказала:
– Здравствуйте. Почему не зашли ко мне?
– Некогда, Маша, не успел.
– Не Маша, а Маруся! – мягко поправила она и задумалась. Она была сегодня другой – не дурачилась, казалась взрослее.
– Я вас испугала давеча? Со мной бывает так – ношусь иногда, как собачонка, и болтаю.
– Я рад, что мы познакомились. У вас плохое настроение? Что-нибудь в гимназии?
– Папу вспомнила. Мы с ним были как товарищи, и мне его иногда очень не хватает… Хотите, пойдем сегодня в костел? Там будет во время службы играть польский органист. Или вам нельзя ходить в католический собор?
– Можно, зачем нельзя? А вы католичка?
– Папа был католик. Он учился в Вене, был доктором медицины и еще доктором по двум другим наукам. Его звали Михаил-Антон-Леопольд Кох.
– А что с вашим папой? Он умер?
– Да. Мы раньше жили в центре, на Крещатике. А когда умер папа, перешли сюда, к бабушке. Так пойдете в костел?
– Пойду.
– В шесть я выйду на улицу. Договорились?
– Да, я буду ждать вас.
Ладо бывал в горийском костеле. Но такой музыки он там не слышал. Может быть, это было потому, что в Гори ученики духовного училища ходили по костелу и прыскали от смеха, пока их не выгнали, а здесь рядом с ним сидела на массивной скамье притихшая девушка.
– Это Гендель, – иногда говорила она. – Не смотрите на меня так. А это Бах…
Он старался делать вид, что не смотрит на нее, но, скашивая глаза, встречался с ее мимолетным взглядом и снова притворялся – опускал голову, и вновь тайком смотрел на нее.
Служба кончилась. Прихожане стали выходить из костела. Он тоже встал, но Маруся тронула его за рукав.
– Сядьте. Он будет еще играть.
В костеле, кроме них, остались еще любители музыки, и сверху опять зарокотал орган. Маруся больше не объясняла, и он так и не узнал, что играл органист. Разной бывает музыка. Одна повергает человека в печаль, другая поднимает его над мелкими огорчениями, третья веселит. Это был гимн жизни – светлый и могучий.
Ладо взял Марусю за руку и сжал ее пальцы. Они так и вышли, держась за руки, на улицу вместе с другими людьми. Никто не расходился. Потом появился маленького роста органист в черном пальто и в черной шляпе. Кто-то захлопал в ладоши. Органист снял шляпу – поклонился.
– Сказочник! – сказал Ладо.
Маруся подняла на него глаза, но ничего не сказала.
Конка уже не работала, и они пошли домой пешком.
– Как будто праздник сегодня, – сказала она. – А инспектора вас не застукают? Они у вас вредные?
– Вредные. Особенно помощник инспектора Ильяшевич.
Он закурил.
– На улице не курят, – сказала она, – кроме того, надо спрашивать у дамы разрешения. И вообще курить вредно. Вы не жалеете, что пошли в костел?
– Я не знал такой музыки.
– Я тоже. Даже страшно стало. Мир большой-большой, а я такая маленькая. Хорошо, что вы меня за руку взяли. Вы угадали, что мне страшно?
– Нет, просто так…
Она освободила свою руку. Стук ее каблуков гулко разносился по пустынной улице. Они молча прошли мимо одноэтажной библиотеки Идзиковского, и он снова взял ее за руку.
– Я помогу вам, а то грязно очень.
– Да, здесь всегда вода застаивается. Хоть бы фонарей было больше! Володя, а кто вам больше понравился – Бах или Гендель?
– Чью музыку он играл в конце?
– Не знаю. Она слишком… не умею объяснить. Как будто про смерть папы, и про нас, и про то, как мы идем сейчас. Но вы не ответили, кто вам больше по душе – Бах или Гендель?
– Бах сильнее, сложнее. По-моему, Гендель рассказывает только про чистое поле и синее небо, а Бах про разные поля, про разное небо, про бурное море, высокие горы, и потоки, обо всем мире.
– Пожалуй. – Она покосилась на него: – Не бегите так. Вы не обиделись на меня за то, что я сделала вам замечание насчет курения?
– Конечно, нет.
– Я хочу попросить вас: будем товарищами. Не надо за мной ухаживать, я этого терпеть не могу.
– Хорошо, не буду.
– У вас сильный акцент. И еще, вы вместо «почему» говорите «зачем». В грузинском языке, наверное, нет мягкого знака?
– Нет. И родов тоже нет – мой, моя, мое. Она оживилась.
– Очень удобно. Еще чего нет?
– Ятя нет. Больших букв нет.
– Как хорошо! Знаете что, давайте свернем с Крещатика, а то вас на самом деле застукают, и я буду виновата. А разве плохо, что Гендель, как вы сказали, показывает нам чистое поле и синее небо?
– По-моему, Гендель говорит – посмотрите, как красиво, радуйтесь тихой радостью. А Бах говорит – посмотрите, какой большой и разный мир, лезьте в горы, боритесь со штормом, с грозой, с тучами, которые закрывают небо. Гендель ошибается, когда изображает чистое поле и синее небо.
– Вы мало знаете Генделя. Он умеет и плакать. Разве всегда должна быть гроза? Ведь идут и осенние дожди, бывают туманы. Володя, вы всегда такой рассудительный? Вы понравитесь маме и тете Мане.
Она на секунду остановилась.
– Ну-ка, я вас проэкзаменую. Какого русского поэта вы любите?
– Рылеева.
– Не слышала о таком поэте. Опять вы побежали. Что у вас, сапоги-скороходы надеты?
– Извините. Рылеев – декабрист.
– А, вспомнила. Я не знала, что он стихи писал. Теперь почти каждый день Ладо встречал Марусю на улице. Было совершенно непонятно, как это раньше он не видел ее. Чаще она бывала оживленной, озорной, но иногда вдруг умолкала, и тогда он замечал, как из глубины ее глаз появляется другая, незнакомая ему девушка, напряженно думающая о чем-то своем.
– Пойдемте в театр братьев Бергонье, – предложил он, – там завтра читает Старицкий и поет хор, дирижирует композитор Лысенко. Хотите?
– Очень!
Чтобы достать билеты, надо было стоять в очереди с вечера. Студенты, которые стояли впереди, рассказывали, что Старицкий и Лысенко специально обращались к генерал-губернатору за разрешением на концерт. Наверное, на вечере будут исправник и инспекторы гимназий и семинарии.
Ни исправника, ни семинарских инспекторов он в зале не заметил. Но распорядитель концерта вышел на сцену и попросил «не делать громких рукоплесканий, дабы не был сорван концерт».
– Вы понимаете? – шепотом спросила Маруся, когда известный, любимый молодежью поэт и драматург Старицкий по-украински читал стихи.
– Да.
Старицкий поднял руки, останавливая аплодисменты, и без того приглушенные, похожие на шелест бумаги, и прочел:
И день иде, и нич иде…
– Шевченко, – прошептала Маруся.
И голову склонивши в руки,
Дивуешься, чому не йде
Апостол правди и науки!
Зал загудел. На сцене появился распорядитель.
– Господа, прошу вас, умоляю… На сцену выходили хористы.
– Как это позорно, – сказала Маруся, – как это унизительно! Почему люди должны бояться говорить на своем языке, читать громко стихи своих поэтов!
– Это не будет продолжаться вечно, это кончится, – уверенно сказал Ладо.
Она улыбнулась и прижалась плечом к нему. Концерт все-таки был сорван, хор запел песню карпатских крестьян:
Гей, не будет нам,
горянам,
Уже светлой воли,
Гей, нас погонят с гор
в долину
С цепями на шее…
Раздались громкие, не сдерживаемые больше хлопки. На сцене рядом с Лысенко – статным, одетым во фрак, появился полицейский пристав.
– Текст дозволен цензурой! – громко сказал Лысенко.
– Долой! – закричал Ладо. – Долой полицию!
Маша толкнула его.
– Вы с ума сошли! Замолчите.
В зале зажегся свет, открылись двери, и в дверях выросли полицейские.
Ладо и Маша молча вышли на улицу.
– У нас почти нет семьи, – сказал он, – в которой не знали бы наизусть многие главы поэмы Руставели. Когда девушку выдают замуж, самое ценное в ее приданом – книга. Если семья зажиточная – несколько книг и обязательно «Витязь в тигровой шкуре». А в XVIII веке Руставели был запрещен, по распоряжению главы нашей церкви Антония печатные экземпляры поэмы утопили в Куре…
Он закашлялся.
– Неужели у вас нет теплого пальто? – спросила Маша.
– Мне не холодно. Я привык.
– Не думала, что вы такой неосторожный. Кричали так, что я чуть не оглохла, а пристав даже вздрогнул.
Через три дня его вызвал помощник инспектора Козловский.
– Изволили жаловаться, господин Кецховели?
– Не понимаю.
– Приходила в семинарию некая девица, назвавшая себя вашей родственницей, и очень возмущалась тем, что наши семинаристы, а именно вы, плохо одеты и могут зимой простудиться, заболеть и даже умереть. Есть у вас в Киеве родственники?
– Нет, господин Козловский.
– Кто же была сия экзальтированная гимназистка?
– Она не назвала себя?
– Не успел спросить. Она изволила убежать, кипя негодованием.
– Я догадываюсь, кто был у вас. Случайно, проездом, в Киеве была один день моя родственница, и она спрашивала, нет ли у меня другого пальто, потеплее. Вот и все.
– У вас есть родственники не грузины?
– Да. Она дочь моего двоюродного дяди, который женат на русской. Двоюродный дядя – епископ, она приезжала с ним.
– Епископ? Гм… Так вы не жаловались?
– Нет, господин Козловский. Моя троюродная сестра такая, знаете… Она очень боится холода. Моему отцу она тоже, бывало, говорила летом: ваш Ладо очень легко одет. Представляете, июльская жара, а она…
– Можете идти.
К вечеру у Ладо заболело горло и поднялась температура. А он собирался с Марусей на оперный спектакль. Он постучал в дверь дома, в котором еще ни разу не был. Дверь открыла сама Маруся.
– Я заболел, вам придется пойти одной.
– Не стойте на ветру! Заходите!
– У меня ангина.
– Входите скорее! – Она втащила его в прихожую. – Тетя вас вылечит.
– Я еще хотел сказать, что знаю про вас. Вы были у нашего инспектора…
– Ни у кого я не была!
Она тронула пальцем его лоб.
– Как утюг, обжечься можно. Тетя Маня! Мамы нет дома, не бойтесь.
Из кресла поднялась высокая, худощавая женщина с седой головой. Она зорко посмотрела на Ладо добрыми черными глазами и протянула руку.
– Мария Филипповна Манковская.
– Тетечка, у Володи ангина. Полечи его скорее. У него жар.
Ладо принялся извиняться, но Мария Филипповна улыбнулась.
– Посидите, я сейчас приготовлю полосканье. Маруся спросила, понизив голос:
– Дадут они вам новое пальто? Ладо покачал головой.
– Разве у них нет средств для помощи?
– Я от них ничего не возьму.
– Я дам вам мой шарф.
Ангина прошла, и Ладо снова встречал Марусю иа углу, а она спрашивала:
– Теперь вы не мерзнете?
И поправляла вязаный шарф на его шее. Наступила весна, но он все равно носил шарф до тех пор, пока Маруся не сказала:
– Володя, это не орден подвязки.
Он снял и протянул ей шарф. Она вспыхнула.
– Неужели вы не поняли, что я подарила его вам?
Маруся почему-то стала очень обидчивой.
– Простите меня, – сказал Ладо, – я нечаянно, не подумал.
Он пристально посмотрел на нее. Она тряхнула головой и отвернулась.
Он пытался создать кружок в семинарии, но из этого ничего не получилось. Семинаристы-грузины, исключенные вместе с ним в Тифлисе, боялись рисковать, хотели закончить семинарию, а большинство местных сторонились, мало доверяли товарищам – очень уж много развелось в семинарии фискалов. Через ребят-грузин, учившихся в университете, Ладо удалось попасть в студенческий нелегальный кружок. Его предупредили, что во избежание провала решено число членов кружка особо не расширять, поэтому не надо приводить новых людей. Несколько раз дни собраний кружка совпадали с концертами, на которые звала его Маруся, и он отказывался пойти с ней, ссылаясь на занятость, Может быть, это ее и обижало.
Они стояли над Днепром.
– Так бы и полетела куда-нибудь, – сказала Маруся, подняла руки и замахала ими. – Осенью я начну работать в школе, Володя. Тетя Маня сказала, что поможет устроиться в Киеве, она знакома с попечителем учебного округа. А я бы куда-нибудь поехала.
– Поезжайте в деревню. Здесь учителей и без вас хватает.
– Одной трудно в деревне, Володя. Я не сильная. А вы хотели бы уехать далеко-далеко? – Не дожидаясь ответа, она схватила его за руку. – Спустимся вниз, на пристань, спросим про пароходы! Как будто мы куда-нибудь решили поехать. Побежали?
На пустой пристани сидел сивоусый дядько в фуражке с якорем. На вопросы о ценах на билеты и о расписании он ответил:
– Хиба ж я знаю. Цену скажуть, когда пароход приде, а когда он приде, бог весть. Може, он другий день на мели сидит.
Дядько не выдумывал. Из-за конкуренции между пароходным обществом и частными владельцами цены на билеты часто менялись, а пароходы ходили с опозданиями, иногда налетали на коряги и ремонтировались, стоя у берега, а бывало, что капитан приставал к какой-нибудь деревушке – опрокинуть с дружком чарку-другую. Пассажиры лениво поругивали его и удили с палубы рыбу.
– Володя, мы друзья? – спросила Маруся.
– Конечно.
– Но вы не откровенны. По-моему, вы что-то скрываете от меня.
– Вам показалось, Маша.
Он отвернулся, чтобы не смотреть ей в глаза. Кто первый сказал о святой лжи? Ханжа, сердобольный христианин? Он не имел права рассказать ей о задании, полученном в Тифлисе, – наладить связь с киевскими кружками, пересылать в Грузию нелегальную литературу, не мог рассказать про университетский кружок…
– Вы уедете в деревню… Ведь поедете, правда? И однажды в школу вбежит сторожиха и скажет: Мария Михайловна, к вам приехали. Черный такой, на коне и с кинжалом.
Она улыбнулась:
– Володя, пусть у него, когда он приедет, не будет бороды. Обещайте мне, что не будете носить бороду.
– Не понимаю, чем вам не нравится борода.
– У нашего попечителя борода, и он очень противный. Раньше я была уверена, что все грузины в черкесках, с кинжалами, скачут на лошадях и похищают девушек.
– Некоторые носят черкески. Не крестьяне. Офицеры, князья. Народники тоже. Мой старший брат Иико в черкеске часто ходит. Бывает, что у нас и девушек увозят.
– Мама всегда спрашивает: – Что он тебе сказал, что ты ему сказала? – Смешная. А тетя Маня смеется: – Оставь ты ее в покое, он ее не украдет, он такой застенчивый. Володя, в самом деле, могли бы вы похитить девушку?
– Против желания человека ничего нельзя делать. Любое насилие над человеком ненавистно.
– Нет, вы представьте себе, что полюбили красавицу. Без нее жить не можете, хоть в прорубь! У вас кони, слуги, дворцы, вы для нее создадите не жизнь, а сказку. Вы с ума сходите, горите, как будто у вас ангина. А эта ангина не пройдет, пока она не будет вашей. Похитили бы?
– Если бы у меня было богатство, дворцы, слуги, я богатство и дворцы раздал бы беднякам, слугам дал бы волю, а ей сказал бы: ничего у меня нет, я бедняк.
– Я не предполагала, что вы такой правильный, бурсак Володя. Вы говорите, как на уроке закона божьего.
– Не сердитесь, Маша. Я говорю то, что думаю. Людям живется очень тяжело, но когда-нибудь все переменится, все! Горя не будет, обид и унижений не будет, нищеты и голода не будет. Люди забудут о жадности, жестокости, никто не станет запрещать говорить на родном языке, бить кого-то нагайкой. И мы с вами обязательно увидим этот новый, светлый мир, встретимся там.
Маруся посмотрела на него, и он опустил голову, чтобы она не угадала его желания – поцеловать ее. Она рассердится, если он прикоснется к ее губам, и поссорится с ним. Но скоро он уедет на лето домой, попытается вернуться в Тифлисскую семинарию, и тогда они больше не увидятся. Поцеловать ее или просто сказать, что она ему очень нравится, что он не может думать о ней иначе, чем с нежностью, было нехорошо, потому что она стала бы надеяться, и вышло бы, что он обманывает ее – ведь он избрал путь, на котором человек обязан отстранять все личное.
– Володя, разве вы хотите стать священником?
– Нет, конечно.
– А кем? – Она впилась в него глазами.
– Я занимаюсь переводами, несколько дней, как отослал в газету переводы рассказов Ниношвили. Люблю литературу и историю. Посмотрим, что получится… Во всяком случае, одно знаю твердо – моя работа должна облегчать жизнь людям.
– Помните наш разговор о Бахе и Генделе? Все-таки вы не правы. Гендель обещает людям именно светлый, новый мир.
– А Бах зовет бороться за него.
– Как, Володя?
– Вам Бах говорит: поезжайте в деревню.
– Боюсь. Чтобы поехать, нужно забыть о себе. Я ведь ни разу не думала о других. Папа, теперь мама и тетя всегда заботились обо мне, а я… Стыдно, правда?
Он кивнул.
– Молодец, что не солгали, не стали утешать и жалеть. Вы думаете, я справлюсь в деревне?
– Конечно, Маша.
Он уехал на лето в Тквиави, написал прошение ректору Тифлисской семинарии о том, чтобы ему разрешили перевод из Киева. Ректор наложил резолюцию на его прошение: «Разъяснить неудобоисполнимость просьбы», и он вернулся в Киев.
Киев показался теперь необычайно красивым, и люди в нем, оказывается, жили такие же приветливые и открытые, как в Тифлисе, все в нем было, как родное, – и узкие, грязные улочки Подола, и приднепровские просторы, и Труханов остров с его широкими песчаными отмелями, и величественный Софийский собор, и лавки Подольской торговой площади.
Он поздоровался с хозяйкой и, оставив вещи, хотел выйти на улицу. Один из соседей по квартире, прозванный за свой богатырский рост Алешей Поповичем, остановил его.
– Вы, кажется, имели друзей в университете?
– Да
– Полиция арестовала десять или двенадцать студентов. Говорят, у них революционный кружок был. Их прямо во время собрания схватили.
– Мои друзья в кружках не состоят, – сказал Ладо и направился к калитке. Если бы он не ездил домой, его тоже арестовали бы. Студенты не назовут его, но все же следует быть осторожным и в университете пока не показываться.
Маруся стояла у своего дома.
– Я увидела, что ты приехал, Ладуша, – тихо сказала она, – из окна. Я ждала.
Она сказала ему «ты» и назвала так ласково, как никто его не называл.
– Я боялась, что ты не застанешь меня, я завтра утром уезжаю в деревню. Ты рад?
– Да, Маша. Я знал, что ты не испугаешься. Куда ты едешь?
– В Полтаву, а оттуда – куда направят. Пойдем в сад?
Они взялись за руки и пошли в садик, весь заросший кустами сирени, возле которых буйно росли хризантемы, и сели на скамью. Больше они ничего не говорили – сидели и смотрели друг на друга, пока не стемнело.
Марусю позвала мать.
– Пойду, Ладуша, пора. Она ушла.
Он сидел на скамье до тех пор, пока в ее окне не погас свет.
Проснулся он рано и вышел к калитке.
Вскоре из подъезда вышли Маруся, ее мать и тетка. Дворник Василий нес за ними два чемодана.
Проходя мимо калитки, Маруся повернулась и сказала ему глазами:
– Прощай.
– До свидания, – про себя ответил он, достал из кармана табак, свернул цигарку и закурил. Табачный дым показался горьким, он обжигал горло.