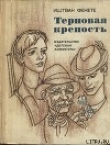Текст книги "Выстрел в Метехи. Повесть о Ладо Кецховели"
Автор книги: Михаил Лохвицкий (Аджук-Гирей)
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Захарий направился в патриархат, к экзарху. Нико несколько часов прождал отца, сидя в тени чинары у собора.
Захарий вышел па улицу мрачный.
– Поехали на вокзал, сынок.
На станции их ждали Сандро и Датико. Сандро сказал, что книги они купили и сдали в жандармское управление.
Отец в зале ожидания и потом, в поезде, молчал, сидел, сложив руки на груди и уставившись на свои порыжелые сапоги.
В Каспи в вагон вошли две толстые маленькие женщины. Усевшись у столика, они разложили на полотенце яйца, хлеб, сыр, зелень, и одна из них попросила:
– Благослови трапезу, батюшка. Захарий не шевельнулся.
– Батюшка, благослови, – повторила она, тронув священника за рукав.
Он поднял голову, отрицательно покачал головой и сказал:
– Недостоин я. Бог благословит,
Ладо и Лунич
Окно в камере не так высоко, как в Лукьяновке, в него можно заглянуть, не влезая на табурет.
Внизу бурлила Кура. Влажные испарения ее пахли серой. За Курой отливала голубыми изразцами мечеть, двигался пестрый, шумный хоровод Майдана, левее, из куполов серных бань, вились кольца пара, правее поднимались к небу черные развалины крепости, еще правее, за красными черепичными крышами, синела посеребренная инеем гора Мтацминда. Почти весь город лежал перед ним словно в полураскрытой ладони. Зимы не чувствовалось – снега не было, светило солнце. Прогуляться бы сейчас по городу, ни о чем не печалясь. Срывать на склоне горы фиалки, смотреть на солнце… Есть ли вообще такая жизнь и была ли она когда-нибудь? Жаловаться нечего – он сам выбрал тюрьму вместо жизни на чужбине. Какие бывают совпадения. Соседскую девушку, которую он полюбил как сестру и которая стала женой Нико, звали Маро или, как он иногда называл ее – Машо, и в Киеве он познакомился с Машей, и даже человек, который привез ему паспорт на имя Бастьяна, назывался «Машей». Другой увидел бы в этом зов судьбы и уехал. А он остался. Судьба – судьбой, но каждый человек сам избирает себе дорогу.
Под стеной что-то медленно постукивало. Ладо открыл окно и заглянул вниз, но ничего не увидел. Наверное, часовой стучал по камням подкованными сапогами.
Голоса Майдана то затихали, то усиливались. Если громко крикнуть, на другом берегу услышат. Можно докричаться до Гасана, он выскочит из сернистого тумана бани, жилистый, кривоногий, черный. После первого знакомства он бывал у Гасана еще и, подставляя спину и грудь его шеретяной перчатке, растолковывал ему, как можно добиться улучшения условий работы и повышения жалованья. О том, что терщики в серных банях бастовали, ему рассказал в Баку Авель.
Авель дважды передал через надзирателя записку – досадно, надзирателя сменили, – написал, что его уже несколько раз допрашивали. Гриша Согорашвили тоже здесь, он притворяется душевнобольным и на допросах болтает всякую чепуху. Виктора Бакрадзе, как он и предполагал, допросили и выпустили, Дмитрия выпустили еще раньше. Лишь Ладо не вызывали ни разу. На прошлой неделе он написал прошение начальнику жандармского управления, требуя ускорить рассмотрение дела. Сегодня обещали вызвать на допрос.
Он открыл окно и крикнул:
– Виктор Константинович!
Ответа не было. Он закрыл окно.
Неподалеку, тоже в одиночке, сидел Курнатовский. Знакомы они мало. О Викторе Константиновиче спрашивал в Самаре Кржижановский, просил помочь ему, чем удастся. Курнатовский часто сидел в тюрьмах, был три года в ссылке. Он неважно слышит, и переговоры с ним наладить не удается. Вообще, если не считать двух записок от Авеля, связь с другими арестованными пока не наладилась, соседние камеры пусты. Во второй записке Авель сообщил, что ему удалось пронести в тюрьму последний номер «Искры»» и «Что делать?», и про «Нину» написал – «Здоровье твоей любимой улучшилось». Значит, Джибраил отдал машину и стереотипный станок, и типография снова заработала. А что происходит здесь, в Тифлисе? Ничего, ровным счетом ничего он не знает. Нет и ответных писем от Сандро и Нико…
Ладо снова приник к окну, посмотрел на крышу семинарии. Она сегодня еле была видна, дым скрывал ее. Наверное, возле Анчисхатской церкви в чьем-то саду жгут костры. Он бывал там, когда Эгнате Ниношвили ставил спектакль, чтобы на собранные деньги приобрести литературу. Пьеса была из жизни русских революционеров, Ладо играл главную роль, и Эгнате на репетиции смеялся, глядя на него, и говорил: – Не надувайся так, проще надо, проще, русские революционеры – такие же люди, как и мы с тобой. – Насмеявшись, он хватался за грудь и кашлял. Смотреть на него было тяжело. У Эгнате бывал мастеровой Алеша Пешков. Алеша жил на горе, у речки Веры и, когда кто-то спросил его, где он живет, ответил стихами:
Живу я на Вере без веры
И в горе живу на горе…
Громыхающим окающим басом Алеша прочитал свой рассказ Эгнате, и тот уверенно предсказал, что Алеша обязательно станет писателем. Пророчество сбылось – Алеша теперь где-то в Москве, он известный писатель Максим Горький. Кржижановский говорил, что искряки собираются обложить Горького «налогом» в пользу партии. Судьба разметала по белу свету многих прежних друзей и знакомых. Кто в Варшаве, кто за границей, одни из бывших семинаристов служат в церкви, другие учительствуют. Порой самая непонятная несправедливость отдаляет от тебя товарищей. Болел туберкулезом бывший семинарист, член «Лиги свободы Грузии» Иродион Немсадзе. Горестно было смотреть, как он кашляет, знать, что он неизлечимо болен, но нельзя было не спорить с ним, потому что Иродион высказывал часто заведомо ошибочные мысли. Примириться с этим было невозможно, и, любя друг друга, они становились противниками, хотя имели общего врага, который преследовал их. Спорили, не уступая ни в чем, а потом Ладо вытирал Иродиону полотенцем пот со лба, укладывал его в постель, поил лекарством и просиживал возле него ночь, с жалостью глядя на его исхудавшее лицо.: Весной Иродиону всегда становилось особенно худо, и в ту памятную весну, в апреле, он несколько раз повторил, что дни его сочтены, а Ладо, ободряя его, засмеялся, предложил пойти вместе на нелегальную первомайскую сходку, которая состоится через пять дней. – Не надо никаких маевок! – хрипя и задыхаясь, стал доказывать Иродион, – твой путь погибелен, Ладо, подумай о родине нашей, о нашей маленькой стране. – Именно о ней и думаю, Иродион, только о ней! – Он вытащил из-за пазухи красное полотнище и показал Иродиону. Половина жалованья ушла на то, чтобы купить этот алый шелк. Жена рабочего застрочила шелк по краям, надо было только натянуть его на древко. После маевки он отдал шелк тому рабочему и его жене, они очень нуждались. Сколько беготни было, сколько спешки! Ведь еще печатал для первомайской сходки прокламации, а в таких случаях, как у студентов перед экзаменами, всегда не хватает одного дня. Но успел, все успел, и прямо от постели Иродиона побежал в Грма-геле[9]9
Грма-геле – пустынный тогда пригород Тифлиса.
[Закрыть], боялся опоздать, а пришел раньше всех, и в первый момент испугался, что никто больше не придет. Но рабочие собрались. Они приходили по одному, по двое и трое, с сумками, из которых торчали горла кувшинов с вином. Наивно, конечно, было надеяться на то, что полиция, набреди она на сходку, поверила бы, что столько народу вдруг решило одновременно посидеть за стаканом вина на весенней травке. Семьдесят человек! Не свадьба ведь. Но полиция на них не набрела. Поляк рабочий из железнодорожных мастерских сказал: – Вот бы сохранился этот обычай – чтобы народ каждый май собирался за городом, и, не боясь друг друга, все говорили бы о жизни, о том, как вернуть, отнятые у нас человеческие права. – Шелк натянули на палку и подняли кверху, из рук в руки передавали прокламации, и тут, когда надо было начать говорить, Ладо вспомнил Иродиона – вдруг, вернувшись, не застанет его в живых? И от ужаса не сказал, а закричал так, что все вздрогнули: – Товарищи! – О чем он говорил тогда? Кажется, начал с того, что это особенный день, впервые рабочие собрались, чтобы говорить не об экономической забастовке, а о завоевании политических прав. Всего восемь лет прошло с тех пор, а кажется, будто это было очень, очень давно и кто-то другой кричал, волнуясь. Сначала он говорил о народниках и никак не мог с ними покончить, потом перескочил на создание первой социал-демократической организации в Грузии «Месаме даси», вспомнил об организаторе ее Эгнате Ниношвили, чуть не расплакался и предложил всем встать и почтить память Эгнате. Потом рассказал о спорах, которые велись первое время в «Месаме даси» – какое избрать направление: социал-демократическое или национал-демократическое, и как Миха Цхакая заявил: – Никакого национализма, мы всегда и везде, легально и нелегально – социалисты! – Очень хотелось рассказать о том, какой Цхакая забавный, близорукий, рассеянный: может, налетев на столб, извиниться. Каким-то чудом удержался и сказал, что нынешняя организация эсдеков развивает именно то направление, о котором объявил Цхакая. Тут, наконец, удалось выбраться на верную дорогу, заговорил о Марксе и о задачах, стоящих перед рабочими… Самое удивительное, что его выступление всем понравилось, хотя Ладо казалось, что говорил он постыдно плохо. Потом, когда рабочие разошлись, в панике побежал к Иродиону и рассказал обо всем, что было, а он то улыбался, то хмурился и повторял: – Не то вы говорили, не к тому звали. – И вновь был спор, огорчение, раздражение и жалость к упрямцу Иродиону.
Загремел дверной замок.
– Выходи! На допрос.
Его повели темными длинными коридорами, и он жадно всматривался в глазки на дверях – не мелькнет ли в них знакомое лицо.
За столом сидел жандармский ротмистр.
– Садитесь, господин Кецховели. Ротмистр Лунич.
Ладо сел, припомнив, что заметил ротмистра в день приезда в Тифлис на станции. С того времени, как его привезли сюда, он видел только двух надзирателей и нескольких стражников, которые под вечер заносили в камеру парашу. Появление нового человеческого лица, даже принадлежащего жандарму, было разнообразием. Кроме того, вызов на допрос означал, что дело его сдвинулось с мертвой точки.
– Наша беседа, если можно так выразиться, предварительная, – сказал Лунич. – Господин товарищ прокурора сегодня занят… Чему вы улыбаетесь, разрешите узнать?
– Забавное сочетание: «господин товарищ прокурора», – ответил Ладо.
– Согласен, юмористично. Скажите, господин Кецховели, откуда я могу вас знать, где мы могли с вами раньше видеться? Закуривайте.
– Воздержусь. И мне знакомо ваше лицо.
– Любопытно.
Майдан, толпа, жандармский офицер в коляске… Кажется, Ладо показал ему кукиш. Напомнить ему? Неужели у ротмистра такая хорошая зрительная память, что он спустя столько времени вспомнил лицо, случайно выхваченное взглядом из толпы? Потом они виделись на станции, когда Ладо привезли из Баку.
Настроение у Лунича было приподнятое. Дебиль сказал, что он не забудет заслуг Лупича, если следствие по делу Кецховели пройдет успешно. Вчера вечером совершенно неожиданно к нему домой приехала в фаэтоне Амалия. А сегодня он видит перед собой Кецховели, и то, что Кецховели держит себя со спокойным достоинством, тоже отрадно, ибо подтверждает предположение о сильном противнике.
– У вас есть ко мне какие-нибудь просьбы или вопросы, господин Кецховели?
– Да. Почему мне не дали свиданий с родными, почему перестали разрешать писать письма, почему не доставляют писем от родных, почему не удовлетворена моя просьба насчет книг? Я уверен, что книги находятся у вас.
– Свидания? Посмотрим… На переписку я вам дам разрешение, насчет книг, господин… Кстати, к какому имени вы более привыкли – Деметрадзе, Деметрашвили, Георгобиани, Бастьян?
– Кецховели. Так что же насчет книг?
– Доложу начальству вашу просьбу. На первом допросе в Баку вы заявили, что ваши единомышленники знали вас под другими именами.
– Да, только я не называл случайных в этом деле людей революционерами-единомышленниками.
– Господин Кецховели, это еще не допрос, вы видите, что протокол не ведется, удовлетворите мое любопытство – по какой причине вы назвали себя, имея возможность скрыться?
– Я объяснил причину на допросах в Баку.
Лунич сощурился.
– Иного ответа не ждал от вас. Однако учтите, нам известно больше, нежели вы предполагаете.
Кепховели откровенно заскучал.
– А мадам Гинзбург относится к числу ваших единомышленников?
– Я не знаком с мадам Гинзбург.
– Не знакомы? Разве? Скажите, какой город из тех, в которых вы побывали, – Брюссель, Марсель, Константинополь, – вам больше понравился?
Ладо пожал плечами.
– Не хотите отвечать? – осведомился Лунич. – Но вы ведь бывали за границей?
Жандармы взяли у него иностранный паспорт на имя Бастьяна. Сказать правду, что он за границей не был? Тогда они заинтересуются тем, кто приехал по этому паспорту, наведут справки и, возможно, нападут на след «Маши». Да еще начнут выяснять, где Кецховели пропадал летом, чего доброго, обнаружат, что он побывал в Киеве, в Самаре… Отрицать поездку за границу опасно, можно поставить под угрозу ареста множество людей.
– Да, бывал.
– Возвращаюсь к мадам Гинзбург. Долго продолжалось ваше знакомство с ней?
– Такой знакомой у меня не было. Я уже сказал об этом.
– Но она на допросах призналась ротмистру Вальтеру, что была знакома с вами. Не только по делам, но и…
– Господин ротмистр, вы лжете. И пошлости мне не доставляют удовольствия. Я буду отвечать на вопросы только в присутствии товарища прокурора и только по моему делу. Извольте отправить меня в камеру.
Лунич заставил себя улыбнуться. Экая досада, сбился на неверный тон.
– Прошу прощения, я забыл, что ваш отец – священник и что вы воспитывались в двух духовных семинариях. Конечно, разговор о женщинах не по душе вам.
Ладо вдруг рассмеялся – открыто, заразительно, и Лунич ощутил себя совершенным дураком, хотя нечаянно сам улыбнулся в ответ. Поймав себя на этом, он нащупал путеводную нить. Откровенность, максимально возможная откровенность!
– Я наговорил глупостей, – смеясь, сказал он, – от чрезмерного старания и еще потому, что сам, грешный, люблю женщин. Надеюсь, вы не будете думать обо мне скверно. Мы с вами враги, политические враги, так уж решил бог, но ведь можно уважать и противника, верно?
– Если он честный человек.
– Да, да, именно это я имею в виду. Но где же, однако, мы с вами виделись? Вы не вспомнили?
– Вы в карательных экспедициях участвовали?
– Нет. Я следователь, а по склонностям своим не следователь даже, а исследователь человеческих характеров.
Какого черта Кецховели вдруг заговорил о карательной экспедиции? Не был же он в том селе, не видел же, как Лунич сшиб конем оборвыша? И рассказать ему никто не мог.
– Почему вы спросили о карательной экспедиции, господин Кецховели?
– Вспомнилась карательная экспедиция, которую я как-то видел. Один офицер был похож на вас.
– Какая? Когда? Где это было? – быстро спросил Лунич, вонзившись взглядом в глаза Ладо.
– Давно уже, – нехотя ответил Ладо. – Какое это имеет для вас значение? Ведь вы не каратель, а следователь.
– Разумеется, не имеет значения. – Лунич скупо улыбнулся, продолжая смотреть в глаза Ладо. – Вы ведь профессиональный революционер?
– Да.
– Вы знаете, господин Кецховели, что из тех господ, с которыми мне пришлось иметь дело, вы первый назвались на допросе революционером по профессии.
– Что из этого следует?
– Просто любопытно… Ответьте мне на один общий вопрос. Вы с вашими единомышленниками добиваетесь революции. В истории отмечено немало революций. Но чем все они кончались? Революция в Англии дала вместо короля Карла протектора Кромвеля, французская революция из маленького Бонапарта сделала великого императора. Возьмите наших доморощенных революционеров. Свершись то, что они задумали, Пестель стал бы диктатором, новым Кромвелем или, в конце концов, императором, новым Наполеоном. Чего добиваетесь вы? Ведь если революция, которую вы готовите, свершилась бы, вы создали бы нового диктатора, нового царя, не более. Так ведь?
Губы Ладо дрогнули в усмешке. Неужели такой вопрос рекомендуется задавать всем подследственным? Ведь то же самое ему говорил шесть лет назад, в Киеве ротмистр Банков. Только тогда Ладо по молодости лет разволновался, стал объяснять, что не так все просто. Ротмистр ставил под сомнение необходимость перемен, необходимость революции, но тысячи причин обусловили обратные ходы в истории – возобновление абсолютизма, восхождение императора Наполеона. Наивно было бы теперь убеждать в чем-то Лунича.
– Может, вы сами мечтаете стать диктатором? – спросил Лунич.
Ладо улыбнулся.
– Я занимался в двух семинариях, там нас учили смирению, и я никогда не думал о посохе митрополита или патриарха. Ответьте и вы мне: если бы я указал на ошибку в ваших рассуждениях, вы отворили бы мне двери тюрьмы и стали бы, как я, революционером? Или вы предполагаете, что, поверив вашим доводам, я откажусь от своих убеждений и захочу стать жандармским следователем?
Лунич почувствовал глухое раздражение и непривычную неловкость.
– Напрасно вы отнеслись к моим словам иронически, господин Кецховели. Я знаю историю, но почти не знаком с революционной, нелегальной литературой. Кстати, порекомендуйте, что мне прочитать о том, каким представляют себе будущее общество революционеры.
Ладо снова усмехнулся.
– Поищите в списках запрещенной литературы.
– Благодарю, я об этом не подумал, – сквозь зубы сказал Лунич. – У вас нет никаких других просьб, которым может помешать присутствие товарища прокурора?
– У меня одинаковое доверие к вам обоим, хотя господина товарища прокурора я еще не имею чести знать.
– У вас отменное чувство юмора. И пошутить вы, как я вижу, любите. С ротмистром Лавровым, охотно признаю, вы превеселый водевильчик устроили. Помните, на квартире Джугели, когда вы спящим дьяконом притворились?
– Никогда не надевал одежды священнослужителя, а с Джугели не виделся после семинарии.
– Даже такой пустяк отрицаете? Лунич позвонил в колокольчик. Конвоир увел Ладо.
Лунич постоял, собираясь с мыслями. Что дала ему первая встреча с Кецховели? Ничего, ровным счетом ничего. У этого человека удивительная способность спокойно, без презрения и без ненависти ограждать себя, не допускать следователя туда, куда он не хотел его допустить, и естественная, живая реакция на все другие вопросы. Игривость не пришлась по душе Кецховели, и этот тон придется оставить. А ведь обычно арестанты как раз о женщинах говорят охотно. Может быть, мало еще сидит? Да, с ним придется помучиться.
Лунич уехал из тюрьмы недовольный собой, в каком-то смутном настроении.
Выйдя в коридор, Ладо заметил, что во дворе тюрьмы выгружают из телеги рулоны типографской бумаги.
– Что, в тюрьме есть типография? – спросил он у конвоира.
Тот нерешительно оглянулся и ответил:
– Так точно, имеется.
– Я, кажется, слышал, как печатная машина стучит, – наугад, еще не зная, для чего это может ему пригодиться, сказал Ладо.
– Могли слышать. Ваша камера над типографией. Помолчите, господин!
Типография помещалась под его камерой. Связь с волей у типографии есть – сюда привозят бумагу, отсюда увозят готовую продукцию. Окна типографии должны выходить на сторону Куры. Полезные сведения! Вот что значит бывать на допросах.
Ладо вернулся в камеру, как возвращаются домой после прогулки, и с аппетитом съел баланду, которую обычно не мог есть без отвращения.
К вечеру, когда тюрьма затихла, Ладо лег на пол и приложил к холодному цементу ухо. Если вечером внизу работают, он должен услышать… Действительно, ухо уловило ритмичное постукивание. Так, теперь выждать, когда будет перерыв, и чем-нибудь несколько раз ударить по полу. Можно позвать и через окно, но если услышит часовой? Надо приглядеться, прислушаться, определить, где пост часового, а потом уже… Рисковать не стоит. Он вскочил на ноги и подошел к окну. Политических к типографии на пушечный выстрел не подпустят, там работают уголовники. Интересно, какая у них машина? Судя по стуку, скороходная. Великое изобретение! Что еще можно сравнить с созданием печатного станка, что дало человечеству больше, чем мысль, идея, чувство, мечта, размноженные и разнесенные по свету?! Создатели печатного слова, вот кто произвел подлинную революцию! А не то ли говорил и попутчик в поезде, Костровский? Уж не начинает ли Ладо соглашаться с ним? Нет, все равно нет! Подобно тому, как печатное слово не смогло облегчить участь угнетенных и униженных, никакая электрическая машина не уничтожит неравенства людей, не защитит их от грабежа и произвола!
Часовой ходил где-то справа. Шаги отдалились, затихли. Не стучит и печатная машина. Ладо свистнул.
– Эй, внизу! Подойдите к окошку!