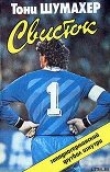Текст книги "Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф"
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Так, ими невозможно объяснить факт обращения Гриффита к пьесе Браунинга. Пьеса эта, почти непригодная к театральной постановке, не обладает никакими специфически кинематографическими свойствами. Показательно, что Джулиано и Кинен, оставаясь в рамках традиционного подхода, вынуждены находить у Браунинга эту скрытую кинематографичность, или, используя выражение Эйзенштейна, «синематизм» (Джулиано—Кинен, 1976:149—152). Такого рода подход в итоге приводит к тому, что кинематографичность улавливается в любых явлениях предшествующей культуры, так или иначе попавших в радиус действия кино. Кинематографическими могут объявляться любые детали (как аналоги крупных планов), рубленый стиль (как аналог монтажа) или, наоборот, подчеркнуто континуальное построение (как аналог ленты или кинематографической памяти). По мере
135
расширения сфер проекции такого подхода, вся культура ретроспективно приобретает кинематографический характер. В итоге, причины заимствования того или иного явления становятся предельно размытыми. Не трудно заметить, что кинематограф здесь выступает в роли Кафки из эссе Борхеса, превращая совершенно разнородные явления предыдущих эпох в своих предшественников. Но в эссе Борхеса процедуру поисков этих предшественников осуществляет сам Борхес, в то время как в «теории вызревания» эта функция незаметно передается культуре. Эта теория скрывает тот факт, что она является результатом последующего чтения всей предшествующей культуры. Она элиминирует читателя, превращая результат чтения в механизм функционирования самой культуры.
Столь же малопродуктивной выглядит и теория влияний. Она не отвечает на принципиальный вопрос о причинах того или иного влияния и его функциях. Влияние представляется в виде механического переливания каких-то близких элементов из одного сосуда в другой. Постулировав наличие влияния (или заимствований) Браунинга на Гриффита, мы обходим существо возникающих вопросов и принимаем своего рода неоплатоническую модель художественной эволюции. Согласно этой модели, имеется некий центр эманации, который транслирует себя в превращенной форме в будущее. В такой модели снимается главный вопрос – вопрос об активности преемников, превращающихся в пассивных реципиентов влияния. Вопрос о трансформациях, происходящих в текстах-преемниках, такой теорией также не решается.
Теория влияния не может быть приложена даже к явлениям эпигонства или плагиата («слабым текстам»), так как последние тоже являются результатом выбора автора, непосредственно (без установок на трансформацию и оригинальность) ориентированного на текст цитирования. Еще менее она может быть при-
136
менена по отношению к «сильным авторам», избегающим декларативного подражания.
«Сильные» произведения и авторы, вокруг которых и разворачивается истинный процесс художественной эволюции, включены в интертекстуальные связи совершенно особым образом. В их произведениях цитаты – это не просто нуждающиеся в нормализации аномалии, но и указания-сокрытия эволюционного отношения к предшественнику. Цитирование становится парадоксальным способом утверждения оригинальности. Декларированная цитата, отсылая к тексту, который камуфлирует истинную зависимость произведения от предшественника, превращается в знак оригинальности и одновременно «искажает» простую преемственность в эволюции. Она создает неожиданных «предшественников Кафки», тем самым деформируя наше чтение истории культуры, то есть меняя ее движение.
Интертекстуальность, таким образом, работает не только на утверждение предшественников, но и на их отрицание, без которого текст не может конституироваться в качестве «сильного». Поэтому исходным моментом всегда должно служить постулирование как минимум двух текстов-предшественников (ср. с интертекстом и интерпретантой в первой главе). Один, наиболее актуальный для текста-преемника, вытесняется и становится объектом агрессии. Второй, менее актуальный для художника (так как связь с ним не носит глубинного характера), выдвигается в ранг текста-вытеснителя первого текста-предшественника. Связь с первым текстом маскируется декларацией связи со вторым, «безопасным» текстом. «Пиппа проходит» выбирается Гриффитом именно по той причине, что она традиционно считается негодной для постановки пьесой, а также потому, что в ней нет и намеков на так называемый «синематизм». Отсутствие этого «синематизма» является гарантом отсутствия подлин-
137
ной связи Гриффита с декларируемым им текстом влияния.
Именно таким образом в сферу действия кинематографа втягиваются совершенно различные тексты, по существу, полностью лишенные так называемой кинематографичности. Но именно этот процесс втягивания чужеродных по своим структурам текстов в поле зрения сильных художников и представляется нам главным механизмом обогащения кинематографа. Кино бурно развивается не потому, что ассимилирует то, что на него похоже, а потому, что ассимилирует то, что совершенно с ним не сходно.
Зато на более позднем этапе в «непохожем» ретроспективно обнаруживают черты сходства с кинематографом, приобретенные именно в процессе этой ассимиляции. Таким образом, постепенно вся предшествующая культура становится как бы «синематической». Возникает ложная иллюзия вызревания кинематографа в недрах всей культуры прошлого. Эта иллюзия становится исходным пунктом позднейшего объяснения кинематографического своеобразия.
Г. Блум в эссе с характерным названием «Визионерское кино романтической поэзии» отмечает, что Мильтон, Блейк, Вордсворт испытывали негативизм к физическому зрению и «стремились к свободе от тирании телесного глаза». Исследователь показывает, каким образом их поэзия, строящаяся на отрицании визуальности, с приходом кинематографа начинает все более активно восприниматься в визуальных и чуть ли не кинематографических кодах, подвергаясь последующей «синематизации» (Блум, 1973а). Справедливости ради отметим, что эта «синематизация» началась задолго до кино, в XIX веке, когда поэмы Мильтона и Вордсворта служили постоянным источником вдохновения для художников.
Ассимиляция чужеродных источников приводит к тому, что на следующем этапе механизм ложных
138
отсылок работает уже иначе. Теперь тот интертекст, которым прикрывалось первое заимствование, становится «опасным для творца», уже ассимилировавшего его и благодаря ему избежавшего риска вторичности. На новом витке вытеснению подвергается уже этот источник (в нашем случае «Пиппа»), а вытесняющий текст вновь заимствуется из чужеродной сферы. Так в поле зрения Гриффита попадает музыка – искусство, казалось бы, во многом чуждое немому кино. Но новый этап вытеснения включает механизм ассимиляции в кинопоэтику и совершенно чужеродного музыкального текста.
Сильные механизмы вытеснения работают не только в плоскости одной знаковой материи, но втягивают в себя и разные материи выражения, наслаивающиеся во вновь возникающих кинематографических структурах. Линейное вытеснение источника идет параллельно с межсемиотическими перекодировками и сдвигами, через которые вырабатывается новый язык искусства.
Весь этот сложный механизм декларативно ориентирован на поиски мифических Первоисточника, Первослова, Первоизображения, связь с которыми может обеспечить элиминацию всей цепочки предшественников, дать выход к сущности, правде, реальности.
В этих поисках первоисточника Книга занимает особое место (не случайно в «Нетерпимости» в итоге всех вытесняющих стратегий, в том числе направленных и против словесного, Книга занимает господствующее место как финальный символ первичности). Это привилегированное место книги связано со всей иудео-христианской традицией, для которой Слово первично, а Бог является непосредственным автором Первокниги. Превращение книги в «гипертекст» сильных кинематографических текстов связано также и с тем, что книга олицетворяет в нашей культуре «Текст» как
139
таковой с характерной для него «финальностью» и нарративностью. Отсылка к книге как к первоисточнику необходима кинематографу также для «легитимации» текста. Текст становится авторитетным для сообщества в том случае, если он произведен автором, обладающим особым социокультурным кредитом доверия. Литературный текст особенно тесно связан с авторской инстанцией. Кинематограф, в отличие от литературы, производит фотографические тексты с пониженным «индексом» авторства. Доверие к фильму базируется на фотографической очевидности показываемого. Однако, эта фотографическая очевидность в рамках традиционной культуры недостаточна (особенно на первых порах) для полноценной легитимации фильма. Именно этим в какой-то степени, вероятно, и объясняется принятая в кино отсылка к литературному первоисточнику, автору, проецирующему на фильм ауру дополнительной «законности» текста для культуры.
В случае вытеснения автора и его замены символической книгой как таковой, книга становится своего рода «безличной причиной», строящей наррацию фильма. Именно так обстоит дело в «Нетерпимости» или почти во всех фильмах Дрейера, систематически включающих символическую книгу в свой контекст (Бордуэл, 1981:34—36).
Фотографический текст, не включающий в себя механизма реализации причинно-следственных связей, становится своего рода повествованием через отсылку к внеположенной ему Книге.
Эта корневая потребность кинематографа в символической первопричине, источнике гораздо сильнее, чем аналогичная потребность литературы. Ведь в литературе источником текста выступает сам автор, наличие которого кинематограф камуфлирует. Между тем, перманентное присутствие темы первичности, первопричины отчетливо мифологизирует
140
кинематограф как систему. Жажда первоистоков в культуре в полной мере насыщается лишь мифом, органически мыслящим в категориях первичности.
Нельзя не заметить также и того, что этот поиск первоистоков осуществляется в совершенно особой культурной ситуации, когда культура в целом ориентирована на постоянное обновление, на поиск беспрецедентного. По наблюдению М. Л. Гаспарова, до конца XVIII века европейская культура была культурой перечтения, а с эпохи романтизма началась культура первочтения, провозглашающая «культ оригинальности» (Гаспаров, 1988:19). Любопытно, что уже самые первые ростки культуры первочтения в эпоху Ренессанса сопровождаются установкой на отказ от подражания мастерам и ориентацией на природу как первоисточник (Панофский, 1989:66). Б. Уилли отмечает неожиданные результаты отказа от авторитетов в XVII веке: «В своем стремлении отбросить авторитеты семнадцатый век в каждой сфере открыл Древних еще более старых, чем Древние, в теологии – Ветхий Завет, в науке – саму Природу, в этике и литературной теории – «природу и разум» (Уилли, 1953:59).
Стремление к оригинальности, первочтению, отрицание авторитетов и предшественников повсеместно в культуре идет параллельно открытию первоистоков, среди которых Природа и реальность занимают господствующее положение. Реализм, таким образом, входит в рамки идеологии новизны. Отсюда характерная – в том числе и для кинематографа, максимально полно выражающего эту тенденцию, – двойственность в поисках первоистоков. С одной стороны, эти поиски толкают кино ко все более полному контакту с реальностью как первоистоком, что приводит к культивированию идеологии реализма. С другой стороны, кинематографический реализм постоянно творится на почве мифа, мифа об абсолюте, о первоистоках.
141
Кинематографический реализм неотделим от кинематографической мифологии.
Не менее существенно и то, что эти непрестанные поиски реальности, опирающиеся на механизм вытеснения промежуточных источников, лишь умножают количество ассимилированных и вытесненных текстов, расширяют интертекстуальные связи. Главным парадоксом этого процесса является то, что художник постоянно декларирует свое желание преодолеть вторичность текста и вступить в непосредственный контакт с бытием, но это движение в сторону реализма идет по пути бесконечного расширения фонда цитат, усложнения интертекстуальных цепочек, по пути экранизаций литературных текстов и мифологизации. Кино ищет реальность на пути умножения связей с культурой. И другого пути, по-видимому, просто не дано.
Глава 3. Интертекстуалъность и становление киноязыка (Гриффит и поэтическая традиция)
В предыдущей главе мы коснулись возможностей рассмотрения некоторых параметров киноэволюции сквозь призму теории интертекстуальности. В данной главе речь пойдет об объяснении некоторых классических фигур киноязыка и их генезиса.
Проблематика интертекста может быть без натяжек спроецирована на вопрос о генезисе киноязыка. Дело в том, что любая новая фигура киноречи с момента своего возникновения и до момента своей автоматизации и окончательной ассимиляции воспринимается как текстовая аномалия и в качестве таковой нуждается в нормализации и объяснении. Не удивительно поэтому, что интертекст постоянно привле-
142
кается для нормализации новых фигур киноречи. Как бы странно ни звучало такое утверждение, можно сказать, что новая фигура киноязыка, по существу, является цитатой. Она взывает к объяснению через интертекст.
Доказательством тому может, например, служить известное эссе С. М. Эйзенштейна «Диккенс, Гриффит и мы», где режиссер блестяще продемонстрировал возможность объяснения гриффитовского использования крупного плана или некоторых фигур монтажа ссылками на Диккенса. Таким образом Эйзенштейн как бы возвел языковые новации Гриффита в ранг цитат из Диккенса. Диккенсовский интертекст нормализовал формальные изобретения американского кинематографа. В своем поиске диккенсовского интертекста Эйзенштейн опирался на более ранние свидетельства, в частности, на фрагмент из мемуаров жены Гриффита Линды Арвидсон, где она приводит разговор мужа с неким неизвестным собеседником. В этой беседе Гриффит якобы оправдывал переброски действия в монтаже (cut-back) в фильме «Много лет спустя» ссылками на Диккенса (Арвидсон, 1925:66; Эйзенштейн, 1964—1971, т. 5:153) и поместил его же как принципиально важный в изданный им гриффитовский сборник (Гриффит, 1944:130). Можно предположить, что Арвидсон в своих мемуарах лишь живописно аранжировала фразу самого Гриффита из его статьи «Чего я требую от кинозвезд» (1917), вероятно, неизвестной Эйзенштейну. Гриффит писал: «Я позаимствовал «cut-back» у Чарльза Диккенса» (Гедульд, 1971:52). Эта декларация была повторена Гриффитом в 1922 году и процитирована в англоязычном издании статьи Эйзенштейна (Эйзенштейн, 1949:205). Отметим, между прочим, что ни в русском издании работы, ни в ее рукописи данной цитаты нет (Эйзенштейн, ф. 1923 , оп. 2, ед. хр. 328). Скорее всего, она была вставлена в текст (по просьбе Эйзенштейна?) переводчиком
143
Джеем Лейдой. Как бы там ни было, все это свидетельствует о настоящей озабоченности интерпретатора документальным подтверждением надежности проведенного им интертекстуального анализа.
Статья Эйзенштейна оказала существенное влияние на понимание творчества Гриффита и выдвинула Диккенса в качестве чуть ли не главного его духовного источника. Интерес американского режиссера к английскому романисту не вызывает сомнения. Однако нет оснований считать, что Диккенс каким-то образом выделяется среди целой плеяды гриффитовских источников. Между тем само выдвижение Диккенса на первый план весьма симптоматично. Именно Диккенс воплощает принципы развитой повествовательной прозаической традиции, честь внедрения которой в кинематограф приписывается режиссеру. Среди культурных предтеч Гриффита невольно выбирается такой, который максимально соответствует расхожим представлениям о миссионерской роли последнего. История апелляции к Диккенсу интересна и еще одной своей стороной. Переброска действия, которая оправдывалась его примером, была осуществлена в фильме «Много лет спустя» – экранизации поэмы Альфреда Теннисона «Энох Арден», к которой Гриффит обращался неоднократно и с удивительной настойчивостью. Вызвавший дискуссию «cut-back» прямо перенесен на экран из этой поэмы. Однако непосредственный источник этой монтажной фигуры в соответствии с принятой им стратегией вытесняется Гриффитом и игнорируется Эйзенштейном, охотно следующим указаниям Линды Арвидсон. Возможно, это объясняется тем, что Теннисон (в качестве предшественника Гриффита) менее интересен для Эйзенштейна. Диккенс как создатель классических романов, мастер повествования, со становлением которого традиционно связывается творчество Гриффита, больше подходит для этой роли.
144
Ситуация приписывания цитаты из одного автора другому весьма показательна. Она свидетельствует о том, что последующая интертекстуализация склонна ориентироваться на тот источник, который больше соответствует нашим поздним и устоявшимся представлениям о характере художественной эволюции. Интерпретатор-читатель охотней обнаруживает источник цитаты в том интертексте, который кажется более похожим на изучаемый фильм и легче ложится в реконструируемую постфактум историю искусства. В предыдущей главе мы пытались показать, что декларативные заимствования делаются из источников, далеких по своей поэтике от создаваемого текста. Мы также утверждали, что эти декларативные цитаты способствуют ассимиляции чужеродных текстов внутрь кинематографической системы. Между тем эта последующая ассимиляция далеко не всегда имеет место. Фонд декларируемых заимствований может остаться неассимилированным кинематографом и как бы выпасть из последующих представлений о киноэволюции. Такой фонд мы назовем тупиковым. Будучи на определенном этапе весьма продуктивным, он в последующем игнорируется историками как незначительный, эфемерный и выносится за рамки наших представлений об истории искусства. В более поздних исследованиях он замещается иным интертекстом, представляющимся эволюционно продуктивным.
К разряду таких тупиковых фондов интертекстуальности в сфере кинематографа можно, например, отнести поэзию или песенный жанр. Известно, например, что множество ранних русских фильмов были «экранизациями» популярных песен. Однако последующая эволюция кино не нашла места песне как источнику кинематографической поэтики. Песенный интертекст был постепенно элиминирован из сознания и превратился в типичный тупиковый фонд. Нечто подобное произошло и с поэзией. Кинемато-
145
граф в своем развитии пошел по пути повествовательных жанров, постепенно сближаясь в культурном сознании с романом. Роман как эволюционный интертекст вытеснил поэзию, также переведя ее на положение тупикового фонда. Теннисон заместился Диккенсом. Вытеснение источников происходит, таким образом, не только внутри отдельного текста, но и в рамках целого вида или жанра искусства, в рамках архитекста.
В этой главе и пойдет речь о том, каким образом забытый, вытесненный, тупиковый интертекст (в данном случае – поэзия) участвует в «изобретении» и нормализации новых языковых структур. Речь пойдет о некоторых формах интертекстуальности, являющихся активными факторами в генезисе киноязыка.
Для начала уместно будет напомнить, что в молодости Гриффит мечтал стать поэтом. Его кумирами были Браунинг, Эдгар По и Уитмен, в подражание которым он написал множество стихов (Рамирез, 1972:15). Гриффит, по-видимому, прямо идентифицировал себя с Эдгаром По, стремился подражать ему даже внешне и на раннем этапе воспринимал свою судьбу как повторение литературной судьбы По. В своих мемуарах Гриффит описывает себя как одного из участников театральной труппы, где он играл, в следующих выражениях: «В нашей труппе был один актер с поэтическими наклонностями. <...>. Его лицо было похоже на лицо Эдгара Аллана По. Ему так часто говорили об этом, что он стал играть его роль и читал стихи целыми милями. Он постоянно цитировал стихи домашнего изготовления, которые приносили ему лишь насмешки парней, но зато сделали его популярным среди дам» (Харт, 1972:67). В 1909 году Гриффит снял фильм «Эдгар Аллан По», в котором с явным автобиографическим подтекстом рассказал историю отношений поэта с издателями, отказывавшимися его печатать.
146
Гриффиту удалось напечатать лишь одно из своих стихотворений – «Дикую утку» («Леслиз Уикли», 10 января 1907) – и это практически все, что мы знаем о его поэтических опытах. Факт этой публикации имел для него огромное значение. Позже он вспоминал: «Я просмотрел оглавление... но единственное, что я смог увидеть, была «Дикая утка». Она была здесь огромная, как слон, и буквально заслонявшая собой все, что значилось в оглавлении. И тут же было напечатано горящими огненными буквами мое имя. Мое настоящее имя – ДЭВИД УОРК ГРИФФИТ» (Шикель, 1984:41). Огненные буквы тут отсылают к пророчеству Даниила и к вавилонской теме «Нетерпимости» и как бы предвещают Гриффиту создание его будущей кинематографической «поэмы». Подчеркивание его «настоящего имени» связано с псевдонимом, под которым выступал Гриффит в театре и первое время в кинематографе – Лоуренс Гриффит. Этот псевдоним как бы приписывал театральную карьеру будущего режиссера иному человеку. Подлинное имя сохранялось им для литературы. Характерно, что, регистрируя свой брак с Линдой Арвидсон, актер Гриффит записывает в церковной книге род своих занятий – «писатель» (Шикель, 1984:70), отказываясь от личины актера как ложной.
Уже завоевав прочную кинематографическую репутацию, Гриффит все еще не оставляет надежды вернуться в литературу. После успеха его экранизации поэмы Браунинга «Пиппа проходит» (1909), важной для режиссера именно как указание на нерасторжимую связь его фильмов с поэзией, Гриффит в расчете на возобновление литературной карьеры устраивает обед с приглашением ряда литераторов, в том числе и издателя «Дикой утки» Шлейхера. Арвидсон следующим образом воспроизводит монолог Гриффита, обращенный на этом обеде к Шлейхеру: «Они [кинофирмы] долго не просуществуют. Я отдал им
147
несколько лет. Но где же моя пьеса? С тех пор как я пришел в это кино, у меня не было ни минуты, чтобы заняться тем, что я раньше писал. Но я пришел в кино, потому что я твердо верил, что у меня будет время, чтобы писать, чтобы сделать что-нибудь из того, что у меня в голове. <...>. Ладно, так или иначе никто не будет знать, что я занимался такого рода вещами, когда я стану знаменитым драматургом. Никто не будет знать, что драматург Дэвид Уорк Гриффит был когда-то Лоуренсом Гриффитом из кинематографа» (Арвидсон, 1925:133).
Таким образом, даже на гребне успеха его «байографских» фильмов лишь литература сохраняет для Гриффита культурную и престижную ценность, вытесняя в его сознании не только театральное прошлое, но и кинематографическое настоящее. Отсюда понятная ориентация на литературу и, прежде всего, поэзию, уже в первых кинематографических постановках. Речь идет о своего рода иллюзорном превращении фильмов в произведения иного искусства. Можно предположить, что символический отказ от псевдонима означал преодоление уничижительной оценки своего творчества. Кинематограф в какой-то степени становится для Гриффита эквивалентом поэзии. Обращение к классической литературе является для него важным условием преодоления комплекса культурной неполноценности: «Мы сделали подряд «Макбет», «Дон Кихот», «Совесть-мститель» По, «Пески Ди» Кингсли. Мы даже вводили стихи в титры. Мы также создали «Пятно на гербе» и «Пиппа проходит» трудного Роберта Браунинга», – не без гордости вспоминал режиссер (Харт, 1972:88). После «Нетерпимости» переоценка ценностей полностью завершается. От тоски по драматургии не остается и следа. В 1917 году кинематограф провозглашается новым этапом развития поэзии и ее сущностным эквивалентом: «Сегодня можно считать общепризнанным,
148
что в области поэтической красоты кинематографическое развлечение оставило театр далеко позади. В обычном театре поэзия окончательно потеряна, но она является самой жизнью и душой кинематографа. Мы поставили множество историй Браунинга, множество стихов Теннисона, бесчисленные библейские и классические истории. Нашей целью является не столько красота, сколько мысль, а немое кино по своей специфике является колыбелью мысли» (Гедульд, 1971:53). Такого рода декларация выражает уверенность Гриффита в том, что ему удалось найти подлинный эквивалент слову не только в его эстетическом, но и в интеллектуальном аспекте. В 1921 году в статье «Кинематограф: чудо современной фотографии» он цитирует некое письмо, чьи положения он полностью разделяет: «Отныне следует делить Историю на четыре великие эпохи: Эпоху Камня, Эпоху Бронзы, Эпоху книгопечатания – и Эпоху Кино» (Гриффит, 1967:18). Таким образом, кинематограф понимается им как новый прогрессивный этап в развитии культуры. Интересна аргументация, которой подкрепляет Гриффит это положение: «Один ученый говорит нам, что во время просмотра фильма мы выполняем самое легкое в плане интеллектуальных реакций на присутствие внешнего мира. Глаз кино – это первичный глаз изо всех возможных. Можно сказать, что кино родилось из грязи первых океанов. Смотреть фильм означает становиться первобытным человеком. <...>. Изображения являются первым из средств, использованных человеком для записи своей мысли. Мы находим эти первомысли выгравированными в камне на стенах пещер и высоких скалах. Финн понимает изображение лошади так же легко, как турок.
Изображение является универсальным символом, а движущееся изображение – универсальным языком. Кто-то сказал, что кино, «возможно, ре-
149
шит проблему, поставленную Вавилонской башней» (Гриффит, 1967:21).
Подобная кинематографическая «идеология», связывающая «внесловесность» кино с первобытным мышлением, хорошо известна нам по работам Эйзенштейна 30-х годов. У Гриффита же она возникает в совершенно ином, нежели у Эйзенштейна, контексте. Здесь это – результат почти прямого переноса на кинематограф некоторых романтических идей, получивших распространение именно в среде поэтов, в том числе и любимых Гриффитом поэтов прошлого века. Гриффит вытесняет поэзию с помощью поэтической же идеологии. Неслучайно в ключевом высказывании Гриффита о кино и Вавилонской башне (приписываемом им кому-то!) легко угадывается цитата из «Всемирной песни» Уитмена, пронизанной теми же декларациями – «песни», звучащей «наперекор» <...> Вавилонскому столпотворению» (Уитмен, 1982:205).
Поскольку представления о кино как об универсальном языке непосредственно восходят к более ранним эпохам, обратимся к небольшому историческому экскурсу. На американской почве эти представления были спроецированы на поэзию в первой половине XIX века в кругу так называемых трансценденталистов – Р. У. Эмерсона, Б. Олкотта, Т. Паркера, Э. Пибоди и др. Трансценденталистская теория уходит корнями в унитарианское религиозное движение. На формирование унитарианской доктрины определяющее влияние оказало учение Джона Локка о немотивированном характере словесных знаков (см.: Локк, 1985:465). Согласно Локку, знание человека о мире приходит из опыта, язык же, как результат общественного договора, не может считаться источником знания. Локковская теория языка поставила серьезные проблемы в области экзегетики библейских текстов и привела в рамках унитарианства к потере дове-
150
рия к Священному писанию как источнику высшего знания о мире (Гура, 1981:19—31). На место словесного текста Библии трансценденталисты поставили универсум, природу, которые интерпретировались ими как текст, непосредственно написанный богом естественным языком природных метафор.
Понимание природы как своего рода первокниги не есть оригинальное изобретение трансценденталистов, оно вписывается в почтенную традицию, восходящую еще к античному кратилизму (см: Кайзер, 1972). Согласно трансценденталистам, понимание этого «природного текста» может быть осуществлено на основе сведенборговского учения о «корреспонденциях». Для Сведенборга, между божественной, духовной реальностью и материальным миром существует прочная связь – корреспонденция (соответствие). Бог создал природную книгу – материальный мир – на основе чистых корреспонденции, которые и должны быть выявлены. Путь познания для трансценденталистов был путем поиска соответствий между духовным и материальным, раскрытия символизма природы, ее «естественных метафор». В США идея природы как языка, вероятно, впервые была сформулирована в работе сведенборгианца Семпсона Рида «Наблюдения над развитием ума» (1826). Рид писал: «Существует язык не слов, но вещей. Когда этот язык будет нами узнан, человеческий язык придет к своему концу и, растворясь в тех элементах, из которых он произошел, исчезнет в природе. Использование языка является выражением наших чувство и желаний – проявлением ума. Но любая вещь, будь то животная или растительная, полна выражением того, к чему она предназначена, своего собственного существования. Если мы сможем понимать этот язык, что смогут прибавить слова к его значению?» (Миллер, 1967:57).
Рид оказал сильное влияние на Эмерсона, который использовал идеи Сведенборга – Рида в своем знамени-
151
том эссе «Природа» (1836), развившем концепцию «адамического» языка по отношению к поэзии: «В силу того, что в самом главном существует соответствие между видимыми вещами и человеческими мыслями, дикари, располагающие лишь тем, что необходимо, объясняются друг с другом при помощи образов. Чем дальше мы удаляемся в историю, тем живописнее делается язык; достигнув времени его детства, мы видим, что он весь – поэзия; иными словами, все явления духовной жизни выражаются посредством символов, найденных в природе. Те же самые символы, как выясняется, составляют первоосновы всех языков. <...>. И если это самый первый язык, он точно так же и самый последний» (Американский романтизм, 1977:192—193).
Гриффит, разумеется, знал Эмерсона, а в период создания «Рождения нации» называет его в одном ряду с величайшими деятелями мировой культуры – Шекспиром и Гете (Гриффит, 1982б:21) (отметим, между прочим, огромное значение Гете для трансцендентализма, в частности, для Эмерсона). Гриффитовская концепция эволюции мировой культуры от перво-языка к универсальному языку кинематографа, являющемуся возрождением первобытного языка, безусловно, восходит к Эмерсону. Но эту же концепцию полностью ассимилировал Уолт Уитмен. Высшая цель «Листьев травы» – адамизм «поэмы мира». Традиционной Библии здесь противопоставляется новое «природное писание», воссозданное поэтом не на листах бумаги, но на листьях травы Эдема. Поэзия Уитмена является непосредственной разработкой эмерсоновских теорий. Длинные перечисления в уитменовских стихах, например, понимаются как подвиг адамического называния всех мировых явлений. Эмерсон по этому поводу указывал: «...поэт становится называющим или Создателем Языка; он дает вещам имена – иногда согласно их внешности, иногда