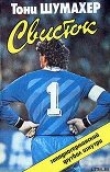Текст книги "Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф"
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
45
руясь на кинообразность, включает в себя принципиально непереводимые в изображение сложные параграммы.
Но есть в сценарии еще и третья «ориентация». В нем очевидны алхимические подтексты, в настоящее время достаточно подробно исследованные (Хеджес, 1983; Шимчик-Клющчинска, 1989). В 1932 году Арто написал статью «Алхимический театр», проследив в ней аналогию между театром и алхимией. И то и другое, по мнению Арто, обладает внутренней двойственностью, ибо ищет золото одновременно и с помощью операций над материей, и с помощью символических абстракций. Таким образом, и театр, и алхимия находятся в одной и той же области поисков связей между материальным и смысловым, дублируя тем самым общую проблематику языка. При этом, согласно Арто, и театр, и алхимия возникают в результате распада некоего первичного единства, когда театр получает конфликт, а алхимия – разделение на материальное и духовное. Задачей и театра, и алхимии Арто провозглашает «разрешение или даже ликвидацию всех конфликтов, возникших в результате антагонизма между материей и духом, идеей и формой, конкретным и абстрактным, сплав всех видимостей в едином выражении, которое должно уподобиться одухотворенному золоту» (Арто, 1968:78).
Алхимия для Арто это прежде всего расщепление изначального единства на некоторую дуальность, которая затем преодолевается восстановлением изначального единства в «золоте». Но тот же самый принцип Арто обнаруживает и в фонетической речи (дуальность которой является одним из главных предметов его размышлений). В 1934 году он публикует одну из самых загадочных и философских своих книг «Гелиогабал, или Увенчанный антихрист», где указывает на основной источник своих языковых утопий: книгу известного оккультиста начала века Фабра
46
д'Оливе «Философская история человеческого рода». Арто в «Гелиогабале» пишет о великом открытии Фабра д'Оливе, согласно которому Единое, невыразимое манифестируется в звуке, чья природа «дуальна», двойственна и основывается на столкновении двух принципов – мужского и женского. Арто писал: «...звук, акустическая вибрация передают вкус, свет, воспарение возвышенных страстей. Если происхождение звуков двойственно, то двойственно всё. Здесь начинается безумие. И анархия порождает войну и убийство сторонников. Если есть два принципа, то один из них мужской , а другой – женский» (Арто, 1979:130). История Гелиогабала (гермафродита) – это отчасти и история генезиса мира, распадающегося на мужской и женский принципы.
Алхимия Арто принимает в этом контексте подчеркнуто акустический характер, который принципиально реализуется в анаграммах, позволяющих слить в едином звучании несколько смыслов, восстановить изначальное единство. Анаграмма, таким образом, становится метафорическим способом получения «одухотворенного золота». Рассмотрим для примера только название известного сборника Арто «Пуп лимба» («Ombilic des limbes»). Оно построено на сложной игре слов. Слово «лимб» (limbes) анаграмматически включено в слово «пуп» (o[mbil]ic), кроме того, ombilic включает в себя фонетическую игру слов: homme (человек, мужчина), bilic – где в звукосочетании bilic слышатся корни слов bile – желчь и [lig]ui-de – жидкость. Помимо того ombilic – это параграмма слова alambic, которое, между прочим, означает алхимический дистиллятор. Но, может быть, самое существенное, что это слово включает в себя мистический слог ОМ (AUM, ОМ) – первозвук, первослово мира в индийской традиции, с которой Арто был хорошо знаком. ОМ – это одновременно и бог, и слово, и источник всех вещей, и носитель
47
троичного принципа (так как пишется тремя буквами). В «Мандукья-Упанишаде» говорится: «Все прошедшее, настоящее и будущее – все это есть лишь слог ОМ. И то, что за пределами этих трех времен также есть лишь слог ОМ» (Древнеиндийская философия, 1963:247). Это единство всего сущего особенно выразительно проецируется на дуальность речи и дыхания, которые, например, в «Чхандогья-Упанишаде» понимаются одновременно и как женское, и как мужское начало: «Речь и дыхание – рич и саман – образуют пару. Эта пара соединена в слоге ОМ. Поистине, когда пара сходится вместе, то каждый выполняет желание другого» (Чхандогья, 1965:49).
Для нас также существенно, что слог ОМ в индуистской традиции связан с центральным мотивом фильма – раковиной. В индийской мифологии раковина производит первозвук, господствующий над миром, мистический ОМ. Устричная раковина ассоциируется с ухом, а жемчужина в ней – со словом. Отмечаются и случаи, когда раковина в целом ассоциируется со звуком (первозвуком, который она хранит) и словом. В упанишадах раковина – атрибут Вишну – хранит первоэлементы и росток мира. Но этот росток – одновременно первозвук ОМ (Шевалье, 1982:277—278).
Поскольку ОМ сложно анаграммирован в сценарии Арто, следует привести некоторые «скрытые смыслы», которые включаются в этот слог герметической традицией. ОМ – анаграмма «mot» («слово»). Две составляющие его буквы также имеют особый смысл: М – это иероглиф воды (действительно восходящий к древнеегипетскому иероглифу и получивший такую интерпретацию еще у Атанасия Кирхера). М также символизирует мать, женщину. О – по-французски eau – означает воду. Таким образом, внутри ОМ скрыто символическое равенство О-М (вода-вода).
48
Расположенные вертикально, те же буквы имеют иной, иероглифический смысл:
 – здесь О – это солнце и глаз божества над
– здесь О – это солнце и глаз божества над
 М – водой, первостихией творения (Рише, 1972:36—37). Следует обратить особое внимание на то, что в сценарии Арто священник систематически, начиная с первой фразы, называется homme (ом) – мужчина. При этом слово мужчина в данной герметической традиции парадоксально предстает как знак женского, водяного. Мужчина (ом) выступает как алхимический андрогин. Раковина же как символическое воплощение того же ОМ является своего рода двойником мужчины, вторым принципом, лежащим в основе акустической манифестации мира. Фильм, таким образом, может прочитываться как мистическая притча о творении мира из двух единых и разделенных принципов.
М – водой, первостихией творения (Рише, 1972:36—37). Следует обратить особое внимание на то, что в сценарии Арто священник систематически, начиная с первой фразы, называется homme (ом) – мужчина. При этом слово мужчина в данной герметической традиции парадоксально предстает как знак женского, водяного. Мужчина (ом) выступает как алхимический андрогин. Раковина же как символическое воплощение того же ОМ является своего рода двойником мужчины, вторым принципом, лежащим в основе акустической манифестации мира. Фильм, таким образом, может прочитываться как мистическая притча о творении мира из двух единых и разделенных принципов.
Поскольку анаграммирование осуществляется исключительно в словесном слое сценария, особое внимание следует обратить на использованные Арто слова. Герой сценария обозначается двумя словами – «homme» и «clergyman» – священник. Последнее слово вынесено и в заглавие. Избранное Арто обозначение священника «clergyman» мало привычно французскому слуху и относится только к англиканским пасторам. Можно предположить, что и в данном случае выбор этого редкого слова определяется фонетической анаграмматикой. В нем явственно прочитываются два слова «l'air» – «воздух» и «hymen» (гимен), означающее и «брак», и «девственную плеву» («девственная стыдливость» священника проявляется тогда, когда он начинает натягивать на ляжки фалды своей одежды). Обозначение одного и того же героя двумя именами может быть равнозначно введению в текст объединенных воедино двух стихий – воды и воздуха. «Гимен» отсылает не только к женской природе священника, но и к идее алхимического брака.
49
Поскольку сюжет сценария шифрует в себе целый ряд алхимических процедур, то и сам параграмматизм избранного Арто письма также шифрует некую алхимическую акустическую трансформацию, а именно превращение ОМ в золото – OR.
Напомним финальную сцену сценария: «...из-за уборки приходится перенести стеклянный шар, который является ничем иным, как своего рода вазой, заполненной водой. <...> молодые вновь оказываются женщиной и священником. Такое впечатление, что сейчас их поженят. Но в этот момент во всех углах экрана нагромождаются, возникают те видения, которые проходили в сознании спящего священника. Экран разрезан надвое видением гигантского корабля. Корабль исчезает, но по лестнице, которая, казалось бы, уходит в небо, спускается священник без головы, в руке он несет завернутый в бумагу пакет. Войдя в комнату, где все уже собрались, он разворачивает бумагу и вынимает из нее стеклянный шар. Внимание присутствующих напряжено до предела. Тогда он наклоняется к земле и разбивает стеклянный шар: из него возникает голова, ничья иная как его собственная.
Эта голова корчит мерзкую гримасу.
Он держит ее в своей руке как шляпу. Голова покоится на устричной раковине. Когда он подносит раковину к губам, голова растворяется и превращается в темную жидкость, которую он выпивает, закрыв глаза» (Арто, 1988).
Не будем углубляться в непосредственно алхимическую символику данного эпизода, разобранную Шимчик-Клющчинской. Укажем лишь на связь стеклянного шара с раковиной и алхимическим сосудом – алембиком, отметим и мотив алхимического брака. Укажем также, что лестница, уходящая в небо, – это лестница Иакова – известный мотив алхимической иконографии (в том числе и установленная на берегу моря) (Немая книга, 1980: гравюра 1).
50
Для нас существенно другое. Финальный эпизод в самых темных своих мотивах (раковина, голова, питье) может быть расшифрован именно через возникновение в конце алхимического золота и обозначающего его слова (слога) OR. OR – мистический корень, обозначающий свет. В герметической традиции он часто пишется тремя буквами AUR и тем самым, как и ОМ, связывается с троичностью. Мистики обнаруживают его в имени высшего иранского божества Ахурамазды (Ормазда) (AHURA-MAZDA), которое обозначает «воздействующее слово». В новоевропейской кабалистике OR получает особое значение. Фабр д'Оливе в своем «Восстановленном древнееврейском языке», в частности, отмечает, что буква R иероглифически означает голову, а О, как мы уже указывали, – воду. Поэтому сочетание О и R (соединение золота из разделенных элементов, преодоление дуальности) так или иначе связывается с процессом питья. Ж. Рише обнаруживает игру этих иероглифов в стихотворении Рембо «Слеза», которое кончается следующими двумя строчками:
Золото! (Оr) подобно ловцу золота и раковин
Я совсем забыл о питье! (Рише, 1972:50—51).
Не будем вдаваться в символику стихотворения Рембо. Отметим только соединение в одном контексте золота, раковины и питья. Речь тут, кстати, может идти и о жидком золоте алхимиков. Для нас не важно то, что соединение в одном эпизоде головы, раковины и питья, по существу, подобно ребусу, шифрует возникновение золота как иероглифа из звука ОМ (раковина).
Подтверждение этому обнаруживается и в звукописи последнего абзаца сценария, которой Арто, чуткий к вопросам акустической мистики, не мог не придавать значения. Придется привести последний абзац сценария по-французски: «Il la tient dans sa main cOMme un chapeau. La tête repose sur une coquille d'hu-
51
itre. COMme il approche la coquille de ses lèvres la tête fond et se transFORMe en une sORte de liquide noirâtre qu'il absORbe en fermant les yeux» (Арто, 1978:25).
Мы выделили в тексте те ключевые слоги, через которые происходит «алхимическая трансмутация» ОМ и OR. Фонетически структура здесь выдержана с предельной симметрией. Сначала два раза повторяется слог ОМ, затем два раза OR. В центре «шарнирное» слово, место перехода («превращается», «транс-фОРМируется»), где в трезвучии ORM происходит соединение ОМ и OR.
Появление в финале темной (в подлиннике – «черноватой») жидкости может получить дополнительное толкование также через известный во Франции мистический трактат «Яйцо Кнефа, тайная история нуля», изданный в Бухаресте в 1864 году под именем Анж Пешмейа. Здесь приводится рисунок мирового яйца, соотносящего между собой буквы алфавита. О здесь выступает как источник всех гласных, a R как источник всех согласных (ср. с двойственной природой звуков у Фабра д'Оливе и Арто). При этом О символизируется белым Иеговой, a R – черным Иеговой (столь любимая Арто идея двойников). Таким образом, трансмутация одного фонетического начала ОМ в другое OR вполне может описываться через введение черного (Рише, 1972:81).
Между прочим, в «Яйце Кнефа» содержится любопытнейший кусок, где через этимологию устанавливается семантическое (или вернее – символическое) поле слова «золото» – OR. Среди упомянутых здесь слов (а автор привлекает и анаграмму RO), мы найдем большинство мотивов «Раковины и священника»: латинское ORtus – рождение, арабское – qOURo-un – корона, бретонское ÔRaba – повозка, славянское гОРод, польское gÔRa – гора, греческое amphORa – сосуд и т. д (Рише, 1972:128—129).
Таким образом, акустический элемент может слу-
52
жить неким «зародышем», из которого способна разворачиваться на анаграмматической основе целая цепочка мотивов.
Сказанного достаточно, чтобы высказать еще одно предположение о недовольстве Арто фильмом Дюлак. Предложенный сценарий попросту не мог быть поставлен, так как фундаментальные элементы его логики были укоренены в фонетическом и иероглифическом слое словесного письма Арто. Естественно, этот слой не мог быть адекватно переведен в визуальный ряд фильма. Сценарий был как бы обречен на нереализуемость или реализуемость до такой степени ущербную, чтобы вызывать по меньшей мере неудовольствие сценариста.
Но вопросы, возникающие вокруг сценария «Раковины и священника», выходят далеко за пределы чисто фактографического интереса к истории отношений Арто и Дюлак. Речь идет, по существу, о том, почему Арто выбрал именно параграмматическую модель смыслообразования при написании сценария. Мы уже указывали на то, что анаграмматизм по-своему снимает дуализм смысла и звука и этим родственен кинематографу, чей «язык» зиждется на своеобразной нерасторжимости означающего и означаемого. По мнению Л. Уильяме, «для Арто именно отсутствие кинематографического означающего создает видимость защиты против похищения его речи Другим» (Уильяме, 1981:22).
Анаграмматизм письма Арто явственно ориентирован на преодоление фонетического в иероглифическом. ОМ может в таком контексте уподобляться раковине, включать в себя иероглиф воды, OR – иероглифически компоновать мотив головы и воды и т. д. Таким образом, анаграмма является наиболее прямым способом превращения фонетического в зримое, она как бы несет в себе внутренний механизм экранизации, если под экранизацией понимать превращение
53
словесного в видимое. Но эта алхимическая «трансмутация» «акустического» в «пиктографическое» одновременно сопротивляется всякому реальному процессу экранной визуализации. Экранизация как бы заложена, анаграммирована в самом словесном тексте, что исключает дальнейшее продвижение этого текста к экрану.
В. Что такое цитата? Проблематика иероглифа в кино требует специального рассмотрения (мы еще раз вернемся к ней, когда речь пойдет об интертекстуальности у Гриффита). Арто однозначно выступал за замену фонетической речи в театре речью иероглифической. В Первом манифесте театра жестокости он писал: «В остальном следует найти новые средства для записи этой речи (акустической. – М. Я.) либо с помощью средств, родственных музыкальной нотации, либо на основе использования шифрованной речи.
Теперь – относительно обычных предметов или даже человеческого тела, возведенных в достоинство знаков. Очевидно, что здесь можно вдохновляться иероглифическим письмом не только для обозначения этих знаков в читаемой форме и их, по мере необходимости, воспроизведения, но и для построения на сцене отчетливых и легко читаемых символов» (Арто, 1968:143).
Деррида убедительно показал, что концепция иероглифа у Арто тесно связана с фундаментальной трансформацией идеи представления (репрезентации). Представление слова заменяется «разворачиванием объема, многомерной среды, опыта, производящего свое собственное пространство» (Деррида, 1979:348). Деррида обозначает эту замену как «закрытие классической репрезентации» или иначе – «создание закрытого пространства первичной репрезентации». «Пер-
54
вичной» в данном случае означает – жестовой, дословесной. Деррида дает и еще одно определение этой новой репрезентации как «само-презентации видимого и даже чувственного в их чистоте» (Деррида, 1979:349).
Но это закрытие репрезентации на объем, пространство, чистые видимость и чувственность придают иероглифу черты телесности, обладающей самодовлеющим характером, они подрывают в иероглифе свойства знака. Знак перестает быть прозрачным транслятором смысла от означающего к означаемому. И этот процесс протекает всюду, где письмо, особенно в его пиктографической форме, приобретает предметность. Эзра Паунд, считавший китайскую иероглифику моделью поэтической образности, утверждал, что образ – «это форма взаимоналожения, иными словами, одна идея положенная на другую» (Паунд, 1970:53; см. об этом Малявин, 1982). Построенный таким способом образ Паунд клал в основу «вортицизма» и противопоставлял «вортицизм» импрессионизму, наивысшим выражением которого он считал кинематограф (Паунд, 1970:54). Нечто совершенно аналогичное, но несколько позже, мы обнаруживаем и у Эйзенштейна, противопоставлявшего естественной (импрессионистской) миметичности домонтажного кино монтаж как своеобразную форму реализации все той же идеи иероглифической пиктографии. Эйзенштейн так писал об элементах иероглифа, уподобляемых им элементам монтажа: «...если каждый в отдельности соответствует предмету, факту, то сопоставление их оказывается соответствующим понятию. Сочетанием двух «изобразимых» достигается начертание графически неизобразимого» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 2:284).
Если вдуматься в суть этих «нагромождений» одного на другого, составляющих основу иероглифики в понимании Паунда, Эйзенштейна, Арто, мы легко
55
обнаружим здесь, во-первых, вариант анаграмматического сочетания элементов, а во-вторых, ясно различимую идею уничтожения прозрачной знаковости элементов, входящих в «иероглиф».
Когда Эйзенштейн пишет о том, что в иероглифике «изображение воды и глаза означает – «плакать» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 2:285), то во имя достижения понятия «плакать» разрушаются гораздо более очевидные, «простые» иконические смыслы изображения воды и глаза. Отмеченное нами нарастание чистой пространственности, телесности в иероглифе идет, таким образом, параллельно разрушению первичного иконизма, того, что мы бы назвали миметическим слоем речи. С точки зрения Эйзенштейна или Паунда, разрушение смысла элементов иероглифа с лихвой компенсируется каким-то иным совокупным смыслом, надстраивающимся над разрушенным мимесисом. Однако такой вывод далеко не очевиден. Взаимоналожение воды и глаза, конечно, может дать понятие «плакать», но может и не дать. Иероглифический смысл всегда гораздо менее очевиден, чем смысл миметический и в огромном количестве случаев не реализуется в восприятии. Прорыв к новому смыслу, таким образом, вполне вероятно может завершиться разрушением смысла и финальным нарастанием лишь чистой «телесности», само-презентацией чувственного.
Исследователи, которые с современных позиций анализировали иероглифическую модель письма применительно к кинематографу (в том числе и эйзенштейновскую теорию), пришли к выводу, что иероглифика, усиливая гетерогенность (разнородность) текста, «ломает знак» (Ульмер, 1985:271). Самое поразительное в этом то, что на первый взгляд пиктография как бы восстанавливает мотивированность (миметичность) знака, его связь с предметами внешнего мира. В действительности, иероглифика за счет взаимонало-
56
жения элементов подрывает миметичность текста. М. К. Ропарс-Вюйемье ставит достаточно точный диагноз протекающим процессам: «Речь постоянно идет о том, чтобы, вернувшись к Кратилу, мотивировать знак, приблизить его к вещи: то есть превратить букву, слово в фигуру реальности. В таком контексте, напротив, поиск кинематографического иероглифа, по видимости, основывается на демотивации изображения по отношению к представляемому им предмету: иными словами, на диссоциации фигурации и значения» (Ропарс-Вюйемье, 1981:71).
Все эти рассуждения по поводу иероглифики, вытекающие из самого существа параграммы, непосредственно относятся и к теории интертекстуальности. Ведь интертекстуальность наслаивает текст на текст, смысл на смысл, по существу «иероглифизируя» письмо. Принципиальный вопрос, который в связи с этим возникает, можно сформулировать следующим образом: открывает ли интертекстуальность новую смысловую перспективу (открывает смысл) или, напротив, создает такое сложное взаимоналожение смыслов, которое в какой-то мере аннигилирует финальный смысл, иероглифизирует знак, «закрывая» классическую репрезентацию.
Ответ на этот вопрос, конечно, не может быть однозначным. Но даже сама его постановка говорит о том, что в данной сфере мы подходим к границам семиотики, к тому пределу, за которым смысл как бы уплотняется до видимости, до саморепрезентации, до тела.
Для дальнейшего продвижения вперед нам следует поставить вопрос о том, что такое цитата и в какой мере цитате свойственны те черты, которые были обнаружены в анаграмме или иероглифе.
Для примера возьмем тексты, по существу всецело составленные из цитат. В эпоху поздней античности существовал целый поэтический жанр, который строился из мозаики цитат классических авторов.
57
Этот жанр назывался центоном (буквально – лоскутная ткань, сшитое из разных кусков одеяло). М. Л. Гаспаров и Е. Г. Рузина, исследовавшие центоны на материале поэзии Вергилия, отмечают, что сам этот жанр свидетельствует не столько о литературной преемственности, сколько о «глубоком историко-культурном разрыве между материалом и его центонной обработкой» (Гаспаров, 1978:210). Центон ломает органику связей с традицией, одновременно представая перед читателем как внутренне неорганичный текст – лоскутная ткань.
Из современных авторов настоящим создателем «центонов» можно считать Вальтера Беньямина, мечтавшего о тексте, который был бы «коллекцией цитат». Для Беньямина цитирование заменяет собой прямую связь с прошлым. Передача прошлого в настоящее заменяется цитированием. Но это цитирование, по Беньямину, выполняет отнюдь не консервативную по отношению к прошлому функцию. Речь идет о желании уничтожить настоящее, иными словами, все ту же классическую репрезентацию, которая разворачивается именно в настоящем времени1. X. Арендт замечает, что в результате сила цитаты заключается «не в том, чтобы сохранить, но в том, чтобы очистить, вырвать из контекста, разрушить. <...>. Принимая форму «фрагментов мысли», цитата имеет двойную функцию – прорывать ход изложения «трансцендирующей силой» и одновременно концентрировать то, что излагается» (Арендт, 1986:292).
Известно, что интерес к цитатам у Беньямина возникает под воздействием Карла Крауса, разработавшего «метод некомментируемых цитат». Показательно, что Краус настойчиво называл цитирование «письменным актерством» (Кролоп, 1977:668—669). Это вторжение театрального в письмо отражает ломку однородности текста, введение в текст некой сцены, некоего чужеродного и отчасти замкнутого на себя фрагмента,
58
которым и является цитата. Не случайно, конечно, тот же Беньямин видит в современной эпохе не только нарастание цитируемости, но и тенденцию к замене «культовой» ценности произведения искусства «выставочной» ценностью, то есть нарастание театрального эксгибирования художественного текста (Беньямин, 1989:157). Цитата в этом контексте может пониматься как микрофрагмент текста, приобретающий элементы той же выставочной ценности. В кинематографе это метафорическое превращение цитаты в подобие живописного полотна или театральной сцены в каком-то смысле подтверждается и особыми свойствами кино2. Реймон Беллур указывал на то, что кинематографический текст не может быть процитирован аналитиком, поскольку аналитик работает с письменным текстом. Нецитируемость фильма в письменном тексте даже приводит Беллура к мысли, что сама «текстуальность» фильма является метафорой. Исследователь указывает, что единственная возможность цитировать фильм в письме – это воспроизводить фотограммы из фильма: «...письменный текст не может воссоздать того, что доступно лишь проекционному аппарату: иллюзию движения, гарантирующую ощущение реальности. Вот почему воспроизведение даже многочисленных фотограмм всегда лишь выявляет нечто вроде непреодолимой беспомощности в овладении текстуальностью фильма. Между тем эти фотограммы исключительно важны. Они действительно являются приспособленным к нуждам чтения эквивалентом стоп-кадров, получаемых на монтажном столе и имеющих несколько противоречивую функцию открывать текстуальность фильма в тот самый момент, когда они прерывают его развертывание» (Беллур, 1984:228).
Наблюдение Беллура для нас интересно, поскольку он подчеркивает фрагментарность, статичность фильмической цитаты, ее превращение в фотограмму,
59
нарушающую саму «естественную» логику развертывания фильма. Но дело не только в этой картинной, сценической «неорганичности» фотограммы как цитаты, а в том, что именно она «открывает текстуальность фильма», то есть позволяет прикоснуться к спрятанным в нем процессам смыслообразования. Парадоксальным образом смысл, текстуальность начинают мерцать там, где естественная жизнь фильма нарушается.
Это явление достаточно убедительно проанализировано Р. Бартом, который показал, что так называемый «третий смысл» (то есть неясный, неартикулированный смысл, смысл в его смутном становлении) лучше всего вычитывается именно из фотограммы, из изолированного статичного кадра: «Вот почему в определенной мере (мере нашего теоретического лепета) фильмическое (что парадоксально) не может быть обнаружено в «движущемся», «естественном» фильме, но лишь в таком искусственном образовании, как фотограмма. Давно уж я заинтригован этим явлением: я интересуюсь, меня притягивают кадры из фильмов (у входа в кинотеатр, на страницах «Кайе»), но потом теряется то, что я вычитал из фотографий (не только извлеченное, но даже воспоминание о кадре), лишь только я попадаю в зал: переход вызывает полную переоценку ценностей» (Барт, 1984:186). Смысл, таким образом, проявляется лишь в цитатах, если вслед за Беллуром увидеть в фотограммах образец кинематографической цитаты. Смысл возникает в текстовых «аномалиях», к которым относятся фотограммы.
Цитата останавливает линеарное развертывание текста. Л. Женни замечает: «Свойство интертекстуальности – это введение нового способа чтения, который взрывает линеарность текста. Каждая интертекстуальная отсылка – это место альтернативы: либо продолжать чтение, видя в ней лишь фрагмент,
60
не отличающийся от других и являющийся интегральной частью синтагматики текста – или же вернуться к тексту-источнику, прибегая к своего рода интеллектуальному анамнезу, в котором интертекстуальная отсылка выступает как «смещенный» парадигматический элемент, восходящий к забытой синтагматике» (Женни, 1976:266).
Но эта альтернатива не всегда реализуема. Возникающие в тексте аномалии, блокирующие его развитие, вынуждают к интертекстуальному чтению. Это связано с тем, что всякий «нормальный» нарративный текст обладает определенной внутренней логикой. Эта логика мотивирует наличие тех или иных фрагментов внутри текста. В том же случае, когда фрагмент не может получить достаточно весомой мотивировки из логики повествования, он и превращается в аномалию, которая для своей мотивировки вынуждает читателя искать иной логики, иного объяснения, чем то, что можно извлечь из самого текста. И поиск этой логики направляется вне текста, в интертекстуальное пространство. Альтернатива сохраняется лишь тогда, когда аномальный фрагмент может быть убедительно интегрирован в текст двояко – через внутреннюю логику повествования и через отсылку к иному тексту. М. Риффатерр так формулирует эту дилемму: «...семантические аномалии в линеарности заставляют читателя искать решения в нелинеарности» (Риффатерр, 1979:86). Не получая мотивировки в контексте, они ищут ее вне текста.
Тот же Риффатерр предлагает рассматривать возникающую ситуацию в рамках оппозиции между мимесисом и семиосисом. Можно утверждать, что текстовая аномалия (или фрагмент, который нам – читателям, зрителям – не удается убедительно интегрировать в текст) нарушает спокойствие мимесиса, свободную проницаемость знака. Но именно в месте этого нарушения начинает интенсивно проявляться семиосис, то
61
есть начинает вырабатываться смысл, который как бы растворяется в местах непотревоженного мимесиса, растворяется в самом безболезненном процессе движения от означающего к означаемому. Это связано с тем, что цитата нарушает связь знака с неким объектом реальности (миметическую связь), ориентируя знак не на предмет, а на некий иной текст. Риффатерр отмечает: «...этот переход от мимесиса к семиосису возникает в результате наложения одного кода на другой, от наложения кода на структуру, которая не является его собственной» (Риффатерр, 1978:198). За счет привлечения читателем иных кодов, иных текстов цитата получает свою мотивировку и тем самым не только втягивает в текст иные смыслы, но и восстанавливает нарушенный мимесис. Интертекстуальность в этом смысле может пониматься не только как обогатитель смысла, но и как спаситель нарушаемой ею же линеарности.
В свете сказанного мы можем подойти и к новому пониманию цитаты. Мы определим ее как фрагмент текста, нарушающий линеарное развитие последнего и получающий мотивировку, интегрирующую его в текст, вне данного текста.
В такой перспективе то, что традиционно принято считать цитатой, может таковой не оказаться, а то, что цитатой традиционно не считается, может таковой стать. Поясним это утверждение на примерах. Известно, что Годар относится к числу наиболее ориентированных на интертекстуальность режиссеров. Некоторые его фильмы строятся почти как коллажи из цитат. Эта страсть к цитированию проявилась у него уже в первом фильме «На последнем дыхании». Годар рассказывал: «Наши первые фильмы были чисто сине-фильскими. Позволительно было использовать уже увиденное в кино для откровенных ссылок. <...>. Некоторые планы я снимал, соотнося их с уже существующими, теми, что я знал у Преминджера, Кьюкора и
62
т. д. <...>. Все это связано с присущим мне и сохраняющимся поныне вкусом к цитированию. К чему нас в этом упрекать? Люди в жизни цитируют то, что им нравится. И у нас соответственно есть право цитировать то, что нам нравится. Итак, я показываю людей, которые цитируют: правда, я стараюсь, чтобы то, что они цитируют, мне нравилось» (Годар, 1985:216—218).
«На последнем дыхании» нашпигован всевозможными цитатами, о которых Годар охотно рассказывал. Наиболее объемный слой цитирования приходился на американский «черный фильм». Годар признавался: во время съемок он считал, что делает фильм того же жанра (Годар 1980:25). В одном из эпизодов героиня фильма Патриция пытается повесить в комнате героя Мишеля принесенную ей афишу-репродукцию картины Ренуара. Она примеряет ее то на одну, то на другую стену, в конце концов сворачивает в трубку и смотрит сквозь нее на Мишеля. Затем Патриция и Мишель целуются, и девушка отправляется в ванную комнату, где и прикрепляет афишу к стене. В этом эпизоде нет ничего такого, что нарушало бы линейное развертывание рассказа. Между тем сам Годар указывал, что в данном эпизоде скрыта цитата. В тот момент, когда Патриция смотрит в свернутую трубкой афишу, режиссер цитирует сцену из «Сорока ружей» Сэмюэля Фуллера, где один из героев смотрит на своего антагониста сквозь прицел ружья (Эндрью, 1988:18). Эта цитата выполняет двойную функцию. С одной стороны, она отсылает через фильм Фуллера к жанру «черного фильма» и устанавливает, используя выражение Жерара Женетта, архитекстуальную связь (Женетт, 1979:88), так как жанр в качестве совокупности однотипных текстов может пониматься как архитекст. Иными словами, эта цитата подтверждает принадлежность фильма Годара определенному жанру и задает соответствующие этому жанру коды чтения.