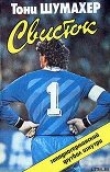Текст книги "Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф"
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Нет необходимости более подробно сравнивать повесть Гофмана и тыняновского «Киже». Отметим, однако, что гофмановская повесть – не просто некий интертекст для той или иной цитаты. Речь идет о своего рода «гипотексте», который соотносится с «Киже» в целом, пробиваясь соответствиями во множестве мест вдоль всего текста Тынянова. Именно поэтому мы и вправе говорить о том, что «Киже» строится как пародийный текст, как преображение и переписывание некоего источника.
Это тотальное соотнесение двух произведений, вероятно, необходимо Тынянову для того, чтобы систематически вводить «удвоение» внутрь своего сюжета и в конечном итоге внутрь своего «нулевого» персонажа. Эта сдвоенность, создаваемая пародийным подтекстом, не позволяет герою предстать в виде ясно
351
очерченной, физически ощутимой фигуры. Персонаж постоянно оказывается в фокусе зеркал двух текстов, зыблясь между ними. Для Тынянова вообще характерно отрицательное отношение к материализации словесного образа в зримой наглядности. Он пишет об этом в статье «Иллюстрации» (1923). Здесь осуждается непосредственный перевод словесных образов в изобразительные. Так, например, он пишет по поводу иллюстраций к «Евгению Онегину» из «Невского альманаха»: «Вместо колеблющейся эмоциональной линии героя, вместо динамической конкретности, получавшейся в сложном итоге героя, перед Пушкиным оказалась какая-то другая, самозванная конкретность, вместо тонкого «авторского лица» плотный «зад»...» (Тынянов, 1977:314).
Сами формулировки Тынянова здесь более чем выразительны: «колеблющаяся линия героя» и особенно – «итог героя». Персонаж складывается как некий итог, как сумма, возникающая из «динамической конкретности». Но «итог» в данном случае – это как раз результат суммирования, взаимоналожения, в том числе и нескольких текстов. Тынянов пишет: «Как Гоголь конкретизирует до пределов комической наглядности чисто словесные построения («Невский проспект»), так нередко каламбур разрастается у Лескова в сюжет («Штопальщик»). Как уничтожается каламбур, когда мы его поясняем, переводим на быт, так в рисунке должен уничтожиться главный стержень рассказа» (Тынянов, 1977:314). «Главный стержень рассказа» – это каламбур, это «чисто словесные построения», то есть очаги сдвигов, сгущений, взаимоналожения интертекстов. Именно они и должны конкретизироваться вплоть до возникновения тела персонажа, никак не изобразимого наглядно. Эта конкретизация «тела» как «итога героя» ищется Тыняновым и в других фильмах. Как показали Ю. Лотман и Ю. Цивьян, героем «Шинели» «становится персонаж,
352
строго говоря, в прозе Гоголя не существующий» и являющийся итогом объединения «под «смысловым знаком» не только различных персонажей, но и персонажей различных текстов» (Лотман—Цивьян, 1984:47). А сам сценарий «Шинели», уподобляемый исследователем палимпсесту, складывается из множества текстов и превращается в «своего рода интертекст» (Цивьян, 1986:26).
Суммируя негативное воздействие иллюстраций, Тынянов заключал: «Иллюстрация дает фабульную деталь – никогда не сюжетную. Она выдвигает ее из динамики сюжета. Она фабулой загромождает сюжет» (Тынянов, 1977:318).
К этой же проблеме Тынянов вернулся позже в своем главном теоретическом труде по кино «Об основах кино». Заключительные 11—14 разделы этой статьи посвящены им проблеме взаимосвязи сюжета, фабулы и стиля – ключевой для его поэтики. Однако, в отличие от остальных разделов работы, Тынянов здесь в основном ограничивается отсылками к литературе, некоторыми общими декларациями и сам указывает на непроясненность этого сложного вопроса (Тынянов, 1977:345).
Если анализируя книжные иллюстрации, Тынянов почти без остатка относил изображения к фабуле, то в «Об основах кино» он указывает на возможность чисто «стилевого», внефабульного кинематографа (Тынянов, 1974:342), но поясняет это положение не кинематографическим примером, а ссылкой на «Нос» Гоголя (Гоголь – один из ключевых примеров и статьи «Иллюстрации»). Укажем, между прочим, что «Нос» наряду с «Цахесом» также входит в пародийный подтекст «Киже». По поводу «Носа» Тынянов пишет: «...отрезанный нос превращен семантической (смысловой) системой фраз в нечто двусмысленное: «что-то», «плотное» (средн. род), «его, он» (очень часто местоимение, в котором всегда блекнут предметные,
353
вещные признаки), «позволить носу» (одушевление) и т. д. И эта смысловая атмосфера, данная в каждой строке, стилистически так строит фабульную линию «отрезанного носа», что читатель, уже подготовленный, уже втянутый в эту смысловую атмосферу, без всякого удивления читает потом такие диковинные фразы: «Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились».
Так определенная фабула становится элементом сюжета: через стиль, дающий смысловую атмосферу вещи» (Тынянов, 1977:343).
Таким образом, преодоление голой фабульности иллюстрации, ее погружение в «сюжетизирующий» стиль для Тынянова было связано с гоголевским умалением «предметных, вещных признаков», «чем-то двусмысленным». В стихах такой эффект достигался переносом акцента на колеблющиеся признаки значения. В иллюстрациях «неопределенность, широкие границы конкретности – первое условие» (Тынянов, 1977:313). И Тынянов отмечает: «...задача рисунков относительно поэзии скорее негативная, нежели положительная... <...>. Только ничего не иллюстрируя, не связывая насильственно, предметно слово с живописью, может рисунок окружить текст» (Тынянов, 1974:316). Любопытно при этом, что в качестве лучшего примера авторской иллюстрации Тынянов называет рисунки Гофмана. Эта негативность, воплощенная в самом персонаже Киже, именно в пародии находит возможность «окружить текст», не связывая его «предметно». В своей первой теоретической работе о пародии «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» (1921) Тынянов пишет о «двойной жизни» пародии: «...за планом произведения стоит другой план, стилизуемый или пародируемый. Но в пародии обязательна невязка обоих планов, смещение их» (Тынянов, 1977:201). И в ином месте: «Пародия существует постольку, поскольку сквозь произведение просвечи-
354
вает второй план, пародируемый; чем уже, определеннее, ограниченнее этот второй план, чем более все детали произведения носят двойной оттенок, воспринимаются под двойным углом, тем сильнее пародийность» (Тынянов, 1977:212). Не случайно, конечно, Тынянов, а после него и В. Виноградов (Виноградов, 1976:230—366) рассматривали пародии именно на Гоголя, бывшего образцом «двусмысленности», «распредмеченности». Пародирование изначально расслоенного «двойного» стиля Гоголя еще более усиливало черты двойственности, зыбкости текста, столь важные для Тынянова в процессе преодоления фабульности. Не случайно, конечно, сам Тынянов спрятал в подтекст Киже гофмановского «Цахеса» – насквозь двойственный, пародийный, зыблющийся текст, а также отчасти гоголевский «Нос» – излюбленный им пример антииллюстративности.
Показательно и то, что в первом варианте сценария, где Киже предстает в виде шинели, сильна ориентация на «Шинель» Гоголя5, которая вместе с исчезновением самого предмета замещается ориентацией на «Нос», проступающей в более скрытых, менее декларативных отсылках. После исследования Виноградова (1921) «Нос» по существу превратился в знак повышенной интертекстуальности. Виноградов указывал, что в основу этой повести «положен ходячий анекдот, объединивший те обывательские толки и каламбуры о носе, о его исчезновении и появлении, которые у литературно образованных людей начала XIX столетия осложнялись еще реминисценциями из области художественного творчества. Ведь даже в 50-х годах Н. Чернышевскому новелла Гоголя «Нос» представлялась «пересказом общеизвестного анекдота». А литературная атмосфера 20—30-х годов была насыщена «носологией»» (Виноградов, 1976:5). В этом контексте «Нос» предстает как своего рода гиперцитата, способная напластованием разнородных подтекстов
355
заменить наглядную шинель и конкретизироваться
в тело.
Пародийный элемент в замысле «Киже» очень разнолик. Он, например, выражен в подчеркнутой театральности многих эпизодов фильма. Акцентирование в герое актерского элемента, по Тынянову – один из первейших признаков пародии («...в театрально-драматической пародии вместо героя выступает актер...» – Тынянов, 1977:302). Элемент актерского – непременное условие и разобранного Тыняновым феномена «пародической личности» (Тынянов, 1977:303—308). В фильме Файнциммера во многих эпизодах вводятся прямые знаки театра – занавес и театральный подиум-сцена. Многоярусный занавес – композиционная основа сцены первой брачной ночи Киже и Сандуновой, пародирующей водевиль. Занавес мелькает в сцене прибытия Киже во дворец и т. д. Театральность общего рисунка фильма также пародийна по отношению к повести Гофмана с ее выраженным театральным подтекстом, знаком которого являются, например, гротескные доктора – классические персонажи фарсов (см.: Скобелев, 1982), затем заимствованные Тыняновым.
Театр внутри фильма есть фундаментальное для пародии средство перевода одной системы в другую. Однако оно не может являться основополагающим кинематографическим принципом.
Подлинно кинематографический эквивалент «пародийности» был найден в зеркале и зеркальной структуре кинематографического пространства. Зеркало – классическая метафора пародии (особенно «кривое зеркало»). Вспомним тыняновские формулы: «сквозь произведение просвечивает второй план», «детали произведения носят двойной оттенок, воспринимаются под двойным углом» (выделено мной. – М. Я.). Отметим, между прочим, и метазначение метафоры для поэтики пародии, на которое обращал внимание
356
сам Тынянов: «...сила вещных метафор как раз в невязке, в несходстве соединяемого...» (Тынянов, 1977:206). Но введение в фильм о Киже зеркала в его вещности и есть, по сути дела, введение в структуру фильма метаметафоры, описывающей его поэтику.
Необычайно интенсивное введение зеркал (реальных или подразумеваемых) в структуру фильма Тынянова-Файнциммера вновь возвращает нас к проблематике субъективной камеры. Дело в том, что зеркало, фронтально обращенное к взгляду зрителя, подчеркивает линейную перспективу (ср. широкое использование зеркал открывателями линейной перспективы в эпоху Возрождения) точно так же, как и субъективная камера.
Между тем, зеркало, повернутое к зрителю и объекту отражения под углом, работает, наоборот, на разрушение однородной линейности пространства (и связанной с ним идеи субъективной камеры), вводя в него вторую точку схода своего собственного химерического зеркального пространства. Поэтика таких сдвоенных «угловых» пространств интенсивно разрабатывалась немецкими романтиками с их склонностью к изображению фигуры со спины (Ruckenansicht), когда лицо либо не возникало вовсе, либо отражалось под углом в ориентированном зеркале, как, например, у Фридриха Керстинга. В его «Вышивальщице» (1812) девушка с шитьем повернута к нам спиной, но лицо ее странно отражается в зеркале – так, что у зрителя возникает определенная трудность в соотнесении фигуры девушки и ее лица в отражении. Совмещая их в сознании, зритель тем не менее не в состоянии преодолеть ощущения их пространственной разорванности.
Аналогичное явление отмечает В. Н. Прокофьев, анализируя использование наклонных зеркал в картинах Дега: «Именно это совмещение в одной картине разных точек зрения и создает столь характерное для
357
искусства зрелого Дега впечатление колеблющегося, покачивающегося, оптически трансформирующегося пространства, такого, которое, будучи точно зафиксировано на холсте, продолжает пребывать в движении и становлении – совсем как пространство проецируемой киноленты» (Прокофьев, 1984:116).
Тынянов и Файнциммер в создании «колеблющихся признаков» ориентировались именно на аналогичные зеркальные конструкции, которые уже «испытывались» Тыняновым в прозе. Так, в «Восковой персоне» в сцене тревожных метаний Ягужинского, «он стал шататься от зеркала к зеркалу, и все зеркала показывали одно и то же» (Тынянов, 1989а:388), и затем следует типичная для Керстинга-Дега фиксация углового смещения зеркала: «Подплыл к зеркалу, что у двери, оно отражало правое окно во двор» (Тынянов, 1989а:388).
В сценарии мотив отражающих поверхностей проведен чрезвычайно интенсивно и в основном связан с Павлом. Мы уже цитировали эпизод из рассказа, где Павел «стоял в темноте, в одном белье. У окна он вел счет людям» (Тынянов, 1954:28). В сценарии эта ночная сцена рифмуется со сценой убийства Павла, что придает ей дополнительные обертона: «374. Павел медленно садится на постели. Увидел луч луны на подушке. Соскочил, спустил шторы. Полутьма. Павел накидывает на нижнее белье мантилью, ежится от холода. 375. Открыл дверь. 376. Камер-гусары спят. 377. Павел в мантии на фоне стекла. Он судорожно закрывает дверь» (Тынянов, 1933). Сцена убийства императора в дальнейшем обыгрывает все мотивы сцены ночных страхов. «648. Павел проснулся, посмотрел на дверь, тихо соскочил, тенью в темноте подкрался к двери на лестницу. Жмет ручку. <...>. 650. Павел тихо прокрался к камину, стал между стеклянными ширмами и камином. <...>. Темнота. Полутени. <...>. 660. Павел в белье за ширмой. <...>. 664. Ноги
358
Павла в лунном свете. 665. Павел видит отражение, тень на ширмах (Павел)» (Тынянов, 1933).
Во всех трех версиях «ночного Павла» он дается рядом со стеклом. В рассказе – у окна. В сценарии, в первом случае – у стеклянной двери, во втором случае – за стеклянной ширмой, отражение на которой выдает императора заговорщикам. Отражение в стекле (еще более бледное и неверное, чем в зеркале – момент пародийного искажения) имеет в сценарии зловещий и двусмысленный оттенок: «4327. Павел входит в комнату. Заходит за ширму – смотрит в стекло ширмы. Бледное отражение. Хрипло: – Все неверно».
Слово «неверно» оказывается ключевым для сценария и значительно более емким, чем «смутная неопределенность» из рассказа. Тынянов обыгрывает его двойное значение, подобно тому, как в рассказе он играет на полисемии слова «караул» (см.: Тоддес, 1981:183—186). Искаженное (неверное) зеркальное отражение непосредственно тянет за собой тему измены, неверности государственной: «338. Павел обернулся, смотрит вслед Палену. – Все неверно» (Тынянов, 1933). Но «неверность» – одновременно и знак пародийного искажения текста и сопутствующей ему пространственной зыбкости: «349. Павел ходит по комнате, ему холодно, его знобит. Камин не греет. Он открывает шкап, достает горностаевую мантию, кутается, ходит в мантии вдоль стен, прислушивается. – Все неверно» (Тынянов, 1933). В этом кадре страх измены неотделим от травестийной пародийности павловского наряда – мантии на нижнем белье, отсылающей к пониманию Павла как пародии на Петра. Ощущение «неверности» – главное чувство Павла: «340. Пустынный коридор. Павел один. – Все неверно» (Тынянов,1933).
Именно это ключевое слово помогает понять тыняновское отношение к зеркалам, как к зыбким отража-
359
телям, не вписывающимся в сопутствующую принципу субъективной камеры поэтику пространственного гео-
метризма.
Парадоксальным образом только к несуществующему Киже Павел постоянно применяет эпитет «верный»: «– Полковник Киже должен по всему быть верный человек» (Тынянов, 1933:кадр 353), «621. Павел: «Это был верный слуга»» (Тынянов, 1933). Но «верная» эта пустота мелькает только в искажающих зеркалах.
Установка на сложную зеркальность пространства провоцировала и систематический, как у Керстинга, показ человека со спины, являющийся одной из наиболее эксцентричных черт ленты Файнциммера. Чаще всего со спины предстает Павел, как известно наиболее непосредственно ассоциировавшийся Тыняновым с Киже. Тынянов фиксирует такую позу Павла и в рассказе, но считает нужным ее мотивировать: «.. .во времена большого гнева император не оборачивался» (Тынянов, 1954:7), – и придумывает для ее оправдания микроэпизод с адъютантом: «– Службы не знаешь, сударь, – сипло сказал Павел, – сзади заходишь» (Тынянов, 1954:7), – отчитывает император адъютанта, к которому он повернулся спиной.
Стремление Павла повернуться спиной тем более парадоксально, что он боится заходящих из-за спины и даже отчитывает их за это. Но стоит ему услышать шаги, как он мчится за ширму – занять свою извращенную «точку зрения»: «Павел Петрович заслышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к креслам, стоявшим за широкой ширмою, и сел так твердо, как будто сидел все время. Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгивание льстивых и легкие, воздушные шаги устрашенных» (Тынянов, 1954:13).
В сценарии подлинной мотивировки такой позы нет, и только однажды (Тынянов, 1933:кадры 554—564) обращенность Павла спиной создает «подменную»
360
идентификацию Павла с Киже, когда Пален и Кутайсов, застав Павла сидящим к ним спиной в комнате Киже, неожиданно принимают его за материализованную химеру. Но в фильме этот эпизод опущен, отказ от показа лица блокирует тут подобную идентификацию Павла, одновременно отсылая к зеркальности как единственному средству увидеть лицо человека, обращенного к зрителю спиной. И даже когда зеркало эксплицитно не вводится в пространство кадра, такого рода композиция как бы настоятельно требует зеркальности для восстановления привычного режима восприятия, то есть как бы вводит зеркало в подтекст ожидания.
Однако в фильме неоднократно встречаются эпизоды, впрямую имитирующие пространство Керстинга-Дега. Это, например, сцена, где Сандунова в салоне Гагариной молится перед зеркалом за попавшего в опасность Каблукова. Аналогично построен и эпизод, где Кутайсов бреет Павла и где изменение угловой направленности зеркала лежит в основе всего пространственного решения сцены. Именно этот эпизод наиболее явственно пародийно связан с «Носом» Гоголя6 и сценой бритья майора Ковалева Иваном Яковлевичем (ср. Павел – Кутайсову: «Зачем хватаешь за нос?» – Тынянов, 1933:кадр 202). Прямым продолжением этой сцены является тот эпизод, где Павел перед зеркалом пытает Палена, не курнос ли он: «443. ...притопнул ногой: – Курнос я, говори. Пален говорит спокойно и почтительно: – У вас нос ровный и длинный, ваше величество. 444. Павел подбежал к зеркалу и смотрит. 445. В зеркале курносый нос Павла» (Тынянов, 1933). Эта сцена перетолковывает Гоголя: «...умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!
– А посмотри, Иван, кажется у меня на носу как будто прыщик. <...>.
361
Но Иван сказал:
– Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!» (Гоголь, 1959:68).
Весьма существенно также и то, что именно сцена с носом и бритьем непосредственно связывает Гоголя и Гофмана. Вспомним эпизод из «Невского проспекта» где «Гофман, – не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы» (Гоголь, 1959:34), пытается отрезать нос жестянщику Шиллеру: «Я не хочу носа! режь мне нос! вот мой нос!» <...>. ...Гофман отрезал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву» (Гоголь, 1959:35). Отметим, что многослойность подтекстов данного эпизода фильма акцентируется также и «подмененностью» Гофмана у Гоголя – не писатель, но сапожник. «Нос» в таком контексте выступает как интерпретанта по отношению к гофмановскому интертексту.
Естественно поэтому, что в фильме зеркало как метафора пародии введено в пародийную сцену (скрытый указатель многослойности текста) и используется специально для реализации принципа двойственности «пространства Киже». Итак, Кутайсов бреет Павла.
В первом кадре эпизода Павел сидит к нам спиной перед зеркалом, так что мы видим его лицо отраженным и обращенным к нам фронтально. Когда император отчитывает Кутайсова, тот прячется за зеркалом, – иначе говоря, скрывается за отраженным лицом монарха. Выговор же Павла зеркально направляется в предэкранное пространство на зрителя.
Во втором кадре эпизода Павел неожиданно повернут к зеркалу в профиль, зеркало же, оставаясь обращенным фронтально к зрителю, все так же сохраняет в себе направленное прямо на зрителя отражение лица императора. Отражение в зеркале как бы получает
362
самостоятельность по отношению к отражающемуся. В глубине комнаты открывается дверь и входит Гагарина, она идет на камеру и обращается к императору (к камере), который в зеркале отвечает ей, также глядя в камеру и т. д. Эпизод и дальше разворачивается на постоянном рассогласовании осей взглядов и угловых взаимосвязей персонажей на основе введения в пространство эпизода зеркальной химеры.
Зеркальность структур, выражая принцип пародийности, многослойности текстовой организации, то и дело всплывает в самых разнообразных произведениях Тынянова. Для своей реализации она не всегда нуждается в материальных зеркалах – «вещественных метафорах» структуры. Зеркало у Тынянова возникает в подтексте любого удвоения, отражения, рефлексии. Приведем несколько примеров. В «Восковой персоне» об умирающем Петре говорится: «Он обернулся, выкатив глаза, на все стороны <...>, посмотрел плохим взглядом поверх лаковых тынков и увидел незнакомое лицо. Человек сидел налево от кровати, <...> глаза его были выкачены на него, на Петра, а зубы ляскали и голова тряслась» (Тынянов, 1989а:334). Незнакомец дается Петру как его собственное зеркальное отражение без зеркала. Случается, что Тынянов трактует отнюдь не зеркальные изображения в качестве кривых зеркал. Статуи или картины легко превращаются в таковые силой тыняновского воображения, иногда весьма изощренного. В «Малолетнем Витушишникове» император велит убрать из дворца статую Силена со словами: «Это пьяный грек» (Тынянов, 1989а:456), так как неожиданно видит в нем откупщика Родоконаки. В «Восковой персоне» Лежандр, глядя на Растрелли, «вспомнил то лицо, на которое стало походить лицо мастера: то лицо было Силеново, на фонтанах, работы Растреллия же» (Тынянов, 1989а:376). Статуя Силена, таким образом, оказывается способной отражать разные лица, устанавли-
363
вать зеркальные связи. Зеркало, даже скрытое, сочленяет многочисленные замещения и подмены, о которых речь шла выше. Символично в этом смысле сочетание императора, зеркала и скульптуры (трех тыняновских подменных ипостасей) в одном эпизоде «Малолетнего Витушишникова», где император, «пройдя по Аполлоновой зале, увидел на мгновение в зеркале себя, а сзади копию Феба...» (Тынянов, 1989а:423).
Для Тынянова, и особенно в «Киже», характерно это умножение отражений, сочетание персонажа, зеркала, картины, скульптуры, манекена – множества ипостасей одной (или многих?) зыблющейся фигуры. Вспоминается процитированная им в работе «Достоевский и Гоголь» фраза Достоевского: «Литература – это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало...» (Тынянов, 1974:210). Картины и зеркала как взаимные субституты неоднократно возникают в «Поручике Киже», иногда в весьма любопытном контексте «подмен», как, например, в сцене венчания Сандуновой с пустотой.
В сценации Павел обещает фрейлине: «Я сам буду на вашей свадьбе» (Тынянов, 1933:кадр 188), однако в последний момент пугается покушения и производит «подмену»: «493. На стене икона и рядом изображение Павла. 494. Павел внимательно смотрит на фрейлину, страх еще не прошел, и рассеянно снимает свой портрет вместо иконы, благословляет фрейлину. – Эту икону от меня, протопоп благословит вас ею» (Тынянов, 1933). Таким образом, и этот эпизод строился на двойной подмене: вместо императора – бог (икона), но вместо бога – все-таки император (правда, вместо самого императора – его портрет).
Сама сцена венчания добавляла к этим подменам еще и пустоту – Киже рядом с невестой. Священник пугается, обнаруживая сначала «пробел» вместо жениха и затем Павла – вместо бога на иконе (Тынянов, 1933:кадры 499:508). Отношение к портрету
364
Павла как к пародийной иконе обозначено в сценарии еще раньше, в эпизоде, где Витворт получает приказ покинуть Петербург. Здесь Витворт «подходит к портрету Павла на стене и поворачивает лицом к стене» (Тынянов, 1933:кадр 256), чем уже обыгрывается «обращение» взгляда Павла и пародируется его систематическая повернутость спиной.
Система подмен, строящаяся вокруг Бога, здесь не случайна. По-своему она пародирует догматику «негативной теологии», утверждающую, что Бог дается нам только в несущностных для него ипостасях и атрибутах. С особой настойчивостью такая система подмен проведена в «Обезьяне и колоколе»: весь сюжет здесь строится на системе пародийных субститутов Бога – обезьяне, коте, козле, которые традиционно ассоциируются с дьяволом.
Но икона имеет некоторые черты, проецируемые и на поэтику кинематографа. Так, в фильме эффектный «гэг» с иконой-портретом отсутствует. Намеченная в сценарии цепочка подмен замещена тут зеркальной структурой самого пространства эпизода. И это снова подтверждает, что для Тынянова-Файнциммера зеркальная структура есть знак и эквивалент повышенной интертекстуальности. Это замещение может быть связано и с некоторыми особенностями иконописного «образа». Его взгляд всегда направлен непосредственно в глаза смотрящему на него, то есть как бы «зазеркаливает» отношения «образ» – зритель. В кинематографе же «иконописный» прямой взгляд в объектив традиционно табуирован. Р. Барт, например, даже считал табуирование взгляда в камеру отличительным признаком кинематографа (Барт, 1982:282). Взгляд персонажа в кино должен отклоняться от центральной оси перспективы, создаваемой «взглядом» камеры (на этом отклонении основывается богатство монтажных пространственных построений). Отказавшись от использования иконы-портрета,
365
Файнциммер и Тынянов, казалось бы, элиминируют из эпизода прямую зеркальность по типу субъективной камеры, однако в действительности вводят ее в эпизод, парадоксально создавая на ее основе особую «химерическую прибавку». Господствующее положение в интерьере церкви занимает огромный божий глаз в треугольнике, появляющийся вслед за открытием златых врат алтаря. Этот огромный глаз в точности совмещен с осью камеры, снимающей сцену из-за спин (типичная для фильма мизансцена). Целый ряд кадров эпизода снят со стороны алтаря, так что камера занимает в них позицию божьего всевидящего ока, что лишь подчеркивает прямую зеркальную соотнесенность огромного глаза и камеры, их структурную
взаимосвязь.
Прямая зеркальность пространства эпизода, казалось бы, должна создавать четкую центральную ось, ясно ориентирующую действие. В действительности все происходит как раз наоборот. Сцена строится так, как если бы два магнитных полюса, поляризующих пространство (камера и божий глаз), систематически дезориентировали поведение персонажей, теряющих отчетливый центр притяжения. На протяжении всего эпизода часть персонажей смотрит на алтарь, часть – в сторону камеры. Постоянное поворачивание и отворачивание «героев» не только выявляет зеркальную взаимообращенность камеры и божьего глаза, как бы посылающих взгляды друг другу, но и подчеркивает дезориентирующий характер центральной пространственной оси. Зыбкость этой виртуозно построенной сцены акцентируется систематической рассогласованностью взглядов, их блужданием, которые вступают в продуктивное противоречие с незыблемостью центральной оси. То же ощущение неопределенности подчеркивается множеством мелких деталей – барабанной дробью (знаком Киже), странно проникающей в фонограмму церковной службы, и чрезмерной насы-
366
щенностью кадра, мешающей зрительской ориентации, и даже немотивированными изменениями в декоре (сначала по бокам от алтаря – ровные стены, а затем, вдруг, в той же сцене, у алтаря возникают неизвестно откуда взявшиеся барочные скульптуры). В сцене венчания используется множество приемов создания чрезвычайно сложного, зыбкого пространства, но в основе всего лежит тонко организованная зеркальность.
В ином месте зеркальность совмещается с портретом и даже в какой-то степени создается именно введением в кадр живописного полотна. Речь идет о небольшом эпизоде ночного блуждания встревоженного Павла по дворцу. Сцена начинается с того, что в декорацию большого дворцового холла входит Павел, одетый в мантию поверх белья. Он идет от камеры, повернувшись спиной к ней, в глубь кадра. Перед ним стена, прорезанная с двух сторон симметричными арками, простенок между которыми (прямо в центре кадра, перед Павлом) украшен огромным парадным портретом Петра. Полутьма на мгновение создает иллюзию, что портрет – это зеркало, к которому направляется Павел. Тема пародийного двойничества Петра и Павла обыгрывается Тыняновым в сценарии многократно, особенно на сопоставлении Павла со статуей Петра перед Михайловским замком (в фильме эта линия сохранена лишь во вступлении).
В сценарии Тынянов неоднократно сталкивает Павла с монументом Петру7, при этом Павел, как правило, проезжает мимо памятника в сопровождении карлика, что вводит дополнительный мотив пародии на Гофмана и создает двойную зеркальную деформацию (колосс – Павел – карлик). Зеркальность отношения Павел – Петр подчеркивается Тыняновым: «Павел смотрит на памятник – отдает честь. Принимает величавую осанку, копируя позу памятника» (Тынянов, 1933:кадр 258).
В фильме связь Петра и Павла подчеркивается и
367
тем, что в эпизоде прибытия Киже во дворец фигурирует парадный портрет Павла, явно пародийный по отношению к петровскому изображению.
Кроме того, сама судьба растреллиева памятника Петру (чье создание описано в «Восковой персоне»), по-видимому, напоминала Тынянову фантасмагорическую судьбу Киже. В «Кюхле» писатель дает следующий исторический комментарий: «Другой предназначавшийся для площади памятник, Растреллиев Петр, был забракован, и Павел вернул его, как возвращал сосланных матерью людей из ссылки, но место уже было занято, и он поставил его перед своим замком в почетную ссылку» (Тынянов, 1989а:196). Однако вернемся к рассматриваемому эпизоду. После подхода Павла к портрету-кривому зеркалу монтажным стыком вводится новый кадр. Перед нами опять фронтально снятая декорация, почти зеркально отражающая предыдущую. Две такие же симметричные арки по бокам, но вместо центрального портрета – еще одна арка, в которой стоит навытяжку солдат, занимающий абсолютно симметричное положение по отношению к портрету Петра в предыдущем кадре. Подчеркнутая симметрия двух кадров заставляет считать караульного из второго кадра как бы отражением Петра-Павла из первого кадра. Напомним, что солдат (или солдатский мундир) – одна из главных подмен Киже в фильме (солдаты многократно даются множащимися в зеркалах). Неожиданно в боковой арке, во втором кадре, появляется Павел и идет на камеру, что исключает зеркальную соотнесенность двух декоров (поскольку в предыдущем кадре Павел шел от камеры, он не мог оказаться в пространстве, находящемся за ней). Между тем это движение императора на зрителя заставляет прочитывать новую декорацию не как стену того же помещения, симметрично (зеркально) противопоставленную первой стене, а как само Зазеркалье, – ведь только в