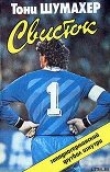Текст книги "Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф"
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Колесо здесь оказывается фундаментальной метафорой становления нового языка. Воспроизводя в своем движении ритмичность, механистичность артикуляционного аппарата (будучи метафорой органов речи), оно вращает калейдоскоп образов-цитат.
Постепенно круг, колесо, диск фетишизируются Сандраром и осмысливаются уже не просто как колеса фортуны или колеса, на которых движется колесница бытия, или колесики в механизме космоса – они становятся элементами механизма некоего «метаязыка» мироздания и интегрируются в тексты Сандрара именно на этих правах. Такое понимание «колеса» мы обнаруживаем в одном из главных произведений Сандрара «Мораважине», которое Ганс читает в рукописи в 1920 году, во время работы над «Колесом» (Ганс, 1969:ХХI). Здесь, возможно, заложены корни и проекции на «колесо» кинематографической метаописательной символики. В одном из фрагментов «Мораважина» колеса вводят онейрический кусок: «Колеса поезда (ср. с фильмом Ганса. – М. Я.) вращались в моей голове и каждым поворотом рубили мой мозг, мелко, мелко. Большие пространства голубого неба входили мне в глаза, но туда же яростно устремлялись колеса, все перемалывая. Они крутились в глубине неба, оставляя на нем длинные масляные следы. <...>.
226
Небо твердело, взрываясь, как зеркало, и последний раз колеса, вновь берясь за работу, дробили его. Тысячи обломков с треском вращались, тонны шумов, крики, голоса катились обвалом, разряжались, врезались в мои барабанные перепонки. <...>. Вверху, внизу балансировали в воздухе и совершали кульбиты образы жизни, лицевой стороной, оборотной, вверх-вниз, прежде чем разлететься в пыль» (Сандрар, 1956:150–151). Но это перемалывание образов мира, их расщепление, низведение до детали, фрагмента, эта «кубизация» мира, которую мы обнаружим впоследствии в «Механическом балете», как бы осуществляется колесом, осмысливаемым как механизм, генерирующий новое видение мира, новый язык. Далее в том же «Мораважине» Сандрар поясняет: «Круг больше не является кольцом, но превращается в колесо.
И это колесо крутится. <...>.
Оно порождает новый язык. (Выделено мной. – М. Я.).<...> язык – слов и вещей, дисков и рун, португальского и китайского, цифр и фабричных марок, промышленных патентов, почтовых марок, билетов, листов коносамента, условных сигналов, радио – язык преобразуется и приобретает тело, язык, оказывающийся отражением человеческого сознания, поэзии, знакомящей с образами разума и их порождающей, лиризма, являющегося способом существовать и чувствовать, живого, демонического письма кино8, обращающегося к нетерпеливой толпе безграмотных, газет, не знающих грамматики и синтаксиса, чтобы лучше бить в глаза типографскими надписями и объявлениями. <...>.
Все искусственно и реально. Глаза. Рука. Необъятная цифровая шкура, на которую валится банк. Сексуальная ярость заводов..Крутящееся колесо. Летящее крыло. <...>. Ритм. Жизнь» (Сандрар, 1956:176—178). Подчеркнем: «язык преобразуется и приобретает тело». И тело это состоит из цитат.
227
Таким образом, в сандраровской мифологии колесо приобретает гораздо более широкое значение, чем в контексте гансовского фильма, и тесно связывается с идеей нового языка, в том числе языка кино.
Сандрар, всегда искавший слушателей, оглушавший окружающих потоком необычных идей, образов, фантастических воспоминаний, создавал вокруг себя некое поле. И люди, попавшие в это поле, вступали с поэтом в сложные отношения, почти всегда и неизбежно претерпевая на себе влияние идей Сандрара. Он постоянно стремился провести комплекс своих идей в иных искусствах, используя для этого тех художников, которые оказывались в поле его воздействия. Необыкновенно важными и плодотворными оказались контакты Сандрара с Робером Делоне, контакты, отразившиеся и на творчестве Леже.
Сандрар знакомится с Делоне в 1912 году и поселяется у него дома осенью того же года. 1912-й – год разработки Делоне теории «симультанеизма» в живописи. Сандрар принимает в симультанеистской эпопее активное участие, наиболее известным плодом которого явилась сделанная им совместно с женой Делоне, Соней, первая симультанная книга «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской»
(1913).
Приведем изложение сути симультанеистской теории по Джону Голдингу: «Делоне задумал живопись, где бы цвета, задаваясь целью выразить свет, не смешивались бы и сохраняли свою самостоятельность. Более того, способ их комбинирования мог бы дать ощущение глубины и движения. Поскольку движение предполагает длительность, время также становилось элементом этого нового искусства. Используя терминологию Шевреля (Анри Шеврель (1786—1889) – химик, занимавшийся проблемой цвета и издавший
228
книгу «О законе симультанного контраста цветов» (1839), оказавшую влияние на Делакруа, Сера, Синьяка. – М. Я.), Делоне называет контрасты цветов «симультанными» с тем, чтобы отличать их от цветовых контрастов импрессионистов и их последователей, т. е. от «бинарных» контрастов, которые должны быть оптически смешаны и рассматриваться издали» (Голдинг, 1965:337). Сандрар испытывает на себе сильное влияние цветового «пиршества» Делоне, особенно очевидное в «Девятнадцати эластических стихотворениях». Делоне включает Сандрара в острую дискуссию, развернувшуюся между ним и Анри Барзеном, также претендовавшим на создание симультанеизма (см.: Шефдор, 1976). Тем самым Сандрар сразу же включается в борьбу живописных течений на правах теоретика. Многое он повторяет со слов Делоне. В частности, явное влияние последнего ощущается в неожиданно возникающем в текстах Сандрара осуждении геометрии как олицетворения смерти. Сандрар пишет: «Смерть – это самосознание человечества (геометрия)» (Сандрар, 1969а:386). Ср. у Делоне: «Футуристы пришли сегодня к мертвой точке: геометрии, механизму, геометрическому танцу и т. д.» (Делоне, 1957:115). Известно, что в дальнейшем Сандрар будет одним из вдохновенных певцов геометрии и механизма. Но не следует считать, что лишь Делоне влиял на Сандрара. Обратное влияние на живописца ощущается в явном, с момента появления Сандрара, отходе Делоне от прямолинейных форм и активном внедрении форм круговых и дискообразных9. Если серия «Окна», начатая в 1912 году и обозначающая начало симультанеизма, в целом выдержана в прямолинейных формах, то на рубеже 1912—1913 годов Делоне обращается к «круговым формам» и создает серию картин с характерным астрономическим символизмом: «Солнце, луна, симультанность 2» (1912—1913, Музей современного искусства, Нью-Йорк), «Круговые фор-
229

Р. Делоне. «Диск, первая необъективная живопись», 1913
232
жение Делоне оказывается у Сандрара воплощением жизни. Но это же движение тесно связано и с моторикой обновляемого, искомого языка. Контраст как бы вводит внутрь полотна артикуляционный аппарат речи. Полотно начинает говорить. Одновременно ритмичность движения в глубину ассоциируется с эротикой (Сандрар, 1969а:386). Сандрар переписывает декларации Делоне как мифологические, эротические, эзотерические тексты.
Леже, находившийся в тесном контакте с Делоне и Сандраром, кое-что перенял у создателя симультанеизма. Влияние Делоне, например, чувствуется в «Париже через окно» (1912), вероятно, являющемся репликой «Окон» Делоне. Но вскоре между Делоне и Леже назрел конфликт. Речь шла об использовании цвета. Делоне в 1933 году, все еще считая путь Леже неверным, писал: «Леже не понял <...> – цвет и есть единственный рисунок. Нельзя поступать, как Леже – рисунок, а цвет сверху» (Делоне, 1957:76). В записанной беседе с Сандраром (27 окт. 1954), который был активным участником споров, Леже вспоминает о разногласиях с Делоне как о настоящей битве: «В это время состоялась большая битва с Делоне; тот хотел продолжать разрабатывать импрессионистские отношения, а я хотел прийти к локальному цвету. И тогда я говорил ему: «Старик, если ты будешь так продолжать, кончится тем, что ты будешь писать нам синьяков». А он: «А ты вернешь нам музейные цвета». Мы начинали ругаться, ну и все в этом роде... Между мной и Делоне произошла битва цветов» (Сандрар, 1971, т. 14:303). В этом споре кругу отводилась решающая роль. Леже исключительно быстро ассимилирует круговую форму в свою живопись, заимствуя ее у Делоне и Сандрара. Вот как описывает смысл этого заимствования Вернер Шмаленбах: «Делоне еще до войны начал серию «Круговых форм», своих солнц и лун, чье влияние на Леже очевидно. Круг был для Делоне «аб-
233

Ф. Леже. «Контрасты форм», 1913.
Симультанеистская терминология, диски:
связь с Делоне и Сандраром очевидна, так же, как
и явный отход от симультанеистской догматики
234
солютной формой», он рассматривал «цветовой диск» как окончательный символ цвета. Леже отбрасывал этот символизм цвета, в его глазах цвет был «голым» и лишенным всякого символического значения. <...> не космические и «орфические» солнца Делоне, но разноцветные крутящиеся диски машин» (Шмаленбах, 1977:98). Этот спор Делоне и Леже, выразившийся в противопоставлении космических светил механическому колесу, со свойственным ему лаконическим остроумием спародировал Марсель Дюшан, изготовивший в 1913 году свой первый нашумевший «ready-made» – «Велосипедное колесо». Дюшан приделал к табуретке переднее колесо велосипеда, внося этим нелепым предметом свой иронический вклад в спор Леже– Делоне11. Дело в том, что это колесо при вращении создавало тот же эффект, что и Ньютоновые диски, которыми увлекался Делоне, зарисовывая их в поисках своих круговых ритмов. «Велосипедное колесо» Дюшана – образное, в стиле Леже, «механическое» выражение цветовых поисков Делоне – пародийно «снимало» противоречия между двумя художниками.
Сандрар оказался в самой сердцевине спора. Ведь именно ему принадлежит решающая роль в мифологизации круговой формы. От него исходит и понимание круга как космического символа и как механического колеса. Миф, культивировавшийся Сандраром, как бы расщепляется надвое полемизирующими художниками. Позже Сандрар вспоминал: «...каждый писатель имел своего художника. У меня были Делоне и Леже...» (Сандрар, 1976а:215). Однако Леже постепенно вытесняет Делоне и занимает все большее место в мире Сандрара. В какой-то степени этот процесс отражен и в «Девятнадцати эластических стихотворениях». Первые стихотворения цикла в основном «питаются» живописью Делоне. Второе стихотворение – «Башня» – и третье – «Контрасты» (оба —
235
1913) – прямо относятся к симультанеистской эстетике и ее создателю. Леже посвящено последнее, девятнадцатое стихотворение цикла: «Конструкция» (февраль 1919). Это стихотворение может быть понято как описание отхода Сандрара от поэтики симультанеизма на позиции более конструктивистского толка. Приведем это стихотворение полностью (в нашем подстрочнике):
«Цвет, цвет и цвета...
Вот Леже растет подобно солнцу третичной эпохи
И заставляет твердеть
Фиксирует
Мертвую природу (nature morte – натюрморт —
здесь игра слов. – М. Я.)
Небесную кору Жидкое Туманное Все что темнеет Небесную геометрию Растворяющийся отвес Окостенение Передвижение Все копошится
И разум вдруг оживает и облекается в свою очередь подобно животным и растениям
Чудесно И вот
Живопись становится этой огромной движущейся
вещью
Колесом
Жизнью
Машиной
Человеческой душой
Затвором 75-миллиметровой пушки
Моим портретом
(Сандрар, 1967:104—105).
Живопись Леже здесь описывается как кристаллизация, «омашинивание» аморфного, цветового, небес-
236
ного – то есть в какой-то степени живописной первоматерии Делоне.
Сближение Леже и Сандрара чувствуется буквально во всем. В 1913—1914 годах Леже пишет серию картин «Контрасты форм», вынося в название излюбленную тему Сандрара. С 1918 года Леже создает серию «Дисков»: «Диски» (1918), «Два диска в городе» (1919), «Диски в городе» (1924) и т. д. Афиша, выполненная Леже к «Колесу» Ганса, является вариацией на тему этой серии. Начинается период интенсивного сотрудничества писателя и живописца. 1917 год – иллюстрация Леже к «Концу света», 1918-й – иллюстрация к «Я убил», 1923-й – совместная работа над балетом «Сотворение мира».
Работы Делоне, дискуссия с ним отступают в прошлое. Преодоление поэтики Делоне шло по пути диссоциации предмета, формы и цвета. Контрастное противопоставление предметов (как и любых фрагментов мира – в том числе и фрагментов текста) могло, с точки зрения Леже, породить подлинное движение. Делоне этого признать не мог. П. Франкастель так суммирует взгляды Делоне на природу движения: «Чтобы передать движение, являющееся фундаментальным свойством самой природы мироздания, существует только одно средство – цвет» (Франкастель, 1983:196). В опубликованном посмертно фрагменте «Искусство движения» (1924?) Делоне упоминает о кино, механическое движение которого ему кажется «мертвым» по сравнению с ощущением движения, создаваемым контрастом цветов на полотне: «До сих пор синематическое искусство было игрой последовательно расположенных фотографий, дающих иллюзию реальной жизни – по своей материи, исключительно грустной. Фото, даже идеальное цветное фото Кодака, никогда не сможет сравниться с хорошо подогретой импрессионистской ванной» (Делоне, 1957:209).
237

Ф. Леже. «Диски», 1918
238
В «Механическом балете» Леже отчасти использует идею контрастов Делоне, но в превращенной форме. В быстром ритмическом монтаже он сополагает неподвижные объекты, порождая ощущение движения за счет их контраста, не нуждаясь при этом в цвете. Черно-белый фильм Леже оказывается и подтверждением интуиции Делоне, и их расширением-опровержением.
Не случайно, конечно, несмотря на характерное для Делоне отрицание кинематографа, целый ряд современников окрестил тип монтажа, строящийся на быстром соположении неподвижных фрагментов, «симультанным» (как, например, Ж.-А. Левеск, назвавший сцены «бешеного поезда» в «Колесе» примерами «симультанного монтажа»), тем самым непосредственно возводя его к поэтике Делоне. Иван Голль в своей статье 1920 года «Кинодрама» упоминает симультанеизм в качестве одного из предшественников будущего кинематографа. Весь стиль кинодекларации Голля (вероятно, известной Леже) был выдержан в духе симультанеистских манифестов: «Изображение освободится, выйдет из границ заключенного в раму пространства и задышит во времени: кино возникнет благодаря быстрой смене различных нарастающих и убывающих противоположностей»
С 1916 года Сандрар постоянно возвращается к идее создания фильма. Как известно, тот фильм, о котором он мечтал, так и не был им создан. По привычке Сандрар как бы «наводит» свой кинематограф на других. Он с удовольствием описывает знакомым некий воображаемый фильм, который был бы снят, имей он на то возможность. Филипп Супо вспоминает: «Я хорошо помню его энтузиазм по поводу кино. Разумеется, Чарли Чаплина! (Именно в его обществе я
239
посмотрел фильм, который он совершенно справедливо считал превосходным – «Чарли-солдата».) Но сам он хотел совершенно иного кино. Он рассказал мне необыкновенный сценарий, тогда еще им не написанный и опубликованный лишь несколько лет спустя» (Супо, 1962:86). Упомянутый Супо сценарий – это, несомненно, «Конец света». Эпштейн вспоминает о том, как Сандрар мечтал снять фильм по Рабле «с удивительными крупными планами жратвы» (Эпштейн, 1974:35). К числу тех, кого Сандрар пытался загипнотизировать «словесным» портретом необыкновенного фильма, принадлежал и видный французский актер и театральный режиссер Луи Жуве. Жуве, по-видимому, обладал в глазах Сандрара реальной возможностью поставить воображаемый фильм. Сохранилось свидетельство Жуве о замысле, которым с ним поделился Сандрар. Вот что он вспоминает: «Какой забавный фильм можно было бы сделать, целый каскад неисчерпаемых и нелепых гэгов <...> ... в декоре промышленного района, кладбище автомобилей, разорванных газгольдеров, разлетающиеся пирамиды распоротых бочек из-под гудрона, плывущие заслонки шлюзов, дорожки пепла, полоса из бутылочных осколков, холмики разорванных ведер, насыпи, утыканные пружинами из матрасов, и прочие обломки под названием цивилизация...» (цит. по: Бюлер, 1960:80).
Кинематограф связывается Сандраром с новым языком, а новый язык рождается в процессе разрушения старых предметных связей, разъятия мира на фрагменты. Эти фрагменты призваны сохранять свой корпускулярный характер, не включаясь в линейную цепочку рассказа. Они призваны оставаться неинтегрированными «аномалиями».
Текст складывается из гигантского, ничем не ограниченного набора цитат, в полной мере выявляющих свою цитатность. Кинотекст, по существу, должен
240
мобилизовать безграничное поле интертекстуальности, которая и лежит в основе сандраровского киноязыка.
Постепенно в сознании Сандрара складывается некий, еще аморфный образ фильма, строящегося как хаотическая картина разъятых элементов цивилизации, как след человечества. Образ свалки, кладбища оказывается выразителем этого «катастрофического сознания», превращающего катаклизм в исходный пункт генерации нового языка. Для Сандрара разрушение мира в принципе приравнивается созданию нового мира. Организованный распад по-своему тождествен творчеству. При этом Сандрар проецирует подобную художественную программу не только на кино, но на все виды художественной деятельности и, прежде всего, на живопись. Не случайно живопись Леже попадает в фокус языковой программы Сандрара и систематически интерпретируется им именно с точки зрения катастрофического генезиса нового языка. Интересно отметить, что в статье 1919 года «Фернан Леже» Сандрар описывает живопись своего друга в выражениях, близких тем, в каких он рисовал Жуве проект будущего фильма: «Парки машин, инструментов, механизмов. Разум художника улавливает все это. Вокруг него ежедневно возникают новые формы. С легкостью движутся огромные объемы. Благодаря расщеплению движения на серию коротких тактов. Его глаз переходит от ведра к дирижаблю, от гусеничной передачи к маленькой пружинке из зажигалки. Оптический сигнал. Надпись. Афиша. <...>. Все есть контраст. <...>. Вот сюжет: сотворение человеческой деятельности» (Сандрар, 1962:191). Любопытно, что ассоциация живописи Леже с кинематографом хаоса сохраняется у Сандрара на долгие годы. Так, например, в поздней беседе с Леже, вспоминая о своем пребывании за границей, Сандрар говорит: «Я много думал о тебе, когда смотрел один необыкновенный
241
фильм, названия которого я сейчас не помню. Действие этого фильма происходило от начала и до конца на кладбище автомобилей; там было что-то вроде механической птицы, наподобие американского ворона, который лопал автомобили, жрал килограммами, килограммами и тоннами сталь, тысячи шин...» (Сандрар, 1971, т. 14:296).
Однако для Сандрара характерна постоянная мифологизация собственных поэтик: в корпус его творчества они включаются, как правило, именно в мифологизированной форме, в виде неких сюжетов. Так и программа генезиса нового языка примерно к 1917 году мифологизируется Сандраром и принимает облик двух обращенных и слитых воедино мифов-сюжетов – «Конца света» и «Сотворения мира». С 1917 года языковая программа поэта с редкой устойчивостью описывается как история гибели-сотворения мира. Кинематограф, и это весьма существенно, включен в миф о конце света. Это легко объясняется тем, что именно кино, символизирующее в глазах Сандрара новый язык раздробленного предметного мира, оказывается максимально адекватным средством описания мирового катаклизма. В наиболее яркой форме этот миф изложен в романе-сценарии «Конец света, снятый ангелом Нотр-Дам» (1917)12, оформленном иллюстрациями Леже. Сюжет романа описывает путешествие Бога на Марс, где он решает привести в исполнение старые пророчества. Он телеграфирует на землю ангелу собора Парижской богоматери, тот исполняет приказ Бога и снимает на пленку конец света. Пленку показывают на Марсе. Но проекционный аппарат ломается, и весь только что прокрученный фильм движется в обратную сторону. Основная часть сценария – описание фильма, запечатлевшего конец света.
Отметим несколько существенных деталей. С помощью ускоренной и замедленной съемки многове-
242
ковые катаклизмы спрессовываются в несколько страниц текста. Конец мира описан как стремительная деградация цивилизации и возвращение ее на доисторическую стадию – то есть стадию сотворения мира. Обратный ход пленки в конце книги превращает историю конца света в историю сотворения мира. Таким образом, благодаря технической мотивировке (поломке проекционного аппарата) конец света и его сотворение сливаются воедино, идентифицируются друг с другом, и подобная идентификация осуществляется на основе кинематографической техники.
Внимательное прочтение романа выявляет одну любопытную подробность, которая прошла мимо внимания исследователей. Стихотворение «Конструкция», цитированное выше и посвященное Леже, оказывается не чем иным, как конспектом «Конца света, снятого ангелом Нотр-Дам». Вот как начинается описание светопреставления: «При первом звуке трубы солнце резко увеличивается в размере, а его свет ослабевает» (Сандрар, 1969, т. 2:21). Вспомним: «Леже растет подобно солнцу третичной эпохи» – то есть как раз того периода, который описан в «Конце света». Затем солнце вырастает до необыкновенных размеров и... «Солнце распадается. Нечто вроде гранулированного и фосфоресцирующего тумана над разъятым морем, где тяжело копошатся несколько непристойных, огромных, опухших личинок» (Сандрар, 1969, т. 2:28). Затем начинается окостенение мира: «Сочленение каменеет. <...>. Разреженное движение застывает в шарнире. <...>. Мы видим, как образуются кристаллы» (Сандрар, 1969, т. 2:29). Ср.: «И заставляет твердеть, фиксирует мертвую природу, небесную кору, жидкое, туманное, все, что темнеет». Затем в сценарии возникает мотив тьмы (Сандрар, 1969, т. 2:30): «Все черно». И далее происходит геометризация мира: «Сегменты тени отрываются. Снопы огня изолируются. Конусы, цилиндры, пирамиды» (Сандрар,
243
1969, т. 2:30). Ср.: «Живопись становится этой огромной движущейся вещью Колесом Жизнью Машиной».
Параллелизм двух этих текстов говорит о том, что Сандрар интерпретирует живопись Леже как собственный фильм о конце света – недаром в конце «Конструкции» он называет полотна художника «своим портретом».
Присвоение любого текста о «генезисе» опирается также на характерное для Сандрара стремление ввести собственное рождение внутрь сотворения мира. Так, он написал стихотворение «Чрево моей матери», где попытался описать свое состояние до рождения. Позже он с гордостью заявлял, что «это стихотворение – единственное на сегодняшний день свидетельство активности сознания у плода или, во всяком случае, набросок пренатального сознания» (Сандрар, 1964:234). Сандрар стремится в собственной предыстории раскрыть предысторию мира, ночь, из которой происходит развитие интеллигибельных форм. Не случайно, конечно, фраза «все черно» предшествует геометризации мира. Перед нами классическая метафора рождения. Кинематографический луч света во тьме также может быть причастен этой метафоре.
Примерно в это же время Сандрар пишет и публикует один весьма примечательный текст – «О цветовой партитуре» (17 июля 1919). Он посвящен неосуществленному проекту фильма художника Леопольда Сюрважа «Окрашенные ритмы». В 1914 году Сюрваж задумал снять фильм, основанный на ритмической трансформации во времени цветовых пятен и пучков. Он сделал множество эскизов к фильму, но кончить его не успел – началась первая мировая война. Аполлинер устроил выставку эскизов Сюрважа и опубликовал в своем журнале «Суаре де Пари» (№ 27, июль– август 1914) его манифест (Сюрваж, 1988), объяснявший замысел художника. Тогда Сандрар на выставку
244
Сюрважа не откликнулся. Он пишет статью о Сюрваже не раньше, чем по прошествии трех лет! При этом очевидно, что замысел Сюрважа мало его интересует, он использует «Окрашенные ритмы» лишь как повод для очередной кинематографической фантазии. После короткого вступления, где Сандрар сетует на неосуществленность замысла художника, он берет быка за рога: «Увы, непосредственная регистрация цветов еще недостижима в кино. Я постараюсь с помощью как можно более фотогенических слов передать тот смелый метод, с помощью которого г-ну Леопольду Сюрважу удается воссоздать и разложить круговое движение цветов. У него более двухсот картонов. Можно подумать, что мы присутствуем при самом сотворении мира (выделено мной. – М. Я.).
Понемногу красный заполняет собой весь диск зрения <...>. Он состоит из множества маленьких чешуек, расположенных одна возле другой. Каждая из этих чешуек увенчана чем-то вроде прыщика, который размягченно дрожит и наконец лопается, как остывающая лава» (Сандрар, 1969, т. 6:49—50). Далее возникает синий, «пускающий ветви» во все стороны. Красное вращается с синим. «На экране больше не остается ничего, кроме двух больших пятен, по форме напоминающих артишок, одно красное, другое синее, они обращены лицом друг к другу. Подобные эмбрионам – мужскому и женскому. Они приближаются, совокупляются, делятся на части, воспроизводятся делением клеток или группы клеток» (Сандрар, 1969, т. 6:50). Далее из этих клеток появляется растительность. «Ветви, ветки, стволы, все дрожит, ложится, встает. <...>. Все головокружительно вращается от центра к периферии. Образуется шар, сияющий шар самого великолепного желтого цвета. Подобный фрукту. Желтое взрывается» (Сандрар, 1969, т.6:50). Наконец, «белый твердеет и застывает. Он леденеет. И все вокруг. Образуется пустота. Диск, черный диск появляется
245
вновь и закрывает поле зрения» (Сандрар, 1969, т.6:51). Сейчас нам трудно точно восстановить связи текста Сандрара с замыслом Сюрважа. Эскизы Сюрважа дошли до нас не полностью. Они разбросаны по разным коллекциям и до сих пор не воспроизведены в достаточном объеме, чтобы можно было обоснованно судить о замысле «Окрашенных ритмов». Тем не менее даже известные эскизы позволяют говорить о комментарии Сандрара как явной мифологизации замысла и «наведении» на него собственного кинематографа. Восходящая к Делоне идея движения, порождаемого цветовыми контрастами, здесь однозначно интерпретируется в контексте генезиса мира. А весь эпизод с эмбрионами – типичная для Сандрара эротизация мифа сотворения мира. Текст содержит множество цитат из «Конца света». К их числу относится описание роста растений, мотив вращающегося и взрывающегося шара; типична для Сандрара и идентификация зрения с диском.
Во всяком случае эпизод с «Окрашенными ритмами» Сюрважа показывает, до какой степени Сандрару хотелось иметь в платоновской сфере идей тот фильм, который связывался в его сознании с наиболее важными, сущностными механизмами творчества. Тактика Сандрара здесь вполне согласуется с уже описанными нами другими его попытками приблизить воображаемый кинематограф к реализации. Он берет давно брошенный и неосуществленный замысел, которому со всей очевидностью не суждено реализоваться, и ретроспективно интертекстуализирует его, погружая в поле цитат из собственных произведений. Таким образом «чужой» текст становится огромной цитатой из его собственных текстов, как бы «сплагиированным» у него самого фильмом. Он настойчиво пестует кинематографическую утопию, но держит ее в стадии «эффективной нереализованности» – ведь данная кинематографическая модель в принципе важна для Санд-
246
papa как внутрилитературный механизм, как метамодель собственного творчества, фиктивно вынесенная за пределы литературы в сферу кино.
Особое значение имеет для Сандрара именно разрушительная стадия в творчестве, создание tabula rasa. При этом активное использование в разных семиотических контекстах повторяющихся тем (мотивированных автобиографическим характером почти всех его произведений) приводит к постоянному «переписыванию» «разрушенных» текстов. Обратный ход пленки в «Конце света» в этом смысле является прекрасной моделью поэтики Сандрара. Клод Леруа, отмечая «навязчивый характер» автобиографических элементов «сандраровского интертекста», убедительно показывает, что фиктивное «сведение» этого интертекста к хаосу, небытию – эффективный способ продуцирования новых текстов (Леруа, 1975).
Обращение литературной модели Сандрара на кинематограф носило двойственный характер. С одной стороны, речь шла о действительном увлечении кинематографом как генератором нового языка, с другой – о камуфлировании собственных литературных методов, проецировании их на сферу иного искусства.
Ганс, испытавший сильное влияние Сандрара, в своем «главном» теоретическом тексте так формулирует эту проблему: «Процесс создания сценария совершенно противоположен процессу написания романа или театральной драмы. Здесь все приходит извне. Сначала плывут туманы, потом атмосфера проясняется <...>; земля уже обрела форму, существа – еще нет. Вращается калейдоскоп» (Ганс, 1988:69). Далее Ганс описывает, как создаются существа, «человеческие машины», и как они готовятся к работе. Весь процесс создания фильма совершенно идентифицируется им с сотворением мира (здесь играет роль и демиургический комплекс Ганса) и резко противопоставляется литературе. Эта концепция Ганса как будто продикто-
247
вана Сандраром, который, всячески подчеркивая противоположность кино и литературы, сам постоянно строил свои литературные тексты по «кинематографической» модели.
Легко прощая заимствование собственных идей художникам и кинематографистам, активно насаждая их среди представителей иных искусств, Сандрар, однако, крайне негативно относился к их использованию собратьями по перу, видел в подобных заимствованиях посягательство на свой приоритет. Ж. Эпштейн вспоминает о тяжелой и длительной ссоре между ним и Сандраром, заподозрившим его в подобном грехе (Эпштейн тогда еще не работал в кино) и требовавшим от него, чтобы он остановил публикацию своей книги «Здравствуй, кино» (1921). Эпштейн не совсем понимал причины гнева своего вчерашнего покровителя. Речь же шла о книге Эпштейна, во многом дублировавшей «Азбуку кино» самого Сандрара и также задуманной как идеальная литературная модель кинематографа (Эпштейн, 1974:42, 48—49).
Но, пожалуй, наиболее изощренную систему отношений между поэтиками различных искусств Сандрар реализовал в балете «Сотворение мира» (1923). Эта работа имеет исключительно важное значение для понимания «Механического балета», потому что именно в ней, непосредственно перед созданием фильма, сотрудничество Сандрара и Леже (оформителя балета) достигло кульминации. Балет был создан на либретто Сандрара и музыку Дариуса Мийо хореографом Жаном Берлином для «Шведского балета» Рольфа де Маре. Сандрар использовал для либретто африканскую легенду о сотворении мира из собственной «Негритянской антологии». Но эта тема имела для него и гораздо более глубокое значение. Речь шла о балете генезиса мира и генезиса текста.