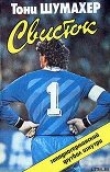Текст книги "Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф"
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
63
С другой стороны, через фильм Фуллера вводится более глубокое понимание отношений между Патрицией и Мишелем, отношений, в которых Мишель выступает как жертва, мишень. Этот эпизод как бы предвосхищает трагическую смерть героя, погибающего из-за предательства Патриции.
Вместе с тем этот эпизод до такой степени органично включен в годаровское повествование, так прозрачен в общем мимесисе фильма, что требуется специальный комментарий Годара, чтобы усмотреть в естественно-непреднамеренном действии героини отсылку к фильму Фуллера. Без помощи Годара эта цитата, по существу, необнаружима, она исчезает в ненарушенной линеарности рассказа. Сознательная, очевидная цитата, таким образом, для зрителя таковой не оказывается. Мы имеем выразительный случай сокрытия цитаты, ее исчезновения в мимесисе. Более того, смею утверждать, что до появления годаровского комментария этот эпизод, как это ни парадоксально, не был цитатой.
Теперь обратимся к другому примеру, извлеченному из фильма К. Т. Дрейера «Вампир» (1932). Фильм начинается с того, что его герой Дэвид Грей появляется на берегу реки и обнаруживает здесь странную гостиницу. Второй от начала план фильма показывает нам необычную вывеску этой гостиницы – ангела с крыльями, держащего в одной руке ветвь, а в другой – венок. Грей селится в гостинице и ложится спать. В момент, когда сновидения уже подступают к герою, вновь возникает крупный план той же вывески, следом за которым показывается загадочное явление в комнату засыпающего Грея владельца близлежащего замка, чьи обитатели стали жертвой вампира. Не будем более подробно касаться сложного «сюжета» фильма, блестяще проанализированного Д. Бордуэлом, показавшим, что в основе дрейеровского сюжета лежит притча о погружении героя в смерть, как о приближе-
64
нии к тайному знанию (Бордуэл, 1981:93—116).
В данном случае нас интересует странная вывеска гостиницы. Будь она показана на общем плане вместе со зданием, она могла бы пройти незамеченной. Но ее ни разу не демонстрируют вместе с гостиницей, но каждый раз в изолированном крупном плане. Во втором случае это вклинивание вывески в повествование кажется совершенно неуместным. Мы видим, как Грей после осмотра гостиницы заходит к себе в комнату и запирает дверь на ключ. Затем следует титр, говорящий о том, что лунный свет придавал предметам ирреальный облик, о том, что страх охватил героя и мучил его во сне. Далее возникает уже виденная зрителем вывеска гостиницы. И сразу после вывески мы видим спину лежащего в постели спящего Грея. Далее ключ в замке поворачивается и в комнату входит владелец замка. Очевидно, что неожиданное возвращение на улицу, к вывеске в данном монтажном контексте носит откровенно аномальный характер, а потому и может читаться как цитата.
Ветвь в руке ангела первоначально дает хороший ключ к пониманию смысла вывески. Естественным образом она ассоциируется с золотой ветвью Энея из «Энеиды» Вергилия. Как известно, золотая ветвь была необходима Энею, чтобы пересечь Стикс, погрузиться в царство теней и живым вернуться назад. Сивилла, советующая Энею раздобыть ветвь, говорит:
Но не проникнет никто в потаенные недра земли,
Прежде чем с дерева он не сорвет заветную ветку.
Всем велит приносить Прозерпина прекрасный этот
Дар для нее
(Вергилий, 1971:223).
Отсылка к «Энеиде» сейчас же придает всему дальнейшему приключению Грея особый смысл и метафорически приравнивает его к погружению в царство мертвых. Тем более что сон, смерть, тени – устойчивые мотивы фильма – обнаруживаются и в «Энеиде».
65
В фильме существуют и прямые указания на «Энеиду». Например, между прислужником вампира – доктором – и Греем происходит разговор о якобы слышимых лае и крике ребенка (которого нет в фонограмме). Но именно эти два звука – первое, что слышит Эней в Аиде: «Лежа в пещере своей, в три глотки лаял огромный Цербер. ...Тут же у первых дверей он плач протяжный услышал: Горько плакали здесь младенцев души...» (Вергилий, 1971:230). Да и венок, который держит ангел, обнаруживается в «Энеиде» на головах славных потомков Энея и т. д.
Таким образом, отсылка к «Энеиде» снимает аномальность неожиданного возникновения вывески в монтаже и достаточно убедительно интегрирует данный план в контекст фильма. Между тем аномалии сняты не до конца. Странным все же представляется то, что ветвь и венок держит ангел с большими крыльями, явно не имеющий никакого отношения к «Энеиде». Не до конца проясненным остается и то, почему ангел с ветвью превращен в вывеску гостиницы, чья роль в фильме столь мало функциональна. Это лишь место, где Грей ложится спать, где его посещает полусновидческий-полуреальный образ владельца замка и вручает ему книгу о вампирах. После этого Грей покидает гостиницу и уже ни разу туда не возвращается. С точки зрения экономии повествовательных средств, он точно так же мог набрести в сумерках не на гостиницу, а на замок и попроситься там на ночлег.
Интертекстуальность позволяет снять и эти противоречия. Можно предположить, что странная вывеска «цитирует» сонет Бодлера «Смерть бедняков», где возникает образ «гостиницы смерти»:
Смерть – ты гостиница, что нам сдана заране, Где всех усталых ждет и ложе и обед! Ты – Ангел: чудный дар экстазов, сновидений Ты в магнетических перстах ко всем несешь.
(перевод Эллиса. Бодлер, 1970:207).
66
Уточним, впрочем, что в оригинале у Бодлера первая строка звучит иначе: «Это знаменитая гостиница, вписанная в книгу», что может объяснить появление мистической книги именно в данной гостинице. Бодлер метафорически описывает смерть и как гостиницу, и как ангела, несущего сновидения. Таким образом, появление ангела на вывеске гостиницы смерти в момент погружения героя в сон делается достаточно мотивированным. Возможно, в подтексте находится и «Красная гостиница» Бальзака, также связанная с темой смерти, крови (ср. с темой вампира). Укажем также и на мотив лающих свирепых псов, заявленный у Бальзака, но никак не проявляющий себя во время ночных блужданий героя повести по берегу реки.
М. Риффатерр показал, что сонет Бодлера интертекстуально связан со стихотворением Жана Кокто 1922 года «Лицевая и оборотная сторона», где также развернут образ гостиницы смерти и, кстати, также появляется образ мистической книги, центральный для фильма Дрейера:
Мы читаем одну сторону книжной страницы, другая спрятана от нас. Мы не можем читать дальше, Знать, что происходит потом
(Кокто, 1925:431).
Но самое любопытное, что Кокто в чрезвычайно сложном фрагменте обращается к мотиву вывески на гостинице смерти:
Дело в том, смерть, что ваша гостиница не имеет
никакой вывески (enseigne) А я хотел бы издали увидеть прекрасного лебедя,
(cygne) истекающего кровью (qui saigne) И поющего, покуда у него выкручивают шею, Так я узнал бы то, чего я еще не знаю: Место, где сон прервет мой путь, И долго ли мне еще осталось идти
(Кокто, 1925:432).
67
Вывеска, как и книга, здесь – предсказание будущего. Как показал Риффатерр (Риффатерр, 1979:80-81), вовсе не лебедь имеет здесь пророческое значение, но параномазия и спрятанные в тексте параграммы. Вывеска (enseigne) является параграммой глагола «истекать кровью» (saigner), а лебедь (cygne) – омонимом слова «знак» (signe). Таким образом, «истекающий кровью знак» и есть то, что объявляет судьбу, учит (enseigne) судьбе.
Если пророческая функция вывески на «гостинице смерти» заключена в знаке крови, то становится понятна ее связь со всей темой вампиризма и крови, книги о вампирах, предопределяющих судьбу героя на его пути в царство смерти.
Теперь мы можем ответить на вопрос, почему декларированная самим Годаром цитата из Фуллера не является таковой в режиме «нормального» прочтения фильма, а жестяная вывеска на гостинице в фильме Дрейера оказывается не просто цитатой, но своего рода гиперцитатой, наслаивающей один интертекст на другой. Взгляд Патриции сквозь свернутую трубкой афишу органично вписан в повествование «На последнем дыхании», он не несет в себе аномалий, противоречий, интерпретационных сложностей. Поэтому для чтения он не является цитатой. Другое дело – вывеска из «Вампира». Она вставлена в монтаж фильма таким образом, чтобы ее «аномальность» в монтажном ряду всячески подчеркивалась, она ни разу не показана на гостинице в общем плане и таким образом как бы вырвана из диегесиса, искусственно оторвана от своего места в пространстве действия. Фигура на вывеске (ангел с ветвью) для своего сопряжения с сюжетом фильма требует мотивировок, которые невозможно найти в самом «Вампире». Отсылка к «Энеиде» не разрешает до конца всех противоречий. И только напластование интертекстуальных связей позволяет в конце концов ввести этот нарушающий
68
логику рассказа элемент в текст. Аномальный фрагмент органично входит в текст, только став цитатой.
Приведенный анализ может вызвать возражения. Нам могут возразить, что мы не имеем никаких сведений о знакомстве Дрейера со стихотворениями Бодлера и Кокто и т. д. Но в данном случае, как мы стремились показать, этот вопрос не имеет смысла. Даже если Дрейер имел в виду нечто совершенно иное, Бодлер и Кокто позволяют вписать вывеску в текст фильма, а потому выполняют интертекстуальную функцию вне зависимости от намерений автора.
Г. Геральдическая конструкция и принцип «третьего текста»
Разобранный нами мотив представляет особый интерес и с иной точки зрения. Мы увидели, что один фрагмент текста для своей интеграции в контекст не всегда может обойтись отсылкой к одному внеположенному тексту (например, «Энеиде»). Для его интеграции необходимо привлечение двух, трех, а иногда и более текстов, превращение цитаты в гиперцитату. Это явление далеко не единично, а скорее характерно для феномена интертекстуальности. Цитата становится гиперцитатой в том случае, когда одного источника недостаточно для ее нормализации в текстуальной ткани.
Такая ситуация ставит целый ряд непростых вопросов. Гиперцитата не просто «открывает» текст на иные тексты, не просто расширяет смысловую перспективу. Она наслаивает множество текстов и смыслов друг на друга. По существу, она оказывается такой смысловой воронкой, куда устремляются теснящие друг друга смыслы и тексты, при том, что последние часто противоречат друг другу и не поддаются объединению в единое целое господствующего, уни-
69
тарного смысла. Действительно, с помощью «Энеиды», стихотворений Бодлера и Кокто, мы смогли интегрировать гостиничную вывеску «Вампира» в текст, но эта интеграция осуществлена за счет привлечения весьма разнородных интертекстов. В итоге, смысловая «нормализация» цитаты в фильме приводит к своего рода «декомпенсации» на ином уровне. Гиперцитаты упорядочивают текст, одновременно создавая «вавилон» смыслов.
Эта проблема решается двояко. С одной стороны, интертекстуальность может пониматься как произвольное нагромождение ассоциаций, цитат, голосов, в духе высказывания Годара о людях, которые цитируют то, что им нравится: «В заметках, куда я помещаю все, что может понадобиться для моего фильма, я отмечаю и фразу Достоевского, если она мне нравится. Чего ради стеснять себя? Если вам хочется что-то сказать, есть только одно решение: сказать это» (Годар, 1985:218). Моделью интертекстуальности становятся эти свободно аккумулирующие все, что попадается на пути, заметки. Такое понимание интертекстуальности сформулировал Барт: «Я упиваюсь этой властью словесных выражений, корни которых перепутались совершенно произвольно, так что более ранний текст как бы возникает из более позднего» (Барт, 1989:491). Для Барта эта произвольность аккумуляции смыслов важна потому, что она несет в себе отпечаток непредсказуемой и подвижной жизни.
Однако большинство исследователей стоит на других позициях. Л. Женни замечает: «...интертекстуальность обозначает не смутное и таинственное накопление влияний, но работу трансформации и ассимиляции множества текстов, осуществляемую центрирующим текстом, сохраняющим за собой лидерство смысла. <...>. Мы предлагаем говорить об интертекстуальности только тогда, когда в тексте можно обнаружить элементы, структурированные до него...» (Женни,
70
1976:262). Ему вторит Риффатерр, решительно отвергающий концепцию Барта: «...любое интертекстуальное сближение руководствуется не лексическими совпадениями, но структурным сходством, при котором текст и его интертекст являются вариантами одной и той же структуры» (Риффатерр, 1972:132).
Действительно, только структурная изоморфность текстов или текстовых фрагментов позволяет унифицировать смысл в рамках центрирующего текста-лидера. Речь, по существу, идет о некоем повторении одного и того же в интертексте и в тексте, но о повторении, разумеется, подвергшемся трансформациям, смысловой работе.
Особенно хорошо структурный изоморфизм проявляется в параграммах, где два сообщения с помощью взаимоналожения включены в единую текстовую структуру. Не случайно, конечно, Кристева обнаруживает именно в параграммах «центрирование в рамках единого смысла» (Кристева, 1969:255). Но ей же принадлежит и простая схема интертекстуальных отношений, которые, якобы, могут строиться по трем типам:
1) Полное отрицание (полная инверсия смыслов);
2) Симметричное отрицание (логика смысла та же, но существенные оттенки сняты);
3) Частичное отрицание (отрицается часть текста) (Кристева, 1969:256—257).
Понятно, что такого рода процедуры вообще возможны только при взаимодействии изоморфных друг другу структур. Как иначе можно представить себе, например, «симметричное» или «частичное» отрицания?
Эта потребность в структурности внутри интертекстуальных связей уже давно выдвигает на первый план проблему «текста в тексте» или того, что принято называть «la construction en аbiме». Это выражение, чей дословный перевод – «конструкция в виде пропа-
71
сти», позаимствовано из геральдики и обозначает повторение внутри герба точно такого же герба в уменьшенном виде. В силу этого, в дальнейшем будем называть подобную конструкцию «геральдической конструкцией». Впервые этот геральдический термин был перенесен на строение текстов Андре Жидом, который именно так окрестил живописные полотна, внутри которых помещено зеркало, сцену «мышеловки» в «Гамлете» или «марионеточного театра» в «Вильгельме Мейстере». Речь шла о разыгрывании персонажами в тексте той ситуации, в которую они сами включены (Жид, 1951:41).
«Геральдическая конструкция» отмечена повышенным градусом структурного сходства обрамляющего и инкорпорированного текстов. Л. Дэлленбах отметил сходство «геральдической конструкции» с тем явлением, которое проанализировал К. Леви-Стросе под названием «уменьшенная модель» (Дэлленбах, 1976:284). Под «уменьшенной моделью» Леви-Стросе понимает воспроизведение некоего реального объекта в уменьшенном виде, например, на живописном полотне. Изменение масштаба, по Леви-Строссу, само по себе имеет некие семантические последствия, например, придает копии объекта свойства сделанного вручную предмета, задает некий опыт овладения предметом, «компенсирует отказ от чувственных измерений приобретением интеллигибельных измерений» (Леви-Стросе, 1962:36). Речь идет, по существу, о переводе предмета в некое иное качество, которое в конце концов не может быть сформулировано с полной очевидностью. Мы бы определили эту трансформацию предмета в уменьшенной модели, как переход от предметности к репрезентации. Мишель Фуко, разбирая классический пример «геральдической конструкции» – «Менины» Веласкеса со сложным зеркальным пространственным построением, приходит к аналогичному выводу: «...репрезентация может даваться здесь
72
как чистая репрезентация» (Фуко, 1966:31). Тексты, действующие на основе удвоения, сопоставляют по-разному закодированные фрагменты, несущие сходное сообщение и тем самым лишь усиливают ощущение самого факта присутствия кода, то есть наличия репрезентации. Ю. М. Лотман так определяет это явление: «Удвоение – наиболее простой вид введения кодовой организации в сферу осознанно-структурной конструкции» (Лотман, 1981:14).
«Геральдическая конструкция» в конце концов создает лишь иллюзорную игру отсылок, референций, постоянно акцентируя одно и то же – игру кодов, выявленность репрезентации, структурный изоморфизм и... мерцающую за всем этим смысловую неопределенность. Конечно, отражение никогда не бывает точным, оно всегда несет в себе трансформацию, вариацию, тем более очевидную, что она накладывается на повтор. Но реальное производство смысла, возникающее в результате такой вариации, часто является результатом игры отражений и поглощается этой игрой. Мы оказываемся перед лицом настоящей иллюзии смыслопорождения, которая всегда в каком-то смысле сопровождает «чистую репрезентацию». Известные нам анализы фильмов с «геральдической конструкцией» только подтверждают справедливость наших слов, так как они почти целиком сосредоточены на улавливании системы отражений (Иванов, 1981; Метц, 1975:223—228).
Характерным случаем цитатной «геральдической конструкции», которую Дэлленбах определяет не как интертекстуальность, а как автотекстуальность (то есть внутреннее самоцитирование текста) является введение в фильм живописных, графических изображений. Они также играют роль своего рода «уменьшенных моделей». Резко выделяясь типом кодирования из ткани фильма, они декларируют свою подчеркнутую репрезентативность. Попробуем рассмотреть
73
на нескольких примерах, какова их смысловая роль. В уже упомянутом нами эпизоде из «На последнем дыхании» Годара, помимо афиши с репродукцией картины Ренуара, нам показывают еще две репродукции Пикассо. Одна изображает идиллическую юную чету и возникает в тот момент, когда Патриция за кадром говорит: «Я бы хотела, чтобы мы были Ромео и Джульеттой». Вторая появляется чуть позже. Она изображает юношу, который держит в руках маску старика. В момент, когда эта гравюра Пикассо занимает экран, за кадром звучит голос Мишеля: «Это все равно, что говорить правду, когда играешь в покер. Люди считают, что ты блефуешь, и ты выигрываешь».
В обоих случаях мы имеем дело почти с тавтологическим удвоением смысла. Показ любовной пары на фоне упоминания о Ромео и Джульетте или юноши с маской – на фоне реплики о блефе, ничего существенного не прибавляет к смыслу реплик. И все же... проходные реплики, за счет их сближения с цитатами из Пикассо, как будто «приподнимаются на котурнах», приобретают большее значение, принимают на себя что-то от репрезентативности листов Пикассо. Смысл в данном случае не столько открывается, сколько вводится в контекст подчеркнутой репрезентации и за счет повтора становится более отчетливым, унитарным. Цитаты здесь подобны красному карандашу учителя. Но этот указующий перст создает и отчетливое ощущение дидактичности, примитивности простого удвоения. Именно в силу этого «геральдические конструкции» в текстах тяготеют к троичности, а иногда и к еще большему умножению двойников. В «Гертруде» (1964) Дрейера героиню мучает навязчивый сон. Она видит себя обнаженной и преследуемой сворой собак. Но в том же фильме фигурирует и большой гобелен, изображающий обнаженную Диану, которую разрывают на части псы Актеона. Сон удваивается живопис-
74
ной репрезентацией. Но тот же мотив с отчетливостью проецируется и на жизненную ситуацию Гертруды. Смысл сна, по справедливому замечанию П. Бонитзера, «прозрачен и лапидарен: собаки – это мужчины, чьим желаниям – грубому эрзацу той любви, о которой она мечтает – Гертруда отдается в видениях и гибнет, растерзанная ими» (Бонитзер, 1985:93). Сама очевидность ситуации как будто не требует удвоения, обращения к автотекстуальности. Однако мы имеем не просто удвоение, но утроение коллизии в различных знаковых материях: словах героини, изображении на гобелене.
Приведем еще один пример. Он взят из фильма Э. Шёдзака и И. Пичела «Самая опасная игра» (1932). Этот мрачный готический фильм рассказывает о приключениях двух молодых людей, Рейнсфорда и Евы, потерпевших кораблекрушение у берегов острова, принадлежащего зловещему маньяку графу Зарову, который соглашается отпустить своих невольных гостей на волю при условии, что они уцелеют во время организованной Заровым охоты на них. Зарову прислуживает страшный бородатый слуга Иван. Фильм начинается изображением двери замка Зарова. Крупный план показывает нам странный дверной молоток в виде пронзенного стрелой кентавра, держащего в руках обессилевшую девушку. Затем из внекадрового пространства возникает рука (Рейнсфорда), которая трижды бьет дверным молотком в дверь. Этот кентавр с девушкой в руках появляется вторично на гобелене, украшающем лестницу замка. На сей раз делается очевидным сходство лица кентавра со зловещей физиономией Ивана. Но режиссерам этого мало, и они специально подчеркивают сходство кентавра и слуги, в одном из кадров помещая Ивана на фоне гобелена и заставляя его сохранять неподвижность для того, чтобы сходство не оставляло уже никаких сомнений. Изображение кентавра с женщиной не только дважды
75
возникает в фильме – в виде скульптуры дверного молотка и изображения на гобелене, – но и усиленно сопрягается с персонажем фильма. «Геральдическая конструкция» здесь вновь приобретает троичность. Но в гобелене сюжет развернут более полно: в зарослях мы видим и юношу, который пустил стрелу в кентавра и который, разумеется, идентифицируется с Рейнсфордом, будущим победителем в борьбе за жизнь Евы и его собственную. Троичность автотекстуальных связей создает более сложное пространство референций и взаимоотражений, настоящую иллюзию смысловой глубины, особенно если учесть определенные вариации в развертке мотивов.
Т. Кюнтзель, давший превосходный психоаналитический анализ фильма, отмечает: «В теле кентавра сочленяются человек и животное, и эта смесь в своих различных формах (дикий-цивилизованный, природный-культурный, дичь-охотник) составляет проблематику фильма, поле его операций» (Кюнтзель, 1975:143). В таком контексте автотекстуальный повтор лишь центрирует тему фильма, выявляет ее и подчеркивает, не прибавляя ничего особенно нового. Но сама фигура кентавра и связанный с ней мифологический слой позволяют значительно расширить поле референций. Кентавр, похищающий женщину, – классический мотив мифологии. Кентавры похищали жен у лапифов, кентавр Эвритион пытался похитить невесту Пирифоя, Несс покушался на Деяниру и т. д. Данте помещает Несса, Хирона и Фола в ад (XII, 55– 139), заставляя кентавров охотиться на грешников: Их толпы вдоль реки снуют облавой, Стреляя в тех, кто, по своим грехам, Всплывет не в меру из волны кровавой (Данте, 1950:50).
Уже одна эта цитата из Данте способна придать фильму Шёдзака и Пичела особый метафорический
76
смысл, позволяя по-новому осмыслить и кораблекрушение, и угрозу болот на острове, и весь смысл охоты.
Но дело не только в этом. Существенней, пожалуй, то, что умножение репрезентаций отрывает персонажей от заземленной реальности, распыляя ее в отражениях и символах. Марк Верне, анализируя мотив загадочного портрета в кинематографе, приходит к выводу, что удвоение героя в живописном изображении «извлекает субстанцию из реальности» (Верне, 1988:89), или, используя выражение Леви-Стросса, придает ей «интеллигибельный» характер. Реальность становится носителем смысла, который не всегда имеет формулируемый характер. П. Бонитзер справедливо замечает: «...план-картина всегда провоцирует удвоение видения и придает изображению характер тайны, понимаемой либо в религиозном, либо в полицейском смысле» (Бонитзер, 1985:32). Действительно, речь идет о конституировании тайны как таковой, то есть акцентировании загадочности возникающего смысла. Отсюда и острая потребность в умножении двойников, наращивании референций. Не случайно, конечно, в «Самой опасной игре» мы как раз и сталкиваемся с соединением детективной загадки с неким религиозным таинством (если иметь в виду отсылку к Данте).
То, каким образом удвоение в «геральдической конструкции» требует третьего текста как источника цитирования, можно продемонстрировать на примере фильма А. Сокурова «Спаси и сохрани» (1989). Похороны Эммы обставлены в фильме достаточно загадочно. Героиню хоронят в трех гробах, внешний из которых циклопически огромен. Само по себе умножение гробов создает ситуацию некой загадки, вызывающей недоумение у зрителя. Поскольку фильм является свободной экранизацией «Мадам Бовари» Флобера, то загадка трех гробов как будто может быть решена обращением к первоисточнику. В данном случае
77
фильм педантично следует роману Флобера. Шарль у Флобера так формулирует свою волю относительно похорон Эммы: «...гробов три: первый – дубовый, второй – красного дерева, третий – свинцовый. <...>. Я так хочу. Сделайте так».
Все очень удивились таким романтическим выдумкам Бовари...» – пишет Флобер (Флобер, 1947:168), подчеркивая загадочную эксцентричность такого решения. Между тем отсылки к Флоберу не хватает для того, чтобы мотивировать аналогичное решение у Сокурова. Идея чистой иллюстрации оказывается недостаточно сильной для нормализации чтения фильма, его понимания. При этом введение третьего источника, который, казалось бы, способен лишь запутать ситуацию, может оказаться спасительным для зрителя. Таким источником, скажем, мог бы послужить Эйзенштейн, обращающийся к тому же образу в работе «Монтаж, 1937»: «Очень впечатляют обычно описания покойников, пересылаемых на дальние расстояния: эти заключенные друг в друга гробы – дубовый, свинцовый, футляр на дубовый, футляр на свинцовый. Таковы гравюры, [изображающие] Наполеона в гробу после перевозки его тела с острова Святой Елены, когда подняты крышки всех гробов, и тело Наполеона кажется обведенным четырехкратным контуром гробов от самого близкого и непосредственного до сурового внешнего ящика, охватывающего внутренние слои» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 2:389). Введение в цепочку Флобер—Сокуров совершенно «ненужного» здесь Эйзенштейна сразу решает множество проблем. Оно увязывает фильм Сокурова с творчеством Эйзенштейна (а «Стачка» – любимый фильм Сокурова), вводит ассоциацию с Наполеоном, которая много «объясняет» в романе Флобера, особенно если вспомнить, что Шарль хотел украсить могилу Эммы пирамидой, храмом Весты и в конце концов остановился на мавзолее, «у которого на обоих главных
78
фасадах должно было быть изображено по «гению с опрокинутым факелом» (Флобер, 1947:175). Все это придает особую гротескность и идее о трех гробах, которые начинают читаться как пародия на похороны Наполеона и т. д. Смысл, «закупоренный» в горловине между фильмом и романом, вдруг начинает циркулировать, хотя и по весьма произвольным законам. Третий текст создает иллюзию объяснения семантической загадки, возникающей в результате взаимоотражения двух зеркально обращенных и сходных текстовых фрагментов. Третий текст как бы вырывает смысл из замкнутого пространства удвоения.
Несколько иной вариант «геральдической конструкции» обнаруживается в фильме «Перевоспитание пьяницы» (1909), к которому в ином контексте нам еще предстоит вернуться во второй главе этой работы. Фильм вписывался в начатую в конце 1908 года мэром Нью-Йорка Макклелланом кампанию по моральному оздоровлению кинематографа (Ганнинг, 1984) и был по-настоящему дидактическим фильмом, призванным продемонстрировать ужасы пьянства. В первом эпизоде фильм показывает отца семейства, являющегося в пьяном виде домой и терроризирующего жену и восьмилетнюю дочь. Дочь приглашает отца в театр, на сцене которого разыгрывается та же самая история, что была представлена в первом эпизоде – опустившийся пьяница устраивает дебоши и терроризирует жену и дочь. Увиденное на сцене пробуждает совесть героя, который возвращается домой, порывает с пьянством и возникает в последнем эпизоде фильма в идиллической сцене, в окружении жены и дочери у камина.
«Геральдическая конструкция» фильма, разворачивающего на сцене театра то, что происходит в сюжете ленты, специально отмечалась в рекламном бюллетене «Байографа»: «Вся конструкция фильма совершенно новая, показывающая пьесу внутри пьесы»
79
(Байограф, 1973:77). Зеркальность конструкции «текст в тексте» особенно подчеркивается в фильме чередующимся изображением, демонстрирующим то происходящее на сцене театра, то зрительный зал, где герой, обнимающий девочку, остро реагирует на происходящее, указывая пальцем на сцену и на себя, тем самым как бы акцентируя идентичность происходящего в пьесе и в «жизни». Классическим можно считать и дублирование сюжета в театральном представлении, которое подчеркивает смысл, придает ему дидактический характер за счет повтора и разворачивает сюжет фильма в зеркале театральной репрезентации.
Между тем в бюллетене «Байографа» содержится одна весьма значимая деталь. Театральное представление определяется здесь как перенос на сцену «Западни» Золя. Разумеется, вся тема алкоголизма позволяет сблизить театральное представление из «Перевоспитания пьяницы» с романом Золя. И все же трудно себе представить, чтобы зритель фильма идентифицировал представленный в нем спектакль именно как «Западню». На это в фильме нет никаких указаний, а сюжет пьесы, повторяющий сюжет фильма, не имеет никакого отношения к роману, прежде всего рисующему не столько деградацию мужчины-пьяницы (у Золя – Купо), сколько историю падения Жервезы, спивающейся, выходящей на панель, изменяющей Купо с Лантье и т. д. Ничего этого в фильме Гриффита, разумеется, нет, а вероятная Жервеза представлена точно так же, как героиня фильма – она чистая, невинная, страдающая женщина, жертва деградирующего мужа. Эту отсылку к Золя можно было бы счесть простой неточностью, если бы вся структура «Перевоспитания пьяницы» не воспроизводила совершенно аналогичную «геральдическую конструкцию» из другого романа Золя – «Добыча». В «Добыче» описывается представление «Федры», на котором присутствуют
80
героиня романа Рене и сын ее мужа от первого брака Максим, к которому она пылает кровосмесительной страстью. Отношения Рене и Максима зеркально отражают отношения Федры и Ипполита на сцене. При этом спектакль устанавливает, как и в фильме Гриффита, полнейшую идентификацию героев романа с героями пьесы и как шок действует на сознание Рене. Когда начинается монолог Терамена на сцене, Рене истерически соединяет в своем сознании пьесу Расина и свою жизненную коллизию: «Продолжался бесконечный монолог. Мыслями Рене была в оранжерее, ей представлялось, что муж ее входит, застает ее под пылающей листвой в объятиях сына. Она переживала ужасные муки, почти теряя сознание; но вот раздался последний, предсмертный вопль Федры, полной раскаяния, бившейся в конвульсиях от выпитого яда, и Рене открыла глаза. Занавес опустился. Хватит ли у нее когда-нибудь силы отравиться? Какой мелкой и постыдной казалась ее драма в сравнении с античной эпопеей!» (Золя, 1957:452:453). Фильм Гриффита воспроизводит не только структуру «геральдической конструкции» (пьеса в тексте), но сам тип реакции персонажей. В «Добыче» этот прием повторен с вариацией дважды. Здесь описано также театральное представление живых картин «Любовные похождения Нарцисса и нимфы Эхо». Но на сей раз актерами являются сами Рене и Максим, представляющие свои отношения публике. Система зеркал в данном случае подвергается инверсии. Для Золя чрезвычайно существенно то, что театральное представление изображает ситуацию лжи, поскольку театр для него (в классических формах), в противоположность натуралистическому роману, есть место лжи: «здесь всегда придется лгать» (Золя, 1971:166). Театральная репрезентация как носитель лжи в романе Золя одновременно выступает и как место выявления, разоблачения этой лжи, а потому – утверждения правды. Разница в типе коди-