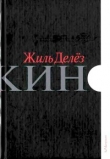Текст книги "Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф"
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Не случайно, конечно, свою экранизацию «Пиппы» Гриффит называет «Песнь сознания». Это определение, скорее всего, относится не столько к пению Пип-
117
пы, сколько ко всему фильму. Не случайно также Гриффит в 1910 году снимает фильм «Хорал», не включающий в сюжет специальной музыкальной темы. В «Хорале» рассказывается о том, как менеджер театральной труппы пытается соблазнить девушку, бедную дочь престарелых родителей. Но в последний момент «голос души обращается к ней: «Вспомни отца своего и мать». И она вспоминает о них, они встают как живые перед ее внутренним взором. И эта мысль так действует на нее, что она наконец понимает, что играет с огнем, она поворачивается и бежит домой...» (Байограф, 1973:251). Музыкальная метафора в названии попросту указывает на ту же ситуацию, которая разыгрывается в «Пиппе», – неожиданное просветление в сознании. Отметим также превращающуюся в клише оппозицию: театр как мир греха – музыка как сфера нравственного пробуждения. Внешнему театральному зрению противопоставляется внутреннее «музыкальное зрение».
В 1909—1910 годах Гриффит ставит целый ряд фильмов, транспонирующих в разные сюжеты браунинговскую ситуацию. В «Голосе скрипки» (1909) учитель музыки, анархист фон Шмидт должен по заданию террористической группы взорвать дом, где живет его любимая ученица. Фон Шмидт подходит к дому «в то время, когда мелодия его собственной скрипичной композиции летит в ночном воздухе, и, поднявшись по ступенькам крыльца, видит Элен, играющую на скрипке. Понимание того, что должно произойти через мгновение, потрясает его» (Байограф, 1973:73). Фон Шмидт прозревает и вступает в борьбу с террористами, спасая девушку. В данном случае мы имеем почти перевернутый эпизод с Луиджи из «Пиппы», опущенный Гриффитом при экранизации Браунинга. В другом фильме – «Во имя спасения ее души» (1909) – речь идет о маленькой певице из сельского церковного хора, которую увозит в город менеджер воде-
118
вильной труппы. Перед самым падением девушки, увязшей в путах греха, ее спасает молодой священник Пол Редмонд и т. д.
В 1909 году Гриффит осуществляет еще одну «музыкальную» экранизацию – «Скрипичный мастер из Кремоны» по поэтической драме Франсуа Коппе. В основе драмы – соперничество двух скрипичных мастеров из Кремоны, горбуна Филиппо и красавца Сандро, за сердце девушки Джанины. Мелодрама Коппе построена на контрасте между видимостью – уродливой внешностью Филиппо – и чистотой его сердца, проявляемой в божественной игре его скрипки. В монологе Сандро Филиппо сравнивается с дочерью фракийского царя Пандиона Филомелой, превратившейся в соловья (Коппе, 1909:14). Мотив метаморфозы в данном случае является сюжетным метаописанием трансформаций и преображений видимого в сущностное, а по существу воспроизводит миф о вытеснении источника. Показательно, что в «Занони» у Бульвер-Литтона мы обнаруживаем ссылки на Кремону («Кремона среди инструментов – то же, что Шекспир среди поэтов» (Бульвер-Литтон, б. г. :28) как раз в контексте сдвига от поэзии к музыке, а также подробное изложение мифа о Филомеле, превращенного в сюжет последней оперы Гаэтано Пизани.
Таким образом, «Пиппа проходит» появляется в творчестве Гриффита в шлейфе вариаций на ту же тему, В них освоен символический лексикон, через который осуществляется подавление театрального источника. Лексикон этот в XIX веке имеет тенденцию к универсализации, как показывают совпадения мотивов между французской драмой Коппе и английским романом Литтона. «Пиппа проходит» занимает центральное место в ряду этих вариаций прежде всего потому, что этот фильм отсылает к «сильному» первоисточнику – драме Браунинга и связанной с ней культурной традиции.
119
Слово Браунинга выступает как альтернатива театральным источникам. Но слово это несет на себе сильную печать собственных сдвигов и вытеснений. Оно постулирует музыку в качестве альтернативного источника собственных заимствований.
Вместе с музыкой в фильм вводится ее визуальный эквивалент – солнечный свет. В прологе и эпилоге Гриффит применил специальную систему подсветки для создания иллюзии восхода и заката. Т. Ганнинг связывает эти световые эффекты с общей тенденцией заключать фильмы эстетизированным изображением. Но он же отмечает, что особое освещение «имеет ясное тематическое значение. Чаще всего использование направленного света, освещающего фигуры в темном пространстве, вызывает ассоциации с духовным призванием» (Ганнинг, 1986:596). Дж. Пруитт, специально исследовавший освещение в фильмах «Байографа», также указывает на его роль в передаче «мистического чувства надежды и примирения» (Пруитт, 1980:57) в таких фильмах как «Рабыня» (1909) или «Сверчок на печи» (1909). Особое значение исследователь придает «сценам с окном», возле которого, утопая в лучах света, находится жаждущий лучшей доли человек. Внезапность светового озарения, подобная внезапности музыкального воздействия, заставляет Гриффита пластически реализовывать ее в эффекте мгновенного освещения (просветления комнаты), как например, в «Эдгаре Аллане По» (1909).
Отметим, что и «Перевоспитание пьяницы» завершается изображением счастливой семьи у очага с подчеркнутым световым эффектом. И «Перевоспитание пьяницы» и «Пиппа проходит» тем самым вписываются в ряд фильмов откровения, где сквозь слово (театральное слово Золя и литературное – Браунинга) уже явственно проступает установка на внесловесное, на нецитируемое, воплощенное в свете. Вытеснение источника (литературного) даже через постулиро-
120
вание Браунинга как источника влияния сопровождается резким усилением внецитатного, иллюзорно неинтертекстуального.
Одновременно с пьесой Браунинга в творчество Гриффита входит принципиальная ситуация зеркального умножения перспективы заимствований. Каждый текст вытесняет собственный источник. В этой бесконечной зеркальной перспективе приобретают все свое значение гриффитовские вариации. Они показывают, что уже в 1909—1910 годах Гриффит начинает камуфлировать свою связь с Браунингом, пробуя различные варианты сюжета, в которых тот же мотив отрывается от браунинговского первоисточника. Это означает, что постулирование слова как главного конкурирующего источника вдохновения одновременно запускает механизм вытеснения слова как очага интертекстуальной референции. Механизм этот, впрочем, заложен в самом тексте Браунинга, объективно ориентированном на вытеснение слова музыкой и светом.
На более позднем этапе Гриффит преодолевает первоначально декларированную им зависимость от словесности и начинает вытеснять слово, маскируя свою связь с ним. Параллельно идет возрастание художественных амбиций режиссера, выражающееся в подчеркивании уникальности киноязыка.
В 1913 году Гриффит вновь обращается к сюжету Браунинга. Фильм «Бродяга» (выпуск 3 мая 1913) в новейшей фильмографии Гриффита значится как «римейк» «Пиппы» (Грехем, 1985:179—180). Ганнинг так излагает его сюжет (с которым нам, увы, не удалось познакомиться): «В этом фильме бродячий флейтист (Генри Уолтхол) оказывает благотворное воздействие на множество персонажей чистыми звуками своей музыки, которую он играет на ходу. Он примиряет возлюбленных, останавливает руку капризной девицы, готовой отшвырнуть прочь распятие, и в явном
121
соответствии с фильмом «Пиппа проходит» не допускает погрязших в адюльтере любовников до убийства мужа женщины» (Ганнинг, 1986:591). Как видно из этого описания, во второй версии «Пиппы» Гриффит заменяет песню со словами чистыми звуками музыки. Музыкальное в «Бродяге» приобретает в оппозиции к слову еще больший вес.
И уже в следующем году Гриффит вновь обращается к пьесе Браунинга, на этот раз подвергая этот первоисточник достаточно тщательному сокрытию. В 1914 году он снимает для фирм «Рилаенс Меджестик» и «Мьючуэл» свой фильм «Дом, милый дом». В киноведческой литературе фильм считается свободной экранизацией биографии Джона Говарда Пейна (Чинкотти-Туркони, 1975:241; Брион, 1982:169), правда, нигде не указывается, какой именно. В наиболее авторитетной на сегодняшний день биографии Гриффита, написанной Р. Шикелем, фильм определяется как «сильно расцвеченная версия жизни Джона Говарда Пейна, автора той самой песни, из которой позаимствовано название фильма» (Шикель, 1984:209). Такого рода суждения свидетельствуют не только о незнании биографии Пейна, но и об игнорировании такого авторитетного свидетеля, каким был оператор фильма Карл Браун. Браун, между тем, прямо указывает на источник фильма: «Дом, милый дом» был, вероятнее всего, переработкой «Пиппа проходит», только вместо голоса веселой девочки, несущей радость и веру отчаявшемуся человечеству, жизнь персонажей менялась под воздействием мелодии «Дом, милый дом». Фильм представлял собой историю, сотканную из разных историй, но подчиненных единой тематической идее» (Браун, 1973:31).
Коротко перескажем сюжет фильма, состоящего из четырех эпизодов. В первом из них герой, Пейн, покидает мать и возлюбленную и уезжает в город, чтобы стать актером. В театре он погружается в пучину гре-
122
ха, его соблазняет горожанка, он запутывается в долгах и умирает, брошенный друзьями. Перед смертью он сочиняет песню «Дом, милый дом». На родине умирает и брошенная им возлюбленная. Во втором эпизоде деревенская девушка Мэри-Яблочный Пирог влюбляется в парня с востока. Но ее возлюбленный встречает блестящую горожанку. Он уже готов забыть о Мэри, но в этот момент слышит мелодию, сочиненную Пейном, мгновенно осознает ужас измены и возвращается к своей деревенской подруге. В третьем эпизоде мать воспитывает двух сыновей, с детства ненавидящих друг друга. Подравшись из-за денег, братья убивают друг друга. В отчаянии несчастная мать хочет покончить самоубийством, но звуки той же мелодии возвращают ей веру в жизнь. В четвертом эпизоде соблазнитель толкает к неверности замужнюю женщину. В момент, казалось, уже неизбежного падения женщина слышит звуки скрипки, играющей мелодию «Дом, милый дом». Она порывает с соблазнителем и остается с мужем. Фильм завершается эпилогом, показывающим Пейна в чистилище. Он стремится подняться вверх по скалам, но персонифицированные фигуры греха тащат его вниз. В небе возникает образ возлюбленной Пейна, и их души соединяются в объятиях.
Как видим, структура «Пиппы» почти полностью воспроизведена в фильме 1914 года. Восстановлено даже количество эпизодов (четыре), имеющихся в пьесе Браунинга. Гриффит снимает тех же актеров, которые работали в «Пиппе». При этом из трех повторно приглашенных актеров двое – Уолтхол и Кирквуд – играли у Миллера в 1906 году, то есть связаны с театральной постановкой «Пиппы».
В связи с новой, свободной ее версией неизбежно возникает вопрос о причинах появления в ней фигуры Пейна, вытесняющей Браунинга, как подлинный первоисточник.
123
Реальная биография Пейна далека от ее экранной версии. В 1813 году в возрасте 21 года Пейн выехал из Нью-Йорка в Англию завоевывать английскую сцену. Но к этому времени он вовсе не был персонажем провинциальной пасторали. С детства он играл в театре. Еще мальчиком опубликовал свободную версию перевода пьесы Коцебу «Дитя любви». В 14 лет владел театральной газетой «Теспиер Миррор» и был ее редактором. В Лондоне Пейн входит в салоны художественной элиты, знакомится с Кольриджем и Саути. Он блестяще дебютирует в «Друри Лейн» и с 1813 по 1818 год с большим успехом выступает на английской сцене. Финансовые трудности, пережитые им в 1819 году, связаны вовсе не с беспутством, а с неудачей собственной театральной антрепризы «Седлерс Уэллс Тиетр». В 20-е годы Пейн живет в Париже, посещает салон Тальма. Из Парижа он посылает в Лондон свои версии французских мелодрам, которые идут в «Друри Лейн» и «Ковент Гардене». Целый ряд пьес Пейн пишет в соавторстве со своим другом Вашингтоном Ирвингом. Наиболее знаменитая любовная история Пейна связана с именем Мэри Шелли, за которой он ухаживал, но в конце концов узнал о ее любви к Ирвингу. В 1832 году Пейн возвращается в Америку, где его соотечественники устраивают ему восторженный прием. Умер Пейн в 1852 году в Тунисе в должности американского консула.
Как мы видим, подлинная биография Пейна резко отличается от ее экранной версии даже в тех пунктах, где, казалось бы, налицо явное совпадение. Так, Гриффит показывает смерть Пейна в какой-то арабской стране как знак полного падения своего героя, умалчивая о причине, приведшей его в Тунис.
Гриффитовская обработка биографии Пейна направлена на сближение ее со своей собственной. Его интересует образ бродячего актера, погружающегося в пучину театрального Содома (так он описывает свою
124
собственную театральную карьеру в поздней автобиографии – Харт, 1972), чья душа спасается благодаря созданной им песне (в случае с Гриффитом – кинематографу). Между тем, в биографии Пейна выделены мотивы, сближающие его с Браунингом: работа в Англии, неудачи на английской сцене. Отметим, между прочим, что знаменитая песня Пейна была написана им для оперетты Г. Р. Бишопа «Клари, девушка из Милана», без труда ассоциируемой с другой итальянской девушкой – Пиппой из Азоло. Таким образом, фигура Пейна осуществляет сложную работу по маскировке и выявлению подлинного источника. С одной стороны, она скрыто отсылает к Браунингу, с другой – подсознательно проецирует авторство на самого Гриффита, безусловно идентифицирующегося с Пейном. Отношения «оппозиции-идентификации» с предшественником, о которых говорит Блум, выявлены тут особенно красноречиво. Отметим также еще одну любопытную черту в биографии Пейна. В связи с тем, что драмы последнего обычно были переделкой чужих пьес, он постоянно обвинялся в плагиате. В 1818 году, когда завершается его актерская карьера в Англии, на сцене «Друри Лейн» с большим успехом проходит его пьеса «Брут». Но критика безжалостно атакует ее автора за плагиат (Хислоп, 1940:ХII). В этом контексте Пейн выступает как символическая фигура последователя, слабого автора. Его грехопадение и смерть могут рассматриваться и как наказание за принадлежность театру и за обусловленную этой принадлежностью авторскую вторичность.
Весь первый эпизод, собственно и сосредоточенный на судьбе Пейна, может интерпретироваться как яростное вытеснение театральных источников, на которое наслаивается и вытеснение литературного источника – Браунинга.
Рассмотрим, как эта установка реализуется в тексте. Мать и возлюбленная получают письмо Пейна, из
125
которого узнают, что он стал актером. До этого уже было показано поступление Пейна в театр, где он демонстрировал свою подчеркнуто фальшивую, аффектированную театральную игру.
Обе женщины устремляются на спасение грешника. Они входят в его пустую комнату и обнаруживают Библию. Сцена умиления. Затем они переходят в соседнюю комнату и слышат через перегородку речь явившихся актеров. Мать замечает: «Какая отвратительная речь». Возлюбленная отвечает ей: «Они просто репетируют свои роли». Затем появляются женщины-актрисы – падение Пейна становится очевидным. Существенно, что вся демонстрация греховности проходит в той комнате, где раньше была обнаружена Библия. Но теперь Библии здесь нет. Когда же на следующее утро Пейн просыпается за столом, Библия вновь лежит возле него.
И далее Пейн начинает сочинять свою песню. Он смотрит отсутствующим взглядом чуть правее камеры (устойчивый знак видения у Гриффита). Из затемнения возникают мать и оставленная невеста. И снова Пейн пишет песню, а в титрах появляется ее
текст.
Весь эпизод строится на оппозиции различного рода текстов и их источников. Вульгарная речь приравнивается театральной, а греховная жизнь – пьесе. Театру отказывается в наличии литературного источника. Иное дело песня. Ее истоки прямо связаны со Словом, при этом со священным Словом, сверхкнигой – Библией. Аналогом песни и вторым ее источником становится видение. Таким образом, внешнее зрение (театр) вступает в оппозицию с внутренним зрением – кинематографическим видением, восходящим к откровениям Святого писания.
В тексте песни, возникающей в титрах, есть следующие слова:
126
Вдали от дома великолепие зря тщится ослепить
нас!
О, верни мне вновь мою маленькую хижину, крытую
соломой!
Верни мне птицу, весело отвечающую мне пением, Дай мне все это и покой в душе, который дороже
всего на свете.
Песня вновь выступает как аналог птичьего пения, непосредственно восходящего к богу и несущего успокоение и гармонию.
Этот набор оппозиций интересен тем, что в нем не остается места обычной книге (браунинговскому тексту). Отныне Гриффит не хочет обращаться к литературному первоисточнику, замещая его Книгой Истоков, Первокнигой, сакральным словом, принципиально отличающимся от профанного слова литературы. Литература подвергается вторичному вытеснению, для нее не остается места.
Но, как обычно, вытеснение театра оборачивается его неожиданным возвращением (в самой гипертрофированной форме) в эпилоге с аллегориями греха и соединяющимися душами. Карл Браун точно подметил гиперцитатность этого финала по отношению ко всей театральной традиции от греческих трагедий до предъелизаветинских моралите (Браун, 1973:45). Но самое любопытное, что этот эпилог непосредственно отсылает к пьесе самого Пейна – «Дикой горе» (1822), переводу-плагиату одноименной пьесы Пиксерикура. Подобно тому, как Пейн страдает в скалах, изображавших чистилище, герой пьесы Одинокий оказывается в облачных горах. «Тень как будто возникает из земли, одной рукой она показывает вдаль, в другой руке она держит лампу». Появляются аллегорические видения греха, войны, ангела смерти. «Скованный страхом, Одинокий отгоняет странные образы <...>, он воздевает руки к небу, он начинает молиться и картина меняется. Слышны сладкие звуки струн. Все,
127
что несло на себе печать грусти и траура, исчезает». К Одинокому устремляется процессия стариков, женщин, детей, которым он когда-то помог, здесь же и спасенный им ребенок, бросающийся в объятья матери. В конце все обращают руки вдаль, где появляется «фигура молодой женщины, похожей на Элоди» (Хислоп, 1940:82—83) – возлюбленную Одинокого, с которой он был разлучен за свои грехи.
Парадоксальность театральной темы, демонстративно обрамляющей фильм, заключается в том, что Гриффит мыслит видения как нечто лишенное первоисточника, как текст, данный в откровении, но вынужден опираться на длинную традицию театральных видений. Вытеснение источника черпает ресурсы внутри вытесняемого слоя. Подставляя на место Браунинга Пейна, Гриффит подменяет сильный первоисточник слабым, полуанонимным, увязшим в переписывании, плагиате. Вечный повтор парадоксально приравнивается бесконечному началу.
Естественно, что явное поражение в поиске истинного начала маскируется гонением на слово как воплощение словарной анонимности и повторяемости.
В фильме «Дом, милый дом» особенно явственно ощущается тенденция к вытеснению профанного письменного слова. Эта тенденция хорошо видна в необычном использовании писем. В раннем кинематографе письма служили весьма эффективным средством сообщения информации внутри диегесиса. Многочисленные письма и записки появляются в кино раньше, чем титры, возникающие одновременно с постепенной инкорпорацией «внешнего нарратора» в текст. В «Доме, милом доме» письма сыплются потоком, но, за исключением одного-единственного раза, они не показываются на экране в виде написанного текста. Их содержание сообщается либо в титре «от автора», либо в реплике читающего персонажа. Подобная работа Гриффита с письмом резко выделяется на фоне
128
общепринятых повествовательных стратегий. Эту странность можно, по-видимому, объяснить вытеснением письменного слова из диегесиса фильма.
Работа Гриффита с письмами отчасти напоминает использование мотива письма в голландской живописи XVI—XVII веков. Изобилие женщин, читающих письма, на голландских картинах поразительно, тем более что текст письма остается загадкой для зрителя. Как показал А. Майер-Мейнтшел, первоначальным текстом чтения была Библия, а читающей была дева Мария. Постепенно мотив чтения секуляризируется, а содержание письма начинает передаваться косвенно, через устойчивые иконографические мотивы – помещенный в интерьер морской пейзаж с кораблем и музыкальные инструменты, символизирующие любовь, а иногда и грубую эротику (Майер-Мейнтшел, 1986). Иконографический сдвиг оказывается производным сдвига от Первокниги (чье содержание не требует специального объяснения) к профанному тексту (письму). Показательно, что и в «Доме, милом доме» мы обнаруживаем в рудиментарной форме следы такого иконографического сдвига. Во втором эпизоде фильма при расставании Мэри дарит своему возлюбленному рождественскую открытку, сопровождая подарок следующим комментарием: «У меня нет моего изображения, чтобы дать тебе, но эта рождественская открытка похожа на меня». Мэри идентифицирует себя с евангельской Марией (единство имени, конечно, не случайно). Через этот символический подарок вся история начинает сдвигаться в библейский ряд. Удивителен ответный подарок Парня с востока: он дает Мэри свои очки – еще один знак визуального сдвига, обмена зрением.
Вытеснение слова в фильме 1914 года проявляется еще и в постепенном превращении песни Пейна в чисто музыкальную мелодию, лишенную слов. Во втором и третьем эпизоде мелодию играет уличный музы-
129
кант, в четвертом – скрипач. Музыка окончательно вытесняет слово.
И, наконец, самой значительной вариацией на тему Браунинга становится «Нетерпимость» (1916). Это утверждение может показаться неожиданным, поскольку сюжет «Нетерпимости», казалось бы, уходит весьма далеко от «Пиппы». Между тем, связь пьесы Браунинга с шедевром Гриффита несомненна, хотя и подвергнута чрезвычайно сложной маскировке.
Эта маскировка проступает в статье Гриффита 1916 года, написанной сразу же после завершения фильма («Нетерпимость» выходит на экран 5 сентября, статья появляется в «Индепендент» 11 декабря). Гриффит вновь возвращается к болезненно притягивающей его теме «театр и кино», размышляя об ограниченности театральных возможностей: «В границах старого театра для иллюстрации определенной фазы действия было невозможно рассказывать более двух историй; впрочем, и две-то было трудно вывести на сцену. В моем же фильме «Нетерпимость» – это первый пример, который мне приходит на ум – я рассказываю четыре истории...» (Гриффит, 1982:88).
Примечательна эта забывчивость Гриффита, который более не помнит, что в пьесе Браунинга было именно четыре эпизода – магическая цифра, восстановленная им в «Доме, милом доме» и перенесенная в «Нетерпимость». Четырехэпизодичная структура – самый прямой указатель на связь с первоисточником. Но в данном случае Гриффит прибегает к еще одной процедуре маскировки. Он удаляет из фильма на сюжетном уровне главный знак браунинговской пьесы – музыкальную тему (остающуюся в виде небольшого рудимента – персонажа-рапсода из Вавилонского эпизода).
Обработка браунинговской пьесы Гриффитом на каждом новом этапе идет через вытеснение источника, декларированного на прошлом этапе, в предше-
130
ствующих вариациях, и через замещение его иным источником. В фильме 1909 года вытеснялся театральный источник и вместо него декларировалось слово Браунинга. В варианте 1914 года вытесняется уже слово Браунинга, маскируемое «слабой» фигурой Пейна, и в качестве источника декларируется музыка и Писание. В «Нетерпимости», еще два года спустя, вытесняется музыка. Но, как и раньше, источник, декларируемый в прошлом, подвергаясь вытеснению, приобретает особое значение для нового текста. Из текста изгоняются лишь внешние проявления того, что принципиально значимо.
В чем же обнаруживаются следы музыкального влияния в «Нетерпимости»? Прежде всего в самой форме фильма с типично музыкальным проведением мотивов и их транспонированием. Но не только в этом. Все четыре сюжета «Нетерпимости» (вавилонский, палестинский, парижский и современный американский) объединены образом женщины, качающей колыбель (Л. Гиш), о котором подробнее речь пойдет в следующей главе. Этот образ позаимствован из поэмы Уитмена «Из колыбели вечно баюкающей», где качающаяся колыбель уподобляется морю. Но, как показал Лео Шпитцер, песнь моря в поэтической традиции устойчиво связана с пением птицы и хором человеческих душ, взывающих к Христу. Шпитцер же указывает на тесную связь мотива трагической гибели и преображения Филомелы со страстями и преображением Христовыми (Шпитцер, 1962:17—18). У Уитмена связь колыбели-моря и птичьей песни заявлена в сюжете поэмы. При этом контрапункт птичьей песни и шума моря должен открыть герою Уитмена некое особое слово:
«Одно только слово (я должен его добиться), Последнее слово – и самое главное, Великое, мудрое, – что же? – я жду»
(Уитмен, 1982:224)
131
И это слово явлено в фильме Гриффита. Семь раз изображение колыбели соединено в фильме с изображением Книги, которую Гриффит называет «Книгой нетерпимости». Интертитры, идущие вслед за изображением книги, выполнены на фоне различных видов письма: иероглифов – для вавилонского эпизода, иврита – для палестинского. Вместе с музыкальным мотивом колыбели (и колыбельной) в фильм проникает новый вид письменного слова – иероглифический, обозначающий непроницаемое для нас Первослово, то, которым владел розенкрейцер Занони.
«Нетерпимость» резко расширяет сферу отсылок к Первокниге, намеченную в фильме 1914 года. Музыка как первоисточник вытесняется в зашифрованный подтекст, чтобы окончательно замкнуть текст Гриффита на некую мистическую иероглифику, по существу, непроницаемую для современного сознания. Таким образом окончательно изгоняются все указания на промежуточные источники, на длинную череду предшественников. «Нетерпимость» как самый «сильный» текст Гриффита откровенно заявляет о своем выходе на Первоисточник, на первокнигу, первослово. В этом смысле Гриффит опирается на традицию Уитмена с его пониманием «Листьев травы» как нового Писания, восходящего к первоистокам. За всем этим пафосом изгнания предшественников возникает и призрак самой замечательной поэмы Браунинга «Кольцо и книга», в которой развернута чрезвычайно сходная концепция источника. Браунинг, рассказывая о том, как он почерпнул свой сюжет из так называемой «Старой желтой книги», неожиданно возводит свою поэму к библейской Книге Бытия и указывает на способность некой Сверхкниги гальванизировать жизнь (Браунинг, 1971:43—44). Между поэмой Браунинга и фильмом Гриффита много общего. Само название поэмы «Кольцо и книга» могло бы вполне подойти фильму Гриффита с закольцованностью его
132
конструкции и постоянной референцией к Книге как первоисточнику.
Американский киновед М. Ханзен показала, что для «Нетерпимости» характерна оппозиция «аллегория (иероглифика) – профанный письменный текст». При этом главная аллегория фильма (сверхиероглиф) изображает мать (первоисток), а профанное письмо ассоциируется с бесплодными старыми девами в современном эпизоде. Она же убедительно показала, что весь современный эпизод постоянно комментируется в иероглифическом слое. Так, трем паркам, прядущим нить жизни на заднем плане за колыбелью, соответствуют три дамы из окружения мисс Дженкинс, преследующие молодую мать, и три палача с бритвами в эпизоде казни (Ханзен, 1986). Таким образом, современная история постоянно получает аллегорическую параллель и через нее возводится к символическим первоистокам текста.
Но, пожалуй, наиболее существенным аспектом подлинного новаторства «Нетерпимости» можно считать неожиданный качественный скачок – превращение процедур маскировки источника в структуры нового киноязыка.
Вытеснение источника в тексте на уровне сюжета превращалось в пространственное его дистанцирование. Вспомним странную просьбу Павсания, обращенную к музыканту в «Эмпедокле на Этне» Арнольда: «Ты должен играть, но должен оставаться невидимым: следуй за нами, но на расстоянии». Для Гриффита принципиально важна ситуация разобщенности, разлученности героев. В фильме «Дом, милый дом», например, визуальный контакт постоянно заменяется слуховым. Люди слышат, но не видят друг друга.
На уровне киноязыка наличие этой дистанции является мотивировкой и необходимым условием для включения механизма чередующего или параллельного монтажа, прославившего гриффитовский кине-
133
матограф. В «Нетерпимости» источник вытеснен из диегесиса полностью. И аллегорическая книга, и женщина с колыбелью находятся вне рассказываемых историй, организуя их сочленение из внедиегетического пространства. В конце концов, можно даже утверждать, что резкое дистанцирование источника в «Нетерпимости» является условием реализации того особого виртуозного монтажа разнесенных во времени и пространстве слоев, который характеризует этот выдающийся фильм.
Долгая история с многократным вытеснением источника кончается превращением фигур вытеснения в фигуры нового языка. Вероятно, к этой точке, как к своего рода идеалу, тяготеет история искусств, строящаяся на беспрерывном вытеснении предшественников. Цепочка таких вытеснений в какой-то момент завершается триумфом языковой мутации, появлением новых языковых структур, увенчивающих художника вожделенным венцом «сильного» поэта.
Творчество Гриффита предлагает искусствоведу уникальный по своему богатству материал. Гигантское количество сделанных Гриффитом фильмов и часто встречающиеся вариации одного и того же сюжета, мотива, языковой структуры позволяют исследователю почти вплотную прикоснуться к скрытым механизмам многократного цитирования и их семантике.
Мы убедились в том, что многократное цитирование одного и того же интертекста не только создает «геральдическую конструкцию» со всеми вытекающими из этого смысловыми последствиями. Реальная ситуация оказывается сложнее. Каждая последующая цитата может служить маскировке предыдущей, сокрытию тех путей, которыми шло движение смыслов. Многократное переписывание «первоисточни-
134
ка» может в некоторых случаях стать основой модели кинематографической эволюции. Интертекстуальная модель киноэволюции в целом ряде аспектов порывает с традиционными концепциями развития истории кино. Эти последние сводятся к двум господствующим вариантам. Первый можно назвать теорией заимствования, второй – теорией медленного вызревания кинематографических элементов в недрах культуры. Согласно первой теории, кино заимствует сложившиеся в иных сферах культуры структуры и осваивает их; согласно второй, сама культура медленно движется к кино, порождая внутри себя квазикинематографические элементы. Эта модель вызревания в целом носит телеологический характер, так как постулирует кинематограф в качестве некой заданной культурой точки, к которой она стремится. Обе эволюционные концепции тесно связаны друг с другом. Однако, с их точки зрения, часто практически невозможно понять причины обращения кино к тем или иным явлениям культуры, в частности, к литературе.