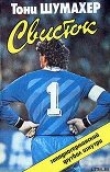Текст книги "Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф"
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
333
слово «дондеже» (ср. с отчасти сходным «Киже») вызывает слезы героини (Тынянов, 1924:95). Особо Тынянов останавливается на «семасиологизации» частей слов: «подчеркивание частей слова нарушает в слове соотношение вещественного и формального элементов <...>, оно делает, как однажды выразился сам Маяковский, слова «фантастическими» (т. е. именно и соответствует выступлению в них колеблющихся признаков)» (Тынянов, 1924:116).
Превращение описки, непонятности первоначально в имя, а затем уже и в зыблющийся образ поручика происходит по принципам, изложенным в указанном теоретическом труде Тынянова. Эту связь Киже с теорией стиха отмечал В. Шкловский в 1933 году: «Киже – пропущенная строфа в написанной поэме. Строфа, однако, существующая по законам поэмы» (Шкловский, 1990:469). И действительно, в рассказе эта сцена звучит так: «...вместо «Подпоручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» написал: «Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются». Когда же он писал слово «Подпоручики», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на «к», а потом, сев снова за приказ, напутал и написал: «Подпоручик Киже» (Тынянов, 1954:4). Здесь мы как раз и имеем выделение части слова (окончания), нарушающее «соотношение вещественного и формального элементов». В сценарии этот эпизод еще более тесно связан со стиховедческими штудиями Тынянова. Здесь эта сцена решена более сложно. Писарь пишет: «Поручики же Жеребцов, Лоховский учиняются впредь до приказа» (Тынянов, 1933:кадр 128). В параллельном монтаже Павел в нетерпении ждет приказа. «Сорвал с груди орденок, бьет в стеклянную ширму, все чаще и чаще» (Тынянов, 1933:кадр 130).
«134. Орденок бьет в стекло. 135. Писарек написал букву «к» и застыл на ней.
334
136. Повторяющий звуки адъютант напружинился...
–ККК...
137. Звонок.
138. Адъютант хрипит, быстро, шепотом и притопывая ногой:
– Скорей, скорей, скорей, бестия, бестия, бестия».
Все это приводит к ошибке. Конечный текст писаря следующий: «Поручик Киже, Платонов, Любавский, назначаются...» (Тынянов, 1933:кадр 139а).
В отличие от рассказа, в сценарии ошибка рождается из ритмического биения (постукивания орденка, притопывания, шаманических повторов адъютанта) – главного стихового фактора сгущения ряда и последующих за ним семантических трансформаций. Тынянов насыщает этот эпизод и чисто стиховыми аллитерациями: «поручики же Жеребцов», фонетически взаимосвязанные Лоховский и Любавский (отметим, между прочим, типичную смену имен от рассказа к сценарию). В фильме фонический момент подчеркнут особо – там писарь многократно повторяет вслух содержащийся в самом тексте звуковой повтор: «поручики же Жеребцов...» Возникающая из квазистихового звучания ошибка превращается в имя, вновь фиксируясь на письме во время правки Павлом текста приказа, когда в конце слова «поручик» он вставляет «твердый знак» – непроизносимую букву, «нулевой» звук. Определенная буква или звук, по наблюдениям Тынянова, могли иметь значение знака пародийности (об этом см. ниже). Так, например, Тынянов отмечал, что в эпиграммах Пушкина «ижица становится знаком Каченовского, его пародическим обозначением» (Тынянов, 1977:297). Г. Левинтон отсылает и к пушкинскому: «Дьячок Фита, ты ижица в поэтах» (Левинтон, 1988:14). Не исключена связь «ижицы», как знака пародийности, с орфографией и звучанием имени Киже.
335
Роль письма, описки, искажения имени вообще значительна в кинематографическом творчестве Тынянова – ср. с тем эпизодом из «Шинели» Г. Козинцева и Л. Трауберга, где сценарист Тынянов заставляет Башмачкина изменять в документе имя Петр на Пров. При сравнении «Шинели» и «Киже» невольно возникает ощущение, что второй фильм как бы рассказывает историю персонажа, возникшего под пером героя первого.
Это ощущение подтверждается рядом обстоятельств, в частности и самим именем Башмачкина – Акакий Акакиевич, в котором Б. Эйхенбаум обнаруживал элементы «заумного слова». Эйхенбаум привлек в этом контексте внимание к черновому варианту Гоголя, объясняющему происхождение имени Акакия Акакиевича: «Конечно, можно было, некоторым образом, избежать частого сближения буквы к, но обстоятельства были такого рода, что никак нельзя было это сделать» (Эйхенбаум, 1969:313). Происхождение Киже из повтора буквы «К», на которой замирает писарь, как бы проясняет те обстоятельства, которые отказывается растолковать Гоголь. Второй момент, сближающий «Шинель» (над экранизацией которой Тынянов работал в 1926 году) и «Киже», еще более выразителен. В первом варианте сценария «Киже» (1927) злополучный поручик представлен в виде пустой шинели, которую избивают перед строем, а затем волокут в Сибирь (Тынянов, 1927). Таким образом, Тынянов сознательно сближает ситуацию возникновения «бессмысленных», заумных слов и ситуацию цитирования, активной интертекстуализации своих текстов.
Расхождения в описании происхождения Киже, на наш взгляд, объяснимы. Широко известно, что Тынянов одновременно с созданием первого варианта сценария разрабатывал концепцию близости кинематографа стиху: «Кадр – такое же единство, как фото,
336
как замкнутая стиховая строка. В стиховой строке по этому закону все слова, составляющие строку, находятся в особом соотношении, в более тесном взаимодействии; поэтому смысл стихового слова не тот, другой по сравнению не только со всеми видами практической речи, но и по сравнению с прозой. При этом все служебные словечки, все незаметные второстепенные слова нашей речи – становятся в стихах необычайно заметны, значимы.
Так и в кадре – его единство перераспределяет смысловое значение всех вещей, и каждая вещь становится соотносительна с другими и с целым кадром» (Тынянов, 1977:336). Доминирующая роль в создании тесного «стихового» ряда в кино отводилась Тыняновым ритму (Тынянов, 1977:338—339).
Все это делает понятным обстоятельства возникновения Киже в рамках кинематографа, ритмическую интерпретацию сцены его рождения в сценарии, «фоническую» – в фильме, и сознательное ослабление этого момента в прозе (смену мотивировки).
В сценарии «Обезьяна и колокол» (1930) Тынянов охотно использует заумь, иногда прямо цитируя свой стиховедческий труд. Мы уже упоминали отмеченное им у Чехова слово «дондеже» (в старорусском означающее – пока, когда, как). Впервые внимание к «заумному» «дондеже» привлек Шкловский в работе 1916 года «О поэзии и заумном языке» (Шкловский, 1990:52). Затем к нему обращается Тынянов в своем стиховедческом труде. Тынянов цитирует из Чехова: «При слове «дондеже» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча» (Тынянов, 1924:94). В сценарии это слово появляется (так же «неосмысленно», как и в «Мужиках» Чехова) в сцене наказания колокола, когда палач сечет его кнутом:
Палачи жарят колокол в три кнута. – Ух, ожгу!
337
Колокол стонет, старухи в толпе завыли. Поп читает: – Дондеже...
(Тынянов, 1989:143).
Вой старух так же увязывается со словом «дондеже», как и плач героев Чехова. Иной мотивировки этому слову в тексте нет. Если не считать того, что оно возникает в ситуации ритмического биения кнута. Когда это слово появляется в данном эпизоде вторично, оно фонической инерцией влечет за собой и приговор обезьяне – «сжечь». Бессмысленное «же» из «дондеже» переходит в страшное «сжечь».
Подобную же немотивированную звуковую игру мы обнаруживаем и в прологе «Обезьяны и колокола». Здесь неожиданно возникают певчие, которые поют:
Ане – на – гос – ане – на – поди Хабе – бо – хаву – же —
Господи Боже! <... > Ндп. Хабебувы, аненайки.
Ндп. Певчие должны слоги, которые вытягивают, заполнять словами «ане-на» и «хабе-бу», и зовут их оттого Хабебувами и Аненайками» (Тынянов, 1989:131). Эти странные «филологические» титры акцентируют наличие зауми и помогают прочесть в пении певчих зашифрованные в нем слова «Господи Боже!» – же здесь, как и в «Киже», отделяется от слова Боже, превращаясь в загадочное «хаву-же».
Это интенсивное использование зауми в киносценариях может быть объяснено с разных точек зрения. ОПОЯЗовцы уже на раннем этапе связывали заумь с превращением «практического» языка в «поэтический». В 1921 году Р. Якобсон отмечал тенденцию произвольного словотворчества «не входить ни в какую координацию с данным практическим языком» (Якобсон, 1987:313). А Л. Якубинский еще в 1916 году иллюстрировал явление «обнажения» слова в поэзии,
338
придания ему поэтической самодостаточности десемантизацией имени: «Я произношу громко, несколько раз подряд свое имя и перестаю понимать что-либо: под конец я не различаю ничего, кроме отдельных слогов. Тогда я перестаю понимать все, забываю обо всем. И, как бы загипнотизированный, продолжаю произносить звуки, понять смысла которых я уже не могу» (Якубинский, 1986:169).
Итак, введение зауми в кинематограф может пониматься как способ внедрения в новый язык этой антипрактической направленности, механизма генерации собственно кинематографического, самодостаточного языка. Не случайно Б. Эйхенбаум определяет фотогению как кинозаумь: «Фотогения – это и есть «заумная» сущность кино. <...>. Мы наблюдаем ее на экране вне всякой связи с сюжетом – в лицах, в предметах, в пейзаже. Мы заново видим вещи и ощущаем их как незнакомые» (Эйхенбаум, 1927:17) (о зауми в кинотеории ОПОЯЗа см.: Ямпольский, 1988). Но это «незнакомое» состояние вещей и есть перевод киноязыка из практической в поэтическую плоскость.
Есть и еще одна совершенно особая черта тыняновской зауми в кино. Заумь появляется, как правило, в контексте цитат, она постоянно включается в интертекстуальные отношения. «Дондеже», конечно, не случайно отсылает и к «Проблемам стихотворного языка», и к рассказу Чехова. Но этого мало. Оно появляется в сцене сечения колокола, со всей очевидностью отсылающей к сцене сечения Киже. Заумное слово возникает на пересечении интертекстов, там, где образуется их иероглифическое напластование. Вероятно, это связано с тем, что сам по себе продукт иррационального словотворчества (используя выражение Якубинского – глоссемосочетания) есть результат конденсации звукового ряда, его сгущения, взаимопроникновения звуков под давлением тесноты ряда. Звукосочетание уплотняется до смыслонесущего
339
слова, приобретает своего рода телесность в результате этого сдвига звуковых слоев. Именно поэтому заумное слово можно понимать как своеобразную метафору интертекстуальности, как анаграмму, которая «как бы подыскивает себе значение» (Якобсон, 1987:313).
Заумное слово стремится стать цитатой уже в силу того, что оно всегда возникает как аномалия, требующая нормализации и приобретающая такую нормализацию через интертекст. Именно так, через интертекст, встраивается в наррацию злополучное «дондеже».
То же самое, как будет показано ниже, происходит и с лишенным тела героем «Киже». Киже возникает как иероглиф, загадочная параграмма, подыскивающая значение, как звуковой комплекс, стремящийся обрести телесность. Рассмотрим, каким образом «нулевой» персонаж Тынянова обретает «облик» через интертекст и какие проблемы возникают на этом пути у его автора.
Как мы уже указывали, для процесса материализации «кажущегося значения», «видимости значения» – типичных продуктов интертекстуализации – исключительно важно стимулирование неких смутных, «вторичных», «колеблющихся признаков значения». В рассказе (вполне в соответствии с принятым в нем «осюжетиванием» принципов поэтики, «метаописательностью») эти колеблющиеся признаки постоянно являются в тексте в виде той самой зыби, о которой мы уже говорили. Киже в прозе Тынянова есть не просто пустота, пробел, но именно материализация каких-то колеблющихся обертонов. Приведем в подтверждение тому несколько цитат: «...в прерывистых мыслях адъютанта у него наметилось и лицо, правда – едва брезжущее, как во сне» (Тынянов, 1954:14; курсив мой. – М. Я.). Во время экзекуции Киже деревянная «кобыла казалась не вовсе пустою. Хотя на ней никого не
340
было, а все же как будто кто-то и был. <...>. Потом ремни расхлестнулись и чьи-то плечи как будто освободились на кобыле» (Тынянов, 1954:14). Во время конвоирования Киже по этапу: «И пустое пространство, терпеливо шедшее между ними, менялось; то это был ветер, то пыль, то усталая, сбившаяся с ног жара позднего лета» (Тынянов, 1954:14).
Иными словами – «vague incertiude» (смутная неопределенность), как изволил выразиться Павел, размышляя над производимыми им (и Тыняновым) смещениями и перестановками персонажей. Возникает ощущение, что если персонажей одного ряда (как слова в строке) постоянно смещать, сдвигать (силой имперской или авторской воли или динамической энергией стихотворного ритма), то в возникшем в их тесном ряду «пробеле» может забрезжить колеблющийся лик фантастического смысла – Киже.
Однако кинематограф – все-таки не стих. Это понимал, конечно, и Тынянов. В прозе, особенно ритмизированной, к которой он тяготел2, такое сгущение пробела до значимости было, возможно, наиболее зримо в метафорах, вроде «усталая, сбившаяся с ног жара». В кино ситуация иная. Здесь царство изображения. В сценарии Тынянов не только сохраняет «брезжущий» лик, но даже материализует его до вполне конкретного изображения, правда в деформированном масштабе и, по-видимому, выполненного в двойной экспозиции. «354. Из наплыва. Колоссальный поручик стоит перед Павлом с обнаженной шпагой». «471. Из наплыва. Колоссальный полковник на коленях перед Павлом, держит шпагу, охраняя его». «491. Из наплыва. За свадебным столом колоссальный полковник рядом с фрейлиной» (Тынянов, 1933) и т. д. Все эти кадры относятся к видениям Павла и вводятся единообразным «из наплыва», призванным подчеркнуть именно полуреальный статус Киже. «Колоссальность» поручика, а затем полковника также, скорее всего,
341
лишь знак его нереальности (поскольку самый простой способ создания разницы в размерах – это двойная экспозиция, как раз и используемая для изображения полупрозрачных видений). Еще раз полупрозрачность Киже явлена в сценарии метафорически. Когда адъютант возвращает сосланного Киже из Сибири, к нему в возок ставят «огромную бутыль вина», которую увенчивают треуголкой (Тынянов, 1933:кадр 399), очевидно замещающей Киже. У въезда в Петербург адъютант «поднял из шинели бутылку, посмотрел на нее на свет. Пустая бутыль. На дне немного вина. Сквозь нее перила моста» (Тынянов, 1933:кадры 405– 406).
Однако из фильма этот мотив явленной полупрозрачности выпадает, здесь нет никаких видений «колоссального поручика», а сцена с бутылью лишена всякой метафоричности. Вероятнее всего, Тынянов и Файнциммер сочли такое решение слишком грубым и отказались от него.
И хотя в фильме сохранились физически зримые субституты Киже (кресло с напяленной на него треуголкой в эпизоде свадьбы, игрушечный солдатик и т. д.), их количество по сравнению со сценарием резко сокращено. Речь шла, по-видимому, о попытках найти чисто кинематографический эквивалент «пустоты».
Между тем, в кинематографе существует достаточно очевидная возможность создать эквивалент «нулевому персонажу». Ведь именно таким персонажем, по сути дела, является съемочная камера. Она занимает в пространстве легко локализуемое место (место точки зрения в линейной перспективе) и при этом никогда не видна в кадре. Она есть и ее нет одновременно. Именно по пути идентификации невидимого персонажа с точкой зрения камеры пошел, например, Куросава в «Паучьем замке» (1957), когда ему нужно было решать аналогичную задачу. В сцене, где Васидзу (Макбету) является призрак Мики (Банко),
342
камера неожиданно снимается с места и перемещается на место предполагаемого присутствия невидимого гостям, но видимого Васидзу призрака, и далее камера активно надвигается на в ужасе отшатывающегося от нее Тосиро Мифунэ. Поскольку на протяжении всего фильма субъективная точка зрения табуирована, резка смена поэтики, подчеркиваемая движением съемочного аппарата, создает поразительный эффект присутствия «нулевого персонажа».
В «Поручике Киже» такой прием практически не используется. В силу каких-то причин поэтика субъективной камеры не вызывала интереса ни у Тынянова, ни у режиссера (хотя после «Последнего человека» Мурнау, 1924 года, она широко обсуждалась и использовалась). В результате в фильме наименее интересны как раз те эпизоды, в которых присутствует зримо обозначенный просветом между конвоирами пробел-Киже. Наиболее показателен в этом смысле эпизод прибытия Киже в крепость. Образующие треугольник три конвоира останавливаются перед воротами крепости, где их встречает озадаченный комендант. В сценарии этот эпизод описан следующим образом: «Два гренадера стоят навытяжку, между ними никого. Комендант то отходит, то подходит – всматривается в пространство» (Тынянов, 1933:кадр 298). В фильме Файнциммер придумывает сложный рисунок движений коменданта, сопровождающихся сложными движениями камеры, однако структура эпизода остается подобной сценарной. Гренадеры неподвижны, движется комендант. Пустота и замыкающие ее гренадеры прикованы к земле. Функция зрения целиком перенесена на коменданта. Неподвижные конвоиры в прямом смысле слова охраняют «нулевой персонаж» от идентификации с субъективной камерой.
Принципиальный отказ от субъективной камеры, по всей вероятности, имел для Тынянова и Файнциммера важное теоретическое значение. Дело в том, что
343
идентификация со взглядом камеры обязательно предполагает четкую организацию внутрикадрового пространства, основанную на «иерархичности» линейной перспективы, ясно фиксирующей и делающей привилегированной точку зрения камеры (отсюда, например, тяготение к использованию короткофокусной оптики именно в субъективных планах, поскольку создаваемое такой оптикой изображение особо подчеркивает остроту перспективы). Чаще всего подчеркнутая перспективность субъективного изображения способна создать сильный эффект присутствия камеры – нулевого персонажа3. Понятно, что четкая организация пространства мнимого присутствия Киже по своей сути противоречит тыняновской идее «брезжущей», зыбкой пустоты, принципу бесконечных идентификационных подмен, отрицающих саму возможность даже химерической локализации Киже в некой привилегированной геометрической точке.
Отказ от пространственной ясности как основы функционирования субъективной камеры последовательно проведен в «Поручике Киже» в целом ряде
сцен.
К их числу относится эпизод свадебного пиршества Сандуновой после ее венчания с Киже. В сценарии ему отведен всего один кадр, в фильме же этот эпизод занимает двадцать три кадра, что указывает на его важность, так как в целом сценарий решительно сокращался Файнциммером. Эта сцена написана Тыняновым как простая сюжетная связка, с единственной, пожалуй, любопытной ремаркой – но из нее-то, возможно, и вырос сложный монтажный эпизод фильма: «Свадебное пиршество в круглой комнате» (Тынянов, 1933: кадр 518). Трудно сказать, почему Тынянову понадобилась именно круглая комната. Файнциммер заменяет ее круглым столом, за который он усаживает множество гостей, саму же комнату делает квадратной и абсолютно зеркально симметричной, к тому же про-
344
низывает комнату рядом колонн (выполняющих такую же функцию неподвижных пространственных осей, как конвоиры в сцене прибытия Киже в крепость). За спину каждому гостю он ставит совершенно одинаковых слуг. Эпизод начинается крупным планом адъютанта Каблукова (Э. Гарин), заглядывающего в комнату через одну из дверей. Далее следует ряд крупных планов сидящих за столом персонажей. Мы видим старуху с лорнетом, Палена (Б. Горин-Горяинов), Сандунову (С. Магарилл), все время неуверенно переводящую взгляд из стороны в сторону. Как соотнесены эти люди между собой, непонятно. Наконец, восьмой кадр эпизода дает общий (ситуационный) план, но мы видим лишь абсолютную симметрию круга в квадрате, так что никаких четких пространственных ориентиров мы не получаем и тут (вообще круг, в Силу своей пространственной однородности, с трудом четко восстанавливается в монтаже, и мы как бы оказываемся в зеркальной бесконечности). И далее ни разу больше общий план не повторяется, так что мы вынуждены соотносить людей только через оси их взглядов, но именно они-то, постоянно блуждая, никак не стыкуются. В этом эпизоде значительная роль отведена старухе с лорнетом. Нацеливание любого оптического прибора в принципе равнозначно фиксации взгляда и обыкновенно подготавливает введение субъективного плана. Ничего подобного у Файнциммера не наблюдается. Старуха с лорнетом неуверенно крутит головой (таким образом лишь фиксируя блуждание своего взгляда), никаких субъективных планов за нацеливанием лорнета не следует, но продолжается череда таких же крупноплановых портретов.
Этот эпизод в более изощренной форме предлагает тот же принцип, что и сцена прибытия в крепость. Само пространство совершенно неподвижно (стол, за которым сидят «прикованные» к стульям гости), но дезориентация, блуждание взгляда, введенные в сим-
345
метрик», блокируют ясное понимание пространственных отношений, создают пустотную зыбкость.
Отход от использования принципа субъективной камеры может иметь для Тынянова еще одну глубинную мотивировку. Персонаж, начавший складываться в зыблющемся пространстве зауми, не может получить свой окончательный статус в режиме работы субъективной камеры. Ведь субъективный план неизбежно акцентирует единую точку зрения как пространственный локус возникновения героя. Но уже с самого начала герой складывается из совмещения различных звуковых блоков, из взаимоналожения слоев. Он складывается как цитата, как нечто, не принадлежащее до конца пространству текста, повествования. Поэтому он может реализоваться только через формальный языковый эквивалент явлению интертекстуальности. Субъективный план таким эквивалентом быть не мог.
Заумные слова в текстах Тынянова, как мы уже отмечали, всегда сопровождаются цитатным контекстом, что вполне закономерно для создателя теории пародии. «Киже» и строится его автором не только как текст, возникающий из глоссемосочетания, но и как пародийный текст. Этот момент чрезвычайно важен для понимания всей его поэтики. Исследователями до сих пор не отмечено, что «Киже», например, пародийно связан с повестью Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». Такое упущение отчасти объясняется тем, что эта связь в рассказе ослаблена и принципиально не значима для прозаической версии сюжета. Обращение Тынянова к новелле Гофмана может быть объяснено поразительными чертами сходства между Цахесом и Павлом. Существенно, например, происхождение Цахеса от крестьянки, скрытое им и затем обнаруживающееся в слухах, так что люди не знали, «быть может, тут и в самом деле что-то кроется» (Гофман, 1978:172). Этому
346
мотиву соответствуют упорные слухи о «подмененности» Павла который, якобы, был сыном изгнанной Екатериной крестьянки; слухи, обыгранные Тыняновым в определении Павла как «безродного» (Тынянов, 1951:21) и в письме из фильма: «Какой ты есть, мы тебя не знаем акромя, что плешивый, курносый да злой и за царя не почитаем вовсе. Известно, что ты подмененный, а которые и тому не верют, и говорят еще, что и вовсе царя нет».
Цахесу приданы черты безобразного уродства, роднящие его со стандартным образом Павла, и не случайно, вероятно, он неоднократно описывается Гофманом как «линнеева обезьяна-ревун Вельзевул». Обезьяна, как известно, – наиболее устойчивое сравнение для этого русского императора. Характеристики Цахеса могут быть почти без изменений перенесены на литературного Павла, например: «...их превосходительство хотя и невеликоньки ростом, однако же обладают чрезмерно крутым нравом, скоры на гнев и не помнят себя в ярости...» (Гофман, 1978:171). Или: «Циннобер <...> закричал, забушевал, стал от ярости выделывать диковинные прыжки, грозил стражей, полицией, тюрьмой, крепостью» (Гофман, 1978:173).
У Гофмана обнаруживаются и такие расхожие мотивы павловской легенды, как заговор и постыдное убиение (смерть?) в собственных покоях и т. д.
Но еще более привлекательной для Тынянова могла быть сама стать Цахеса – видимого для одних, невидимого для других, воплощения зыбкости и подмененности, вспомним хотя бы признание Кандиды: «Чудище умело так притворяться, что становилось похоже на Бальтазара; а когда она прилежно думала о Бальтазаре, то хотя и знала, что чудище не Бальтазар, все же непостижимым для нее образом ей казалось, будто она любит именно ради Бальтазара» (Гофман, 1978:168).
347
Тынянов наполняет сценарий множеством прямых цитат и ссылок на Гофмана и вводит выпавший из фильма ключ, указывающий на текст пародирования. В сценарии неизвестно откуда возникает маленький человечек, он же «карлик»: «Конь у входа. Маленький человек подсаживает Павла. Павел легко садится в седло. Кряхтя влезает маленький человечек в большой треуголке – на громадную лошадь – никак не может – два лакея сажают его. Павел смеется. Едут: впереди – Павел, позади человечек» (Тынянов, 1933:кадр 255).
Этот, казалось бы, сюжетно никак не мотивированный эпизод, является прямой реминисценцией первой встречи Бальтазара со своим двойником Цахесом: «...все его попытки достать стремя и вскарабкаться на рослое животное оказались тщетными. Бальтазар все с той же серьезностью и благожелательством подошел к нему и подсадил в стремя. Должно быть, малыш слишком сильно подскочил в седле, ибо в тот же миг слетел наземь по другую сторону.
– Не горячитесь так, милейший мусье! – вскричал Фабиан, снова залившись громким смехом» (Гофман, 1978:107—108). Карлик затем несколько раз мелькает в сценарии (кадры 261—262, 274, 282—283, 308—317), не выполняя никакой сюжетной функции. Это чистый двойник Павла, его отражение в кривом зеркале, но главным образом – персонифицированная отсылка к Гофману.
В сценарии есть множество сюжетных реминисценций из Гофмана: свадьба Сандуновой с Киже – реплика венчания Кандиды с Цахесом; акцентированный в истории Киже мотив императорского сна и гротескного страха потревожить спящего владыку – трансформация рассказа камердинера о сне Цахеса: «...подкрался к двери спальни и прислушался (ср. с аналогичной сценой из фильма с адъютантом Каблуковым). И вот их превосходительство изволят хра-
348
петь, как то у них в обыкновении перед великими делами. <...>. Я-то уж сразу приметил по храпу: произойдет что-то значительное. Предстоят великие перемены!» (Гофман, 1978:171—172).
У Гофмана и Тынянова много совпадающих деталей. Когда в залу врываются заговорщики против Цахеса, «князь Барсануф вопит в ужасе: «Возмущение! Крамола! Стража!» – и быстро прячется за каминный экран» (Гофман, 1978:166), (ср. с ключевым криком «Киже» – «Караул!»). Когда заговорщики ворвались в покои императора «Павел тихо прокрался к камину, стал между стеклянными ширмами и камином» (Тынянов, 1933:кадр 650). В сценарии Павел заявляет: «Государство в опасности» (Тынянов, 1933: кадр 586), но это чистый повтор реплики гибнущего Цахеса (Гофман, 1978:167).
Ночью Павла дважды не обнаруживают в его комнате, сначала Пален (кадры 390—395), затем заговорщики (кадры 653—665) – это акцентирует крайне важный для Киже мотив пустоты: «389. Комната Павла. Стеклянные ширмы, кресла. Комната пуста <...>.
391. Пален вошел. Не замечает, что Павла нет. <...>.
392. Пустое кресло». «653. Адъютант и Пален бросаются к постели: постель пуста» и т. д. Эта сцена имеет параллель в романе Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара»4, но это и прямой повтор предсмертного исчезновения Цахеса: «Их превосходительства Циннобера нигде не было видно. <...>. Казалось, Циннобер исчез без следа, без единого звука. <...>. Он опять прошел в опочивальню в надежде, что в конце концов министр объявится сам.
Он испытующе смотрел по сторонам и вдруг заметил, что из красивого серебряного сосуда с ручкой, всегда стоявшего подле самого туалета, <...> торчат совсем маленькие худенькие ножки» (Гофман, 1978:174). Ср. с обнаружением Павла: «665. Пален видит отражение, тень на ширмах (Павел). Потом уви-
349
дел ноги. Наклонился. Дернул за руку адъютант, показывает. 666. Ноги Павла». И, наконец, образ убитого императора: «679. Ноги Павла из камина» (Тынянов, 1933). В сценарии и в фильме неоднократно мелькают ноги адъютанта Каблукова, торчащие из-под кровати, – кадры 539—542 (ср. с подкроватной посудиной, в которой утонул Циннобер, и 487-м кадром сценария – «Адъютант сел на край судна в полной парадной форме и горько плачет»). В кадрах 567—570 ноги Каблукова под кроватью, обнаруженные Павлом после осмотра комнаты Сандуновой, читаются как знак смерти Киже и предвосхищение грядущей гибели Павла: «567. Ноги адъютанта из-под кровати. <...>. 570. Павел кричит в бешенстве: – Генерал Киже убит. Вот он». Список совпадений можно продолжить. У Гофмана: «Погребение министра Циннобера было одним из самых великолепных, какие когда-либо доводилось видеть в Керепесе; князь, все кавалеры ордена зеленопятнистого тигра в глубоком трауре следовали за гробом» (Гофман, 1978:180) и т. д. В рассказе у Тынянова: «Похороны генерала Киже долго не забывались С.-Петербургом ... Полк шел со свернутыми знаменами. Тридцать придворных карет, пустых и наполненных, покачивались сзади» (Тынянов, 1954:30) и т. д. Любопытно текстуальное совпадение реакций князя и Павла на смерть их любимцев. У Гофмана: «...у меня умер такой человек!» (Гофман, 1978:177). У Тынянова: «...У меня умирают лучшие люди». И даже лейтмотив заключительной части сценария – пустой гроб Киже – взят у Гофмана: «...он удивился, поглядев через Бальтазарову лорнетку на великолепный гроб, в котором покоился Циннобер, и ему внезапно показалось, что никакого министра Циннобера никогда и не было...» (Гофман, 1978:182). Это исчезновение Циннобера из гроба предварительно мотивируется Гофманом в псевдонаучном монологе лейб-медика (отметим значительное место, отведенное лейб-медикам в сце-
350
нарии, фильме и у Гофмана): в нем говорится, что вследствие «дисгармонии между ганглиональной и церебральной системами» у Циннобера произошло «полное уничтожение личности». «Это состояние мы и обозначаем словом «смерть»! Да, всемилостивейший повелитель, министр уже утратил свою личность и был, таким образом, совершенно мертв, когда низвергался в этот роковой сосуд. А посему причина его смерти была не физическая, а неизмеримо более глубокая – психическая» (Гофман, 1978:179). По сути дела, перед нами развертывание содержательных мотивов Киже – потери личности и мерцающего, брезжущего, идеального бытия литературного персонажа. «Физический принцип, – снова заговорил медик, – есть условие чисто вегетативной жизни, психический же, напротив, обуславливает человеческий организм, который находит двигателя своего бытия лишь в духе, в способности мышления» (Гофман, 1978:179). Вспомним: «в прерывистых мыслях адъютанта у него наметилось и лицо...» (выделено мной. – М. Я.).