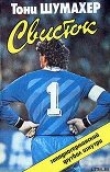Текст книги "Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф"
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Это столкновение фантазии и игры с коммерческим порядком иных.
Но это не все. Это реванш художников и поэтов. В том искусстве, где изображение должно быть всем и где оно принесено в жертву романическому анекдоту, следовало защищаться и доказывать, что искусства воображения, рассматриваемые в качестве вторичных, могут сами, своими собственными средствами создать фильмы без сценария, глядя на движущееся изображение как на основной персонаж» (Леже, 1965:165). И тут же называет «Механический балет» «немного теоретическим» произведением.
Как видим, речь идет об изгнании анекдота и, вероятно, о его замещении некими чисто пластическими средствами. Приравнивание движущегося изображения персонажу здесь весьма красноречиво, так же как и упоминание поэтов в ряду создателей авангардистского кино.
Каких именно поэтов имел в виду Леже? На этот вопрос можно ответить с известной долей уверенности. Скорее всего, имеются в виду те литераторы, с которыми Леже был лично близок. Таких четверо: Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Блез Сандрар и Иван Голль. Более тесные связи Леже поддерживал с двумя последними, неоднократно иллюстрировал их книги.
209
Сандрар и Голль кажутся наиболее вероятными фигурами еще и потому, что они оба страстно увлекались кинематографом.
Влияние Голля сказалось прежде всего на выработке важного для творчества Леже кубистического образа Чарли Чаплина. Впервые кубистический Чарли появляется в иллюстрациях Леже к «кинопоэме» Голля «Чаплиниада» (Голль, 1920), затем он переходит в кинематографический замысел Леже и возникает в качестве главного героя незавершенного мультфильма «Чарли-кубист» (см.: Ямпольский, 1985). Фрагмент из этого неосуществленного фильма – мультипликационная фигура Чарли – вошел в начало и финал «Механического балета». Однако нет оснований считать, что творчество Голля существенно для формирования поэтики фильма Леже. Это влияние скорее всего ограничивается отдельными тематическими заимствованиями. Другое дело – Блез Сандрар, чье влияние на кинематограф Леже совершенно несомненно и отмечается большинством исследователей. Американец Стендиш Лоудер, посвятивший «Механическому балету» целую книгу, специально останавливается на этом вопросе в главе ««Колесо», Сандрар и Ганс» (Лоудер, 1975:79—97). При этом роль Сандрара сводится им, как и иными авторами, к его участию в фильме Ганса «Колесо» (1921), оказавшем большое влияние на Леже (он посвятил «Колесу» известную статью). Регулярно отмечается участие Леже в качестве иллюстратора в романе-сценарии Сандрара «Конец света, снятый ангелом Нотр-Дам». Эти моменты существенны, но далеко не исчерпывают отношений между двумя художниками.
Леже подружился с Сандраром в 1912 году. Эта дружба возобновилась в 1916-м, после возвращения их обоих с фронта. По-видимому, Сандрар сыграл известную роль и в привлечении Леже к кинематографу, так как именно он одним из первых в среде француз-
210
ского художественного авангарда заболел этим увлечением.
В биографии Сандрара кино занимает как будто значительное место, но в действительности от всей его шумной кинематографической активности осталось мало зримых следов. Вот его собственный отчет о работе в кинематографе: «Я хотел заняться кино. У меня была возможность работать в Англии. Я снял множество фильмов для одной английской фирмы, которая, желая сыграть на разнице в курсе валют, отправила меня в Италию. Почти год я оставался в Риме и снимал кино во время похода на Рим и триумфального успеха Муссолини. До этого я работал с Абелем Гансом. Еще до этого снимал документальные фильмы с Пате, короткометражки, целую серию «Природа у себя дома». Я писал сценарии, синопсисы (как они говорят), диалоги, делал раскадровки и т. д.» (Сандрар, 1971, т. 13:93). Из всего вышеперечисленного только работа с Гансом, да несколько непоставленных сценариев остаются несомненной реальностью. Никаких английских фильмов или короткометражек Пате обнаружить не удалось. Можно предположить, что «документальные фильмы Пате» – не что иное, как тексты Сандрара, известные под названием ««Кодак», или «Документальные съемки»» (1924). Они, как известно, были настоящей поэтической мистификацией. Эти тексты состояли из фраз, вырезанных ножницами из произведения Густава Леружа «Загадочный доктор Корнелиус». Среди них есть текст «Охота на слона» – вероятный литературный аналог якобы снятого Сандраром фильма о слонах. Во всяком случае, связь типичной литературной мистификации с кинематографом весьма примечательна для Сандрара. По-видимому, и широковещательный проект бразильского фильма никогда не был предназначен для исполнения. В Рим Сандрар отправился по совету Жана Кокто, сообщившего ему о намерении
211
итальянской студии «Ринашименто» найти французского режиссера. Сандрар приступил к съемкам фильма «Черная Венера», но так и не смог завершить их. Студию внезапно закрыли, а фильм уничтожили (Сандрар, 1984:543—546). От итальянского периода, впрочем, сохранился сценарий «Лихорадящая жемчужина». Фр. Вануа, пытавшийся прояснить полную загадок и белых пятен кинематографическую биографию Сандрара, вынужден был признать свою несостоятельность (Вануа, 1976). Эта сторона жизни поэта остается, вероятно, сознательно затемненной.
Следует подробней остановиться на проблеме участия Сандрара в постановках Ганса. Ведь именно они, по признанию Леже, толкнули его к кинематографу: «Кино вскружило мне голову. В 1923 году некоторые из моих друзей работали в кино, и я был так захвачен кинематографом, что чуть было не бросил живопись. Все это началось, когда я увидел крупные планы «Колеса» Абеля Ганса. Тогда я решил во что бы то ни стало сделать фильм, и я сделал «Механический балет»» (Лоудер, 1975:89). С. Лоудер так комментирует это высказывание: «Нет сомнения, что «друзья, работавшие в кино», о которых говорит Леже – это Блез Сандрар и кинорежиссер Марсель Л'Эрбье. Сандрар создал те части «Колеса», которые вскружили Леже голову. Он работал на этой постановке монтажером и именно в этом качестве создал, особенно в начале фильма, тот великолепный монтаж, которому предстояло так повлиять на Леже» (Лаудер, 1975:89—90). Известно, что Сандрар работал на «Колесе» (как и на другом фильме Ганса – «Я обвиняю», 1918) ассистентом, однако свидетельств об участии поэта в монтаже фильма не существует. Почему же Лоудер с такой уверенностью приписывает монтаж лучших фрагментов «Колеса» Сандрару? Американский киновед ссылается на свидетельство Луи Парро,
212
который в свою очередь высказывается довольно осторожно: «В 1921 году он сотрудничает с Абелем Гансом над постановкой «Колеса». Вклад Сандрара обнаруживается здесь в монтаже, в частности – сцен движущегося поезда» (Парро, 1953:47). Парро не уточняет, что следует понимать под выражением «вклад Сандрара», но в целом систематически переоценивает кинематографическую квалификацию Сандрара, называя его подлинным «специалистом по кинотехнике» (Парро, 1953:46). Впрочем, и сам Сандрар старался внушить подобную мысль, перегружая технической кинотерминологией некоторые свои тексты («План иглы», «Лихорадящая жемчужина»). Но этот чрезмерный терминологизм производит впечатление стилизации.
Легенда о решающей роли Сандрара в создании «Колеса» возникла, по-видимому, сразу же после выхода фильма. Вероятнее всего, и тут сам Сандрар сыграл немалую роль. Уже в марте 1923 года в «Письме из Парижа», опубликованном в журнале «Дайел», Эзра Паунд1 приписывает основные достижения «Колеса» Сандрару: «Благодаря, как мы полагаем, Блезу Сандрару, там есть интересные моменты и эффекты, которые, вероятно, принадлежат исключительно кинематографу. <...>. Фрагменты машин, меняющиеся скорости, способы воспроизведения машин великолепно используются в соответствии с живописными концепциями, заимствованными у современных абстрактных живописцев» (Паунд, 1980:175). В ином месте Паунд называет «Колесо» попросту «фильмом Сандрара» (Паунд, 1980:175). Примечательно, что во всей статье ни разу (!) не упомянуто имя действительного создателя фильма – Абеля Ганса2. Не менее интересно возведение эстетики «Колеса» к современной живописи. При этом Паунд не был посторонним наблюдателем – он был тесно связан с парижской художественной богемой, в том числе и с соавтором Леже по «Механическому балету» американским опе-
213
ратором Дадли Мерфи. Сам Леже признавал косвенное воздействие Паунда на его фильм. Известное подтверждение эта легенда находила в разностильности «Колеса». Такой осведомленный свидетель, как Жорж Шарансоль, в 1935 году описывает «Колесо» следующим образом: «Это то Фернан Леже, то Деба-Понсон, иногда – Блез Сандрар, иногда – Франсуа Коппе, а иногда и все вместе одновременно» (Шарансоль, 1935:176). Гансу, как видно, здесь вновь не остается места. В высшей степени примечательно, что среди «авторов» фильма назван Леже, который, как известно, лишь выполнил афишу для «Колеса» (вероятно, по просьбе Сандрара), но никакого участия в его создании не принимал. Эта оценка Шарансоля носит чисто ретроактивный характер. Некоторые черты «Механического балета» здесь приписываются более раннему «Колесу».
Еще более решителен Ж.-А. Левеск: «...если посмотреть эту ленту, полную достоинств и недостатков, то легко выделить тот вклад, который внес Сандрар в создание этого произведения, вызывавшего сенсацию сценами мчащегося поезда, выполненными в так называемом симультанном монтаже» (Левеск, 1947:55). Для Левеска вообще характерно некритическое отношение к декларациям Сандрара, но здесь, однако, есть весьма любопытный факт – изобретение некоего особого «симультанного монтажа», непосредственно отсылающего к симультанеизму, в котором Сандрар принял в свое время деятельное участие. Сам этот терминологический неологизм весьма красноречиво указывает на «этимологию» мифа о сандраровском монтаже в «Колесе».
Существует ли возможность с известной мерой достоверности ответить на вопрос о доле участия Сандрара в «Колесе»? Прежде всего следует привести свидетельство самого Ганса. Вот что он пишет о Сандраре: «Кинематографическая работа в прямом смысле
214
слова сбивала его с толку, и было хорошо видно, если приглядеться к его слегка удивленному, направленному на нас взгляду, что он совершенно ничего в ней не понимал» (Ганс, 1962:171). В ином месте Ганс повторяет эту свою оценку и вносит ряд уточнений относительно ассистентских функций Сандрара: «Честно говоря, я не могу утверждать, что я сыграл роль в приобщении Сандрара к кинематографу: он всегда оставался чужд нашей работе, которая сбивала его с толку и за которой он с трудом следил; он в основном выполнял функции помощника режиссера, организуя альпинистские партии или собирая вагоны и локомотивы. Ему нравилась эта более конкретная работа» (Ганс, 1969:ХХ).
Можно, разумеется, приписать эти поздние свидетельства раздражению Ганса по поводу того, что его кинематографические заслуги постоянно приписывались его ассистенту. Но даже если принять во внимание некоторую категоричность гансовского заявления, в нем, по-видимому, содержится немалая доля истины. Ж. Садуль целиком принимает утверждение Ганса: «Писатель между тем оставался простым ассистентом, не принимая активного участия <...> ни в сценарии, ни в постановке» (Садуль, 1959:74). Сам Сандрар косвенно подтверждает эти суждения, описывая свою работу у Ганса осенью 1918 года на съемках фильма «Я обвиняю»: «Я делал все – был рабочим, реквизитором, электриком, пиротехником, костюмером, статистом, ассистентом, помощником оператора и режиссера, шофером хозяина, бухгалтером, кассиром...» (Сандрар, 1971, т. 13:188). Ситуация вряд ли коренным образом изменилась и на съемках «Колеса». Во всяком случае это подтверждается одним весьма авторитетным документом – неоконченными воспоминаниями Жана Эпштейна, согласующимся со свидетельством Ганса. Эпштейн присутствовал на съемках «Колеса», куда был приглашен Сандраром. Однако
215
случилось так, что Эпштейн не застал Ганса и основную часть съемочной группы. На площадке оставалось лишь несколько человек, которым Ганс поручил доснять раккорды. Среди них был и Сандрар. Но руководил группой другой ассистент – Робер Будриоз. Эпштейн вспоминает: «Днем я видел Сандрара мало, он был всюду, там, где и в голову не пришло бы его искать: на железнодорожном локомотиве у котла, на почте, где он сам отбивал свои телеграммы морзянкой, на леднике Боссон с группой гидов, в поисках коробки с гримом и каких-то аксессуаров, упавших в расщелину» (Эпштейн, 1974:34). Тот факт, что вся профессиональная работа была поручена Будриозу, и сам перечень занятий Сандрара вполне согласуются со свидетельством Ганса. Тот же Эпштейн подтверждает, что во время монтажа «Колеса» Сандрар находился в Италии (Эпштейн, 1974:47—48), и единственным в этот период ассистентом Ганса он называет будущего исполнителя роли Наполеона – Альбера Дьедоне (Эпштейн, 1974:55). Окончательно пролить свет на участие Сандрара в производстве «Колеса» позволяют «текстологические» исследования Роже Икара, установившего, что существовали две версии монтажа «Колеса». При этом основные монтажные новинки были внесены Гансом после бесед с Д. У. Гриффитом в 1921 году в студии Мамаронек. Этот монтаж занял практически весь 1922 год и был завершен к декабрю. Икар приводит ряд технических уточнений по вариантам монтажа, позволяющих со значительной долей уверенности отмести возможность участия дилетанта Сандрара в его окончательном оформлении (Икар, 1981).
Но означает ли это, что роль Сандрара в создании «Колеса» может быть сведена к функциям второго ассистента? Разумеется, нет. Речь, по-видимому, может идти о чрезвычайно любопытном феномене интертекстуализации фильма через привлечение к
216
нему известного литератора. Само присутствие Сандрара, даже если отвлечься от безусловного интеллектуального влияния, оказанного им на Ганса, увязывало фильм с определенным кругом идей, выразителем которых был поэт. Функция Сандрара на съемочной площадке могла быть значима для Ганса в связи с его способностью вырабатывать «мифы» и погружать любую связанную с ними конкретику в чрезвычайно мощный интертекстуальный контекст. Сандрар мог явиться генератором очень существенного для фильма «Колесо» мифа. Ганс использовал характерное для поэта стремление «вчитывать» свой «кинематограф» в фильмы, сделанные вне всякого его реального участия. Сандрар порой создавал весьма причудливые мифы. Так, он утверждал, будто бы Чаплин в своем фильме «На плечо!», сделанном в Америке (в то время, когда Сандрар находился на фронте во Франции), использовал некоторые его идеи (Сандрар, 1971, т. 13:95—96). Он же упрекал Пикабиа в краже у него идеи «Антракта»3. Однако эти обвинения в плагиате не были тяжбой за приоритет, они лишь отражали необычайно характерное для Сандрара свойство видеть в чужом фильме воплощение некой собственной идеи, свойство, являющееся следствием постоянного стремления Сандрара проецировать свои художественные миры вовне, субъективно преображать множество чужих текстов в образцы собственной поэтики.
С первого же момента работы над «Колесом» перед Гансом встает задача мифологически преодолеть тот неповоротливо-мелодраматический материал, что был положен в его основу. Сандрар с его несравненной способностью к мифологизированию и выполняет эту задачу. То качество, которое иногда приводило его на грань конфликтов или недоразумений, здесь используется для «облагораживания» материала. И Сандрар как бы «наводит» в соответствии со своей обычной тактикой «свой кинематограф» на фильм Ганса (что в
217
дальнейшем и даст основание для разнотолков по поводу меры его участия в создании «Колеса»).
Прежде всего это было связано с выдвижением на первый план символа колеса. Литературной основой фильма было произведение Пьера Ампа «Рельс» (1912). Рабочим названием долгое время оставалось «Роза рельса» – грубоватая аллегория совершенно в духе выспреннего стиля Ганса. Емкое и полное символики название «Колесо» – скорее всего, выдумка Сандрара. Впрочем, не особенно оригинальная в контексте его предшествующего творчества. Речь шла, по существу, об увязывании фильма Ганса с уже имевшимся комплексом сандраровских текстов, об интертекстуализации фильма за счет собственного творчества, о том, чтобы таким образом соединить конкретику фильма с неким абстрактным понятием, «представить непредставимое». Вот как определяет содержание своего фильма Ганс: ««Колесо – это движение семи форм, которые вращаются одна в другой», – говорил Якоб Бёме. Круг, Колесо не просто поддерживают жизнь, но вечно вновь ее начинают <...>. Название символично и позитивно. Для меня оно позитивно, поскольку лейтмотив фильма – это колесо паровоза, одного из главных наших персонажей, который воплощает для нас идею фатальности как нечто неспособное покинуть рельс. С точки зрения более точного символизма, это – колесо фортуны, направленное против Эдипа» (цит. по: Садуль, 1975:146).
Роман Ампа вряд ли мог дать основание для таких аллегорических интерпретаций. Он повествовал о стачечной борьбе профсоюза железнодорожников. В романе нет сколь-нибудь развернутых фрагментов, касающихся символики колеса. Правда, нечто подобное гансовскому «колесу фортуны» обнаруживается. Так, некий Деликамбр, служащий главной железнодорожной инспекции, пускается в следующее рассуждение по поводу железнодорожной катастрофы: «...же-
218
лезная дорога всегда будет иметь изъяны: либо в железе, либо в людях. Компания держит банк в рулетке, где смерть играет по теории вероятности. Нужно же, чтобы смерть время от времени выигрывала, иначе ей скучно» (Амп, 1925:118). Но никакой прямой увязки с колесом здесь нет. Сандрар мог сыграть значительную роль в сближении рулетки Ампа с символикой колеса. Ганс возводит эту символику к Бёме и при этом признается, что с творчеством Бёме и мистицизмом в целом его познакомил Сандрар (Ганс, 1962:170). Мистические учения как интертекст, конечно, играли фундаментальную роль для многих авангардистов, поставляя пластически конкретным образам репертуар абстрактно-понятийных эквивалентов.
Прежде чем обратиться к самому процессу символизации колеса, круга, диска в творчестве Сандрара – символики, повлиявшей на Леже и ряд других художников и очевидной в «Механическом балете», – завершим рассмотрение мифа «Колеса» у Ганса. Миф этот, как будет видно из дальнейшего, восходящий к Сандрару, был подхвачен Гансом в нескольких широковещательных декларациях и стал быстро разноситься прозелитами, создавшими вокруг Ганса обстановку культа, обожествления. Одним из апостолов гансовского культа был его ближайший друг Жан (Хуан) Арруа, посвятивший ему книгу, наделенную всеми чертами будущего евангелия. Вот круг имен, среди которых на правах равного фигурирует постановщик «Колеса»: Платон, Моисей, Магомет, Иисус, Ницше, Сведенборг, Байрон, Уитмен. Ганс называется святым и т. д.4.
Арруа вторит гансовской интерпретации символа: «Колесо», пароксизм фатальности, находится на перекрестке эсхиловских трагедий, латинского Фатума и ницшевского Вечного Возвращения.
219
«Колесо» – это действительно первый кинематографический символ, и до настоящего дня – единственный. Запущенное однажды, оно вечно вращается, и каждый вечер, когда падает тень и наступает тишина, Сизиф (герой фильма с подчеркнуто символическим именем. – М. Я.) вновь принимает свой крест, восходит на свою голгофу, претерпевает страсть, испытывает свою муку и умирает. Он приговорен так умирать миллиарды тысяч раз. Колесо крутится в своем ежедневном распятии. <...>. Кино мешает умереть. О, жестокая судьба. О, адская пытка не иметь возможности бежать от себя. О, боль быть бессмертным» (Арруа, 1927:12—13). Как мы видим, Арруа превращает Колесо в символ кинематографа как такового, с его свойством бесконечно воспроизводить одну и ту же «реальность». Миф тиражируется и в текстах Эпштейна – другого «апостола» Ганса. «В этом фильме рождается первый кинематографический символ – Колесо5. Мученики, исповедывающие нашу догму жестокой лжи, несут его на лбу, стальной венец <...> – Колесо. Оно катится, как бьется сердце, по предустановленным рельсам случая. Цикл, объединяющий жизнь и смерть, стал столь болезненным, что пришлось сковать его, чтобы его не разорвали. Надежда сияет в центре, плененная. Колесо. <...>. Бешено вращающийся крест принимает форму колеса. Вот почему на вершине Вашей голгофы, Ганс, находится «Колесо»» (Эпштейн, 1974:175).
Сандрар, конечно, не принимает участия в создании нового культа. Он вообще, по-видимому, далек от христианизации символов. Превращение колеса в крест, а героя фильма Сизифа в alter ego Ганса, как бы принимающего на себя венец мученика – дело самого режиссера и его близких. Сандрар также отдает определенную дань мифологизации Ганса и его фильма, но в совершенно иной форме. Первый роман о Дане Яке «План иглы» посвящен Гансу. При этом посвящение
220
датируется декабрем 1919 года, то есть тем моментом, когда Ганс завершает работу над огромным (семьсот страниц) сценарием «Колеса» (Икар, 1981:186). Но в романе, писавшемся с 1917 по 1928 год, на наш взгляд, содержится ряд закамуфлированных намеков на историю создания «Колеса». Героиня книги, возлюбленная Дана Яка, носит имя Мирей. Именно так назывался первый сценарий Ганса, написанный для Леонса Перре в 1907—1908 году, – как раз в то самое время, когда он знакомится с Сандраром (Браунлоу, 1969:600). История Мирей, надо думать, не случайно столь во многом совпадает с историей Иды Данис, возлюбленной Ганса, тяжело заболевшей во время съемок и умершей в день окончания первоначального варианта монтажа – 9 апреля 1921 года (Браунлоу, 1969:623). Сам график съемок «Колеса» был подчинен требованиям врачей, лечивших Иду. Так, сцены на Монблане были введены в фильм из-за того, что Ида нуждалась в горном воздухе. В романе «План иглы» ситуация во многом аналогична. Фильм снимается специально для Мирей6, которая умирает в конце съемок. Если предположить, что «План иглы» отражает некоторые ситуации съемок «Колеса», то не исключено, что и отношения между Даном Яком и режиссером фильма в романе, г-ном Лефоше, в какой-то мере воспроизводят представления Сандрара о его взаимоотношениях с Гансом. Дан Як (безусловно, alter ego Сандрара) непосредственно не участвует в съемках, но является подлинным знатоком искусства и в высшей степени осведомлен в технической стороне дела. Ему принадлежат парадоксальные эстетические декларации. Он – центральная фигура в создании фильма, хотя непосредственно в нем не участвует. Лефоше – мастер мелодрамы старой школы, профессионал, ограниченный в своем художественном кругозоре. Разумеется, нет оснований прямо проецировать отношения персонажей на отношения прототипов и понимать аналогии
221
буквально. Но со всеми поправками на специфику художественного текста и фиктивную компенсацию определенных «комплексов» (техническая неосведомленность Дана Яка, положение ассистента в реальности – положение хозяина, финансирующего фильм в романе), есть основания полагать, что в своей кинематографической части «План иглы» – реплика Сандрара на возникший культ Ганса. Посвящение романа Гансу может носить иронический характер, особенно содержащееся в нем «скромное» предупреждение, чтобы режиссер не искал в романе каких-нибудь новых идей7.
Таким образом, в «Плане игры» Сандрар как бы зеркально переворачивает ситуацию, созданную Гансом в «Колесе». Если Ганс использует Сандрара как живого «маркера» интертекстуализации, приглашая его работать в собственном фильме, то Сандрар включает Ганса в качестве прототипа в свой роман, вводя в него тем самым и всю ситуацию «Колеса» в перевернутом виде. Инверсия ситуаций приводит и к инверсии ролей в романе. Эта инверсия, как и неприятие культа Ганса, могут быть объяснены и тем, что фетишизация колеса в гансовском круге входила в противоречие с установкой Сандрара на создание нового, беспрецедентного символа – тогда как включение колеса в религиозный и традиционалистский контекст прозелитами Ганса в значительной степени исчерпывало новизну символа, превращало его в аллегорию. Уже в одном из своих ранних текстов, «Моганни Намэ», Сандрар критически отзывался о символе как «формализованной аксиоме» и замечал: «В действительности, уникальны те, кто работает с плазмой Искусства и вырабатывают символ <...>, такой символ, на склонах которого отливается новое метафизическое небо» (Сандрар, 1962:96).
Стратегия Сандрара в таком контексте была прямо противоположна стратегии Ганса. Речь шла не о том,
222
чтобы взять некий пластический элемент и погрузить его в поле символизирующих интертекстуальных интерпретаций (колесо=колесу фортуны и т. д.). Сандрар стремился разработать мощный культурный миф из самой «плазмы искусства», соткать противоречивую ткань межтекстуальных связей, которая не позволила бы символу превратиться в «формализованную аксиому», как это сделал Ганс и его прозелиты. «Сотрудничество» с Леже в этом смысле оказалось гораздо более продуктивным. С Леже и Делоне. Попробуем более внимательно вглядеться в генезис символа у Сандрара – тем более, что, указав на его роль в символизации колеса у Ганса, мы пока не привели этому никаких доказательств (кроме ссылки Ганса на Якоба Бёме). Попытаемся обосновать нашу точку зрения.
В 1906 году Сандрар прочитал «Популярную астрономию» (1880) Камилля Фламмариона. Книга произвела на него огромное впечатление, он начал увлекаться астрономией, затем астрологией. Интенсивно поэтизируя текст Фламмариона, он преображает традиционные поэтические небеса в сферы, подобные сложному механическому устройству, где планеты-колеса решают судьбы людей. Как отмечает И. Бозон-Скальцитти (Бозон-Скальцитти, 1972:57), в романе «Моганни Намэ» (1911), еще не преодолевшем влияния символизма, уже явственно чувствуется отзвук этого увлечения: «Вплоть до самых далеких центров круги медленно приходили в движение. Его мозг был теперь лишь волной гармонии, математическим небом, где между планет в сложной игре кружатся кометы, выполняющие предустановленные движения» (Сандрар, 1962:77).
Со свойственной ему способностью к сложной взаимной метафоризации явлений Сандрар оборачивает символ небесных колес каждый раз новой стороной. Например, в тексте о Шагале 1912 года: «Колеса без-
223
умия крутятся в небесной колее и забрызгивают грязью лицо Бога!» (Сандрар, 1969, т. 6:51.) Постепенно идея небесного механизма начинает связываться у Сандрара с образом вечного двигателя, где колесу отводится главенствующее место. В 1976 году был впервые напечатан текст Сандрара о вечном двигателе, задуманный как приложение к описанию космического путешествия «Эбаж» (1917). В этом тексте 1917 года за несколько лет до начала съемок «Колеса» почти в законченной форме изложен тот миф, который был затем использован Гансом. Приведем обширную цитату, тем более что данный текст имеет и непосредственное отношение к «Механическому балету»: «Не вызывает сомнений, что религиозные мотивы и мифологические памятники должны были сыграть большую роль в вопросе о perpetuum mobile. Стоит только подумать о том огромном значении, какое символика древних религий придает колесу, колесу, в которое вписываются и идея движения, и идея вечного возвращения. Ведь в религии колесо – это символ божества. То же самое у древних германцев и кельтов. Многие ритуалы и мифы свидетельствуют о религиозном происхождении символа колеса, которое прежде всего сравнивается с солнцем и по своему движению, и по своей форме. Именно через символ колеса Ольденберг объясняет значение венка, прибитого к вершине столба, к которому во многих древних религиях привязывают жертвенных животных. <...>. Религиозными мотивами можно объяснить и то, почему средневековые теологи с такой яростью нападали на вечное движение и исповедывали конечность движения, объявляя perpetuum mobile несовместимым с наукой о Боге. <...>. Это желание, возможно, столь же старо, как и стремление к бессмертию. Вне всякой техники, идея вечного движения принадлежит к числу наиболее древних проблем человеческой цивилизации» (Сандрар, 1976:207—208).
224
Итак, Сандрар бегло останавливается на религиозной символике, чтобы обнаружить за ней основную идею – идею движения. Последняя, традиционно сопряженная с идеей жизни как таковой, приобретает у Сандрара несколько необычные черты, увязываясь им со становлением нового языка. Многие направления искусства начала века (особенно декларативно – футуристы) превращают движение в знак новой цивилизации, нового художественного языка, но Сандрар подходит к этому вопросу несколько необычно. До нас дошла лекция Сандрара «Поэты», прочитанная им в 1924 году в Бразилии и по существу посвященная проблеме языка. Поэт исходит из того, что эволюция языка шла от «конкретного к абстрактному, от мистического к рациональному» (Сандрар, 1962:207), и, в духе многих своих современников, призывает вернуться к первобытному конкретному и мистическому языку. Однако в этом своем призыве он идет гораздо дальше принятого. Он не только отмечает параллелизм развития языка и промышленного оборудования, но буквально «инструментализирует» речь, придавая ей характер физического действия, механического движения. Сандрар обильно цитирует лингвиста М. Ж. Вандриеса, особенно его описания механизмов речи: «Здесь существуют, таким образом, ускорения, скачки, уменьшения скорости, остановки. Иными словами, речь заключает в себе ритмический принцип с сильными и слабыми долями» (Сандрар, 1962:214). «В этой игре сложных движений, составляющих фоническую систему, случается так, что один из органов чрезмерно усиливает или сдерживает свое действие, что мускул слишком вяло и медленно выполняет движения или, напротив, вкладывает в них больше силы и скорости» (Сандрар, 1962:218).
Речь в таком контексте приобретает всё черты механической деятельности, одновременно теряя свойство смысловой прозрачности. Она становится
225
как бы физически зримой, телесно осязаемой (а Сандрар даже говорит о возможности вкусового, тактильного или визуального языка – Сандрар, 1962:211), что и придает ей тот самый оттенок иероглифичности, который возникает в результате интертекстуальных наслоений в цитате. Поэтическая речь для Сандрара и есть физический механизм, включающий мощную интертекстуализацию, головокружительное наслоение фрагментов, цитат, заимствований, разнородных блоков. Интертекстуальность таким образом включается в саму физику мускульной речи.