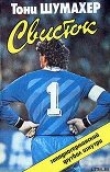Текст книги "Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф"
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Спектакль строился как порождение зрелища из хаоса: «Круг открывается, – писал Сандрар в либрет-
248
то, – три божества вершат новое колдовство, и мы видим, как бурлит бесформенная масса. Все движется, появляется чудовищная нога». Далее из хаоса возникает пара, «и покуда пара танцует танец желания, а затем совокупления, все те бесформенные существа, что оставались на земле, незаметно появляются и включаются в хоровод, и ускоряют его до головокружения» (Шведские балеты, 1970:29). Описание, во многом совпадающее с иными текстами Сандрара того же круга – в частности, с комментарием к «Окрашенным ритмам» с их сотворением мира из совокупления эмбрионов. Леже удалось создать яркий пластический эквивалент литературной программе поэта. Вот как описывает работу Леже над балетом Пьер Декарг: «Для «Сотворения мира» он сначала создал ощущение хаоса, чтобы затем породить в сознании зрителей понятие порядка, организации, творения организованной жизни. Когда занавес поднимался, глаз видел исключительно загроможденную сцену в полном беспорядке и не мог разобрать, где кончаются декорации и где начинаются персонажи. Потом постепенно некоторые декоративные элементы приходили в движение, декорации раздвигались, облака поднимались к небесам; можно было различить странные животные массы, которые начинали колебаться; ритм ускорялся...» (Декарг, 1955:67—68). Работа Леже над пластическим воплощением текста Сандрара велась уже на грани кинематографа. Выше мы отмечали сильнейшие кинематографические обертона темы «сотворения мира» у Сандрара. Работа над балетом, вероятно, актуализировала стремление ввести в сложные отношения кино и литературы третью семиотическую систему, которой оказывается танец. Сандрар и раньше включал в свои «кинематографические» тексты мотив ритуальных танцев (а именно с поэтикой африканского ритуального танца и был связан балет «Мийо»). В «Конце света» он дважды возникает во второй главе
249
«Барнум религий»: «Негритянские, океанические, мексиканские фетиши. Гримасничающие маски. Ритуальные танцы и песни» (Сандрар, 1969, т. 2:13). И далее: «.. .застывший ужас негритянских масок, жестокость танцев...» (Сандрар, 1969, т. 2:14). Но наиболее отчетливо негритянский фетиш и кинематограф связываются между собой в «Мораважине». В описании психиатрической клиники, куда попадает рассказчик Реймон ла Сьянс, есть следующий красноречивый фрагмент: «На белых плитках комнат – ванны, эргометры <...>, они появляются, как на экране, той же дикой и устрашающей величины, какую имеют предметы в кино, той же величины интенсивности, что является мерилом негритянского искусства, индейских масок и первобытных фетишей, величины, выражающей внутреннюю энергию, яйцо, великолепную сумму постоянной энергии, которую содержит каждый неодушевленный предмет» (Сандрар, 1956:30).
Таким образом, крупный план получает в качестве символа негритянский фетиш. Он же связан с анимистической энергией вещи и символом яйца как первоэлемента, из которого творится мир. Крупный план оказывается некой генной корпускулой, из которой рождается мироздание. Крупный план предмета в кино и негритянский фетиш на мифологическом уровне взаимозаменяемы. Вся эта мифология внедряется Сандраром в балет, где круговые формы приводятся в движение (мифо-эротический эквивалент совокупления), где фетиши и маски порождают энергию творения. В ином кинематографическом тексте, сценарии «Лихорадящая жемчужина» (также символ творения), тема танца уже вводится внутрь самого киноязыка и также связывается с дроблением тела на крупные планы (фетиши) и эротической мифологией (отметим также, что речь идет о ритуальном индийском танце танцовщицы Руга):
250
«507. Крупный план. Руга неподвижна, как будто на нее нисходит вдохновение.
508. Наплыв на головокружительный вихрь танца. Быстрота вращения (попробовать несколько опрокинутых точек зрения) через опрокидывание точки съемки.
509. Flash и различные крупные планы деталей этого танца: палец, лопатка, раздвинутые пальцы ног, напряженное усилие живота, тяжелая одышка бедер и т. д.» (Сандрар, 1969, т.2:111).
Близкое по характеру эротическое описание кинематографического танца Руга есть и в эпилоге сценария, планы 829—840 (Сандрар, 1969, т.2:128).
Таким образом танец, становясь эротическим символом, включается в сандраровский миф о творении как еще один художественный «подъязык». Кино понимается как механизм разрушения-созидания мироздания. Танец – как механизм размножения. Отсюда различные формы движения, особенно круговые и овоидные, в подтексте связываются с оплодотворением мира и мифологически описываются как танец.
Все это мы сполна находим в «Механическом балете» Леже, чье название безусловно отсылает к опыту работы в «Шведском балете» Рольфа де Маре и к кругу идей Сандрара.
Господство круговой формы в фильме, всевозможные ее варианты, как уже указывалось, связаны и с длительной дискуссией с Делоне, и с мистической символикой, но также – с эротическим символом рождения. В 1924 году Леже объясняет притягательность круга его «первородностью»: «Всякий предмет, имеющий в своей основе круг в качестве изначальной формы, всегда желанен как притягательная ценность» (Леже, 1965:141). В позднем тексте «Цирк» (1950), где развернута настоящая апология круга, притягательность этой формы объясняется некими «чувственными» мотивами: «Существует зрительное тактильное
251
удовлетворение от круглой формы. Настолько очевидно, что круг приятен... <...>. Вода, подвижность воды, человеческое тело в воде, игра чувственных и обволакивающих кривых – круглая галька на пляже, подбираешь ее и трогаешь» (Леже, 1965:153).
Эротизация круговой формы здесь, конечно, не имеет грубо сексуального оттенка, но вполне согласуется с «творящим порывом» Сандрара как мифологемой. Одновременно с Леже—Сандраром эротизации круговой формы отдал дань и Марсель Дюшан.
В 1926 году он сделал фильм «Anemic cinema», чье название (каламбур-анаграмма) может быть с натяжкой переведено как «Анемичное кино». В этом фильме Дюшан снял серию вращающихся дисков с текстами и рисованными на них спиралями. При вращении «ротодиски» создавали ощущение объемности («роторельефа»), иронически интерпретируемой как женская грудь. Тексты-каламбуры, написанные на дисках, также имели непристойный подтекст (см. Ситни, 1979:102—105). Тем самым Дюшан высмеивал «анемичную» геометрическую эротику движущегося диска, соединяющего полную стерильность и выхолощенность формы с грубой непристойностью подтекста, упрятанного в анаграммах. При этом языковая программа самого Дюшана была совершенно иной. В отличие от экстравертного творящего порыва у Леже, Дюшан, как показала Аннетт Майклсон, был ориентирован на «аутичное сознание», замкнутое в себе (Майклсон, 1973:69), на язык, как бы обращенный внутрь субъекта. Это сворачивание языка в центростремительной спирали сложно анаграммированных каламбуров делает фильм Дюшана явлением, по своему характеру противоположным «Механическому балету».
Важно отметить еще некоторые довольно неожиданные трансформации «космогонического мифа», интертекстуально перекликающиеся с фильмом Леже.
252
Сандрар включает в миф два взаимосвязанных мотива: описание пространства творения как гигантской кухни и эротизацию бытового предметного мира. Неожиданное включение в миф образа кухни, по-видимому, мотивировалось прежде всего мифологемой яйца, от которой и стал развертываться «сюжет» творения мира как кулинарного эксперимента. В «Мораважине» эта метафора выведена на поверхность: «Колыбель сегодняшних людей находится в Центральной Америке. Кухонная кладовая, горы ракушек в Калифорнийском заливе, груды раковин, усеивающих все побережье Атлантики. <...>. Эти огромные массы осколков, ракушек, рыбьих костей, костяков птиц и млекопитающих, высокие, как горы, доказывают, что многочисленные группы людей жили здесь очень рано...» (Сандрар, 1956:172). Связь между кухонной утварью и рождением вводит в мир Сандрара странный мотив эротического отношения к хозяйственному предмету, мотив, получающий дополнительное истолкование еще из одного интертекста. Мы имеем в виду творчество Реми де Гурмона, которым Сандрар фанатически увлекался, и о котором писал в 1948 году: «.. .в течение сорока лет я, кажется, не опубликовал ни одной книги или текста, где бы не фигурировало его имя, где бы я так или иначе не процитировал его. Это свидетельствует о том влиянии, какое оказал на меня мэтр, выбранный мною в двадцатилетнем возрасте» (Сандрар, 1964:349).
В 1900 году де Гурмон публикует сборник эссе «Культура идей», где содержится ключевой текст его эстетики – «Диссоциация идей». Согласно де Гурмону, в культуре идеи не циркулируют в чистом виде, они слеплены в некие ассоциативные агрегаты, которые необходимо расщепить, подвергнуть критике, чтобы обрести «чистую идею», но, правда, и она в свою очередь почти мгновенно находит иную ассоциативную пару: «Подобные атомам Эпикура, идеи сцепляются
253
как им заблагорассудится, в результате случайных встреч, столкновений и несчастных случаев» (де Гурмон, 1983:114). К числу таких требующих диссоциации идейных агрегатов де Гурмон относит идеи искусства и женской красоты. Эссеист горячо доказывает, что женщина как физический объект лишена гармонии и утверждает: «идея красоты не является чистой идеей; она тесно связана с идеей плотского удовольствия» (де Гурмон, 1983:110). Женщина предстает воплощением гармонии и знаком красоты, так как ассоциируется с сексуальным удовольствием. Следовательно, для выявления чистой идеи искусства следует диссоциировать сексуальность и идею красоты.
Этому проекту де Гурмон посвящает целую книгу «Физика любви» (1903), где осуществляет диссоциацию с помощью двух параллельных стратегий. С одной стороны, он помещает человека внутрь фауны и рассматривает его сексуальные функции среди аналогичных функций всевозможных животных, демонстрируя при этом «убожество» сексуальных проявлений человека на фоне всего разнообразия форм совокупления иных видов. С другой стороны, он анализирует любовь как проявление механики, зафиксированной в инстинкте. Здесь он вновь возвращается к проблеме женской красоты, интерпретируя ее исключительно в категориях геометрии и физической предметности: «Превосходство женской красоты реально; у него есть одна причина – единство линии. Женщина более красива потому, что не видны ее половые органы. <...>. Гармония женского тела, таким образом, геометрически более совершенна, особенно если рассматривать самца и самку в момент желания, в момент, когда они выражают жизнь наиболее полно и наиболее естественно. В этот момент женщина сохраняет все свое эстетическое значение, так как все ее движения более внутренни или обнаруживаются лишь в покачивании кривых...» (де Гурмон, 1903:69).
254
Сандрар прекрасно знал «Физику любви» де Гурмона, читал ее вслух своей возлюбленной, которую водил в зоопарк, чтобы продемонстрировать ей анатомические уроки своего мэтра (Сандрар, 1964:356—358). Гурмоновская диссоциация идей лежала в русле установок Сандрара на фрагментацию мира и перекомбинирование его элементов с целью построения нового языка. Она могла обеспечить программу этого построения сквозь изощренную эротическую метафорику, где эротика диссоциировалась от женской красоты и переносилась на предметы «геометрически более совершенные» – металлические диски, барабаны, кастрюли и сковородки.
Такая диссоциация в рамках новой языковой программы последовательно проводится в «сумме» сандраровской мифологии – «Мораважине»: «Именно тогда я воспылал пламенной страстью к предметам, неодушевленным вещам. <...>. Вскоре яйцо, труба печки начали возбуждать меня сексуально. <...>. Швейная машина была подобна плану, поперечному разрезу куртизанки, механической демонстрации мощи танцовщицы из мюзик-холла. Я хотел бы расщепить, как губы, ароматный кварц и испить последнюю каплю первородного меда, помещенного в эти стекловидные молекулы жизнью начал, испить эту движущуюся туда-сюда, подобно глазу, каплю. <...>. Жестяная коробка была аннотированным содержанием женщины.
Самые простые фигуры – круг, квадрат и их проекции в пространстве: куб, сфера – волновали меня, говорили моим чувствам подобно грубым символам, красным и синим лингам (линга – фаллический ритуальный символ культа Шивы. – М. Я.) темных, варварских, ритуальных оргий.
Все становилось для меня ритмом, неизведанной жизнью. <...>. Я исполнял зулусские танцы» (Сандрар, 1956:50—52). И, наконец, герой обращается к своей
255

Ф. Леже. «Лежащая женщина», 1913.
Эта картина очень близка «Контрасту форм».
И та и другая имеют сходный эротический подтекст
256
возлюбленной: «Ты прекрасна, как печная труба, гладкая, закругленная, согнутая. Твое тело, как яйцо на берегу моря» (Сандрар, 1956:52).
Цитированный выше экстравагантный фрагмент представляет значительный интерес еще и потому, что именно в нем на наиболее широком материале проведено изложение почти всей парадигмы метамифа Сандрара. Здесь с помощью большого набора метафорических субститутов фиксируется один и тот же сюжет – нарастание энергии творения и создание мира. Интересно, что в данном эпизоде, мотивированном психической болезнью героя, перед нами проходит набор разнородных, но, как было показано выше, взаимосвязанных мотивов: яйцо, кухонная утварь, танцовщица и механический танец, африканский танец, ритуальная оргия, эротизированные геометрические фигуры, органическая жизнь аморфной первоматерии, сексуальное влечение. Этот набор «первоэлементов» – почти полный инвентарь тех мотивов, которые мы обнаруживаем в лихорадочном движении «Механического балета».
Для живописи Леже начала двадцатых годов также характерны уравнивание человека и предмета, их взаимозаменяемость. Типично также и нарастание бытовых мотивов в его картинах, активное проникновение в полотна кухонных аксессуаров: «Маленький завтрак» (1921), «Большой завтрак» (1921), «Мать и дитя» (1922), «Сифон» (1924) и т. д. Правда, в холстах они, пластически уравнявшись с людьми, не имеют характера взаимных мифологических эквивалентов. Для Сандрара же кино как мир космогенного хаоса позволяет осуществить огромную серию трансформаций, подстановок-замещений. Фильм понимается как универсум всеобщей семантической эквивалентности, бесконечной доязыковой сериальности мироздания. В «Азбуке кино» (1921) Сандрар пишет: «Животные, растения, минералы являются идеями, чувствами,
257
цифрами» (Сандрар, 1988:39) (ср. с движущимися цифрами в «Механическом балете»13). Все оказывается означающим всего. Статичные языковые структуры в кинематографе расшатываются. В позднем, посвященном кино тексте «Помпон» (1957) Сандрар так отвечает на вопрос «что такое кино?»: «Ты, ты сам, анонимный, такой, каким ты являешься для самого себя, живой, мертвый, мертвый-живой, шиповник, ангелоподобный, гермафродит, человечный, слишком человечный, животное, минеральный, растительный, химия, редкая бабочка, остаток в тигле, корень вольтовой дуги, секунда в глубине пропасти, два плавника, вытяжная труба, механический и духовный, набитый шестеренками и молитвами, аэробный, термогенный, знаменитая нога, лев, бог, автомат, эмбрион...» (Сандрар, 1971, т. 15:137). В этом перечне смешаны прилагательные и существительные, явления всех сортов и видов. Наиболее близкий аналог такого определения кино – случайный, «словарный» набор слов, лишенный всякого синтаксиса. Кино оказывается «словарной», раскрепощенной парадигмой, охватывающей весь мир (ср. традиционное сравнение словаря, энциклопедии с мирозданием), сверхъинтертекстом.
Парадигма «Помпона» является как бы логическим пределом, до которого можно довести уравнение кинематографа с универсумом как «гипертекстом». В действительности и Сандрар, и Леже не расширяют до такой степени словарный набор киноязыка, оперируя в основном вышеописанным списком «тождественных» мифологем и ограничивая описание мира темой его генезиса (и генезиса языка) и мотивом космического путешествия, которое понимается как метонимия универсального охвата космоса.
Этот сюжет тесно связан с темой «конца света». Он присутствует в виде путешествия на Марс в упоминавшемся нами сценарии. Он также включен в «Мораважин», где герой романа пишет огромный текст «Конец
258
мира», сочиняя его «по кинематографической программе, во время своего таинственного пребывания на планете Марс» (Сандрар, 1956:269). Для перевода сценария с марсианского Мораважин составляет словарь двухсот тысяч основных значений единственного марсианского слова, а киносценарий оказывается написан языком, выражающим бесконечное разнообразие одного и того же. Это и есть тот словарный феномен всеобщей семантической эквивалентности, о котором мы говорили выше. И далее Реймон ля Сьянс, герой «Мораважина» и переводчик сценария, пишет: «Этот словарь позволил мне перевести, а вернее адаптировать марсианский сценарий. Я поручил Блезу Сандрару обеспечить его публикацию, а может быть также и кинопостановку» (Сандрар, 1956:269). Как известно, Сандрар отчасти выполнил поручение собственного персонажа.
Но наиболее последовательно тема космического путешествия была проведена в произведении Сандрара «Эбаж» (1917). Этот текст был написан поэтом по заказу известного мецената Жака Дусе и посвящен Дусе и Конраду Морикану – другу Сандрара, известному в 1910—30 годы астрологу и мистику. Есть основания полагать, что именно Морикан привлек внимание поэта к мистике звезд. Влияние Морикана отчетливо ощущается и в иных произведениях Сандрара, а также ряда других литераторов того времени, в частности, Генри Миллера14.
Слово «эбаж» обозначает галльского священника, занимающегося астрологией и гаданиями. Текст описывает космическое путешествие, проникновение в область созвездий гороскопа, движение по млечному пути и т. д. Этот пронизанный астрологической символикой текст, возможно, является наиболее близким интертекстом «Механического балета». Здесь метафора космогонии как становления нового языка выражается наиболее отчетливо и в образах максимально
259
близких фильму Леже. В третьей главе «Музыкальные инструменты» (имеется в виду «музыка сфер», космоса) после картины первозданного космического хаоса Сандрар следующим образом описывает «рождение языка»: «Элементарные формы становятся отчетливей: квадрат, овал, круг. Все это поднимается на поверхность и лопается, подобно пузырям. Теперь все трепещет, бьет плавниками; квадрат вытягивается, овал вылущивается, круг становится звездообразным; рты, губы, глотки; все бросается в пустоту с диким криком; все сбегается со всех сторон, группируется, собирается в массу, вытягивается в виде бессмысленного языка мастодонта. Этот язык подпрыгивает, работает, делает неслыханные усилия, лепечет, говорит. Он говорит» (Сандрар, 1969, т. 2:43).
Шестая глава посвящена путешествию внутри глаза, где обыгрывается метафорическая цепочка: планета—глаз—кинообъектив. Седьмая глава содержит кинематографические ассоциации, зашифрованные в самом ее названии «О родах цветов» («De la parturition des couleurs), по-французски звучащем как анафон названия текста о воображаемом фильме Сюрважа «О цветовой партитуре» («De la partition des couleurs»). При этом данная глава содержит буквальные текстовые совпадения с описанием воображаемого фильма: «Мое зрение утоплено в вихре. Коричневато-красный постепенно захватывает весь экран (выделено мною. – М. Я.) и заполняет его. Темно-красный <...>, собранный из чешуек, помещенных одна возле другой. Каждая из чешуек увенчана прыщиком, который дрожит и лопается, как остывающая лава...» (Сандрар, 1969, т.2:56). Здесь повторено и совокупление эмбрионов, и рост ветвей. Тут так же взрывается желток и растет диск. Однако конец этой космогонической эпопеи иной: «Все вокруг меня твердеет. <...>. Бытовые формы развиваются одна из другой, привычные и
260
полезные» (Сандрар, 1969, т.2:57). Как видим, миф о становлении космоса опять сливается с бытовыми аксессуарами.
Но наиболее интересна восьмая глава «Эбажа» – «О странном». Это, пожалуй, тот текст Сандрара, который почти буквально описывает образную ткань «Механического балета» как космическое путешествие: «Все трепещет, открывается и закрывается, как жабры. Крошечные ротики. Круглые, луковичные предметы исчезают, приближаются, уходят, являются, растворяются в сверкании. Позолоченные шары поднимаются, опускаются, чертят фигуры. Созерцание? Игра? Расшифровываешь арабески и рисунки. <...>. Все разбивается. Открываются прозрачные кратеры и обнаруживают сияющую кухонную батарею самой великолепной меди. Индеец и синий Негр пляшут вокруг очага и жонглируют большими испанскими луковицами. Страусиное яйцо спускается вниз по склону. <...>. Ледяные чешуйки разлетаются подобно черепице. Женщина трясет юбками. Крутятся крылья мельницы. <...>. Потом все становится стекловидным, смазанным, лишенным глубины, как невирированная фотография» (Сандрар, 1969, т. 2:59—60).
По замыслу Сандрара, текст «Эбажа» должен был иллюстрироваться различными фотографиями, от астрономических до индустриально-бытовых, что должно было создать особое напряжение между повседневностью и подчеркнутым эзотеризмом текста. Этот замысел, к сожалению, не был осуществлен. Но и в фильме Леже содержится немалая доля игры на оппозиции «космическое—бытовое». Леже вспоминал, например: «Я сфотографировал лакированный ноготь женщины и увеличил его в сто раз. Потом я показал его на экране. Удивленной публике показалось, что она узнает астрономическое фото» (Леже, 1965:164). Идея макрофотографии ногтя как некоего чуда отра-
261
зилась и в живописи Леже, который с 1924 года (картина «Чтение») начинает выписывать ногти на руках своих персонажей. В. Шмаленбах видит в выпячивании этой обыкновенно игнорируемой детали влияние кино (Шмаленбах, 1977:116). При этом взаимосвязь макрофотографии ногтя, кино и астрологии характерна и для Сандрара: «Это кино! <...>, твои руки, потрескавшиеся, как лунные кратеры, с огромной кишкой под ногтем» (Сандрар, 1971, т.15:136). Поэт указывает, что кино так же вскрывает сущность за видимостью, как астрология судьбу – за ходом светил, или хиромантия предначертанное – за «формой ногтей» (Сандрар, 1971, т.15:135). Из этой логической цепочки достаточно изъять середину и мы получаем диковинное равенство: кино=астрология= ногти.
Такие причудливые ассоциативные цепочки вообще характерны как для Леже, так и для Сандрара, с их способностью к мифологизации мира и установлению семантического равенства между элементами предметного космоса. Но сходство этих цепочек явственно демонстрирует интертекстуальную гибридизацию текстов обоих художников, их способность как бы перемещать из одного текста в другой, создавая некое смешанное авторство. В данном случае показательно, что «цитата» с ногтем явно взята у Леже Сандраром, так как появляется в позднем тексте последнего. Сандрар вводит свою причудливую астрологию в контекст творчества Леже, чтобы затем позаимствовать ее у него в качестве цитируемого мотива. Перед нами система сложных перекрестных цитат, практически утрачивающих в этой игре взаимоотражений свое авторство.
Итак, вернемся к фильму Леже, по большей части составленному из коротких фрагментов различных геометрических фигур (круг, треугольник), бытовых предметов (канотье, туфли, клещи, шары), предметов
262
кухонной утвари (кастрюли, бутылки, формы для пирогов) фрагментов человеческого тела (губы, глаза, ноги от манекенов) и т. д. Каждый из этих предметов является фрагментом мира, цитатой из некоего общего лексикона, составляющего определенную парадигму. Каждый из них может быть понят как цитата и соотнесен с определенным текстом того же Сандрара, например, ноги – с ногой из «Сотворения мира». Но такое фрагментарное прочтение ничего не даст для понимания фильма.
Перед нами, по существу, уникальный текст, который должен быть понят как единая целостная гиперцитата, отсылающая к замкнутому корпусу текстов, внеположенных ему и принадлежащих Сандрару. При этом составляющие его мелкие фрагментарные цитаты могут прочитываться как указатели, «гипоцитаты», действующие только в рамках своей парадигмы. Чтобы вычислить интертекст Сандрара, зрителю необходимо составить весь лексикон фильма. Цитатой является весь словарь «Механического балета», т. е., по существу, – язык фильма.
Для этого, во-первых, язык должен предстать в виде текста – и это осуществляется в «Механическом балете», который по сути и есть синтагматическое изложение языковой парадигмы. Во-вторых, сам язык в такой ситуации получает оправдание, нормализацию через внеположенную ему литературную программу. Последняя в свою очередь предстает в наборе разбросанных по разным текстам (Сандрара) фрагментов. Тем самым фильм позволяет объединить целый ряд высказываний Сандрара и придать им характер относительно целостной программы. «Механический балет», таким образом, отвечает за реконструкцию сандраровского «мифа». Миф и язык оказываются в ситуации интертекстуальной дополнительности.
Подключение литературного мифа к фильму Леже не имеет характера прямых заимствований или созна-
263
тельной иллюстрации художником идей Сандрара. Этот процесс представляется нам следующим образом: первоначально Сандрар приписывает кинематографу роль модели в генезисе нового языка, тем самым вынося «матрицу» новой поэтики за пределы литературы, обновлению которой она призвана служить. Одновременно он предпринимает усилия, направленные на создание этой «матрицы» в рамках иных искусств, и прежде всего кино. Его усилия (впрочем, носящие амбивалентный характер) не увенчиваются успехом, но в итоге внутри литературных текстов Сандрара складывается описание нового кино, вырабатывается его миф и создается разветвленный аппарат интерпретации несуществующего фильма. Этот аппарат задействован Сандраром в сфере литературы, для которой он, в сущности, и предназначался. Живописное творчество Леже постоянно оказывается в сфере внимания Сандрара, который описывает его в рамках выработанной им поэтики и проецирует на него свой миф. Таким образом еще до создания фильма живопись Леже включается в сандраровский интертекст со всеми его кинематографическими обертонами. Когда Леже делает «Механический балет», фильм с легкостью вводится в интертекст сандраровского мифа о сотворении/конце света и продуцировании нового языка. Возникает вопрос: до какой степени фильм является логическим продолжением живописи Леже и воспроизведением ее мотивов, а до какой он выходит за пределы живописного корпуса, чтобы обрести интертекст у Сандрара? Иными словами: является ли он текстом, который может быть удовлетворительно проинтерпретирован без выхода за пределы творчества Леже? Вопрос этот не имеет однозначного ответа, так как и предшествующая живопись Леже уже подверглась силовой интерпретации со стороны Сандрара и оказалась эффективно им интертексту ализирована .
264
Можно даже утверждать, что Сандрар не только вложил в картины Леже новый смысл, но в какой-то степени отнял их у самого художника, включив в собственный, сконструированный им контекст. Ситуация усложняется еще и тем, что и после создания фильма Леже выполнил несколько картин, в которых воспроизвел мотивы своего кино. Это, например, «В честь танца» (1925), где на фоне концентрических кругов изображены две механические ноги, явно восходящие к ногам манекенов из фильма. Это и «Композиция с четырьмя шляпами» (1927), где в центре изображено лицо с родинкой на щеке, а по краям – канотье, ложки, бутылки. Со стороны нижнего обреза картины изображена рука, держащая серый котелок. К. Деруе называет эту картину «тщательно сделанным ребусом». В большом лице он видит Кики – модель фильма Леже, а в котелке – котелок Чарли (или Леонса Розенберга, – осторожно замечает исследователь) (Деруе, 1989:132—138). Мы видим, что фильм начинает подчинять себе интерпретацию живописи. Кино оказывается для живописи «сильным» интертекстом. Это связано с тем, что оно обладает более полным набором признаков текста (более легкой членимостью на фрагменты, протяженностью во времени, началом и концом). Именно введение кинематографического интертекста и позволяет Деруе осуществлять свои более чем произвольные интерпретации, такие, например, как поиск конкретного обладателя котелка – если не Чаплина, то Розенберга, с которым Леже в августе 1924 года ездил в Равенну.
Если «Механический балет» оказывается достаточно «сильным» интертекстом для некоторых картин Леже, то и воображаемый кинематограф Сандрара обладает не меньшей объяснительной энергией. Ведь он связан с куда более развернутой программой, чем любой текст самого Леже. Именно таким образом сандраровский интертекст мог включиться в фильм
265
Леже (возможно, даже на этапе его создания). Как бы то ни было, этот интертекст освобождает фильм от любой наррации, позволяя ему ограничиться лишь изложением первоэлементов языка, который с его помощью отсылает к системе и приобретает смысл через внеположенные фильму литературные источники. Огрубляя, можно сказать, что Сандрар придумал кино, чтобы его собственная литература могла на нем «паразитировать», черпать в нем новый язык. Леже сделал кино, которое могло «паразитировать» на сандраровской литературе, он воплотил на экране речь чей бессвязный, по видимости, лепет повествовал о полном драматизма мифе, заключенном в книгах его друга.
Глава 5. Интертекст против интертекста («Андалузский пес» Бунюэля—Дали)
Кино служило литературной моделью не только для Сандрара, но и для других писателей-авангардистов. Оно позволяло фиктивно выйти за рамки литературы, подвергнуть ее радикальному обновлению. Воображаемое кино авангардистов в силу этого часто вовсе не было предназначено для постановок, сохраняя все свое значение именно как литературный факт. Именно этим объясняется, на наш взгляд, значительная диспропорция между количеством задуманных и поставленных сюрреалистами фильмов. До нас дошло множество сюрреалистических сценариев. Перечислим самые существенные: «Кинематографические поэмы» и «Украденное сердце» Ф. Супо; «Раковина и священник», «Восемнадцать секунд», «Бунт мясника» и др. А. Арто; «Полночь в два часа», «Тайны метрополитена», «В свином жаркое есть клопы» и многие другие Р. Десноса; «Зрелые веки», «Перекладина», «Мта-
266
зипой» Б. Фондана; «Пюльшери хочет машину» Б. Пере; «Восьмой день недели» Ж. Рибмон-Десеня; «Жемчужина» Ж. Юнье, «Закон аккомодации у кривых «Сурсум корда»» Ф. Пикабиа и др. Из них были поставлены лишь «Раковина и священник» (реж. Ж. Дюлак, 1927), отвергнутый сценаристом (Арто), и «Жемчужина» Юнье (реж. А. д'Юрсель, 1928—1929). Пантеон сюрреалистических фильмов крайне мал. К указанным можно добавить «Андалузского пса» (1928) и «Золотой век» (1930) Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали и, возможно, «Морскую звезду» (1928) Мана Рея и Робера Десноса.