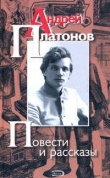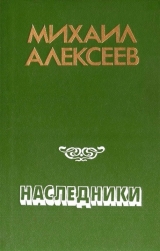
Текст книги "Наследники"
Автор книги: Михаил Алексеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Яблонька
«Совершенно неожиданно заявился Коля Соколов. Две ночи были «убиты» начисто: припомнили весь путь, пройденный вместе. И вот что странно: о чем бы ни говорили, обязательно вспоминали свою яблоньку, нашу родную Зерновушку. Как-то она там? Может быть, стоит на прежнем месте. Вот бы глянуть!
Вена, Фляйшмаркт,
январь, 1946 г.»
Я уже сказал, что в каждом солдате живет властное и нетерпеливое желание вновь побывать в тех местах, по которым провела его когда-то война. Не только живет – фронтовик неколебимо уверен, что однажды он плюнет на все, пускай даже самые неотложные дела, и отправится наконец в долгий путь. Ничего, что его будут отговаривать от этого путешествия жена, дети, незаметно ставшие взрослыми, благоразумные сослуживцы и друзья; ничего, что будут пугать превратностями дорожной судьбы, – он никого не послушает, он непременно отправится!
Так думают все ветераны. И все-таки подавляющее большинство из них не исполнили этой, казалось бы, железной внутренней установки, твердя в горькое свое утешение: «Обстоятельства сильнее нас…»
Но я собрался. Я еду, радуясь и гордясь собственной решительностью и, конечно, волнуясь.
Я ехал на свидание с Зерновушкой, скромной и неказистой яблонькой-дичком, притулившейся на склоне одной безвестной балочки, каких в приволжских степях превеликое множество. Как глубокие морщины, избороздили они лик этой древней, много повидавшей, много пережившей и успевшей о многом подумать земли. Разумеется, такой образ мог прийти лишь теперь, когда я спокойно сижу в купе комфортабельного вагона и могу без помех размышлять, фантазировать.
В ту пору нам было не до фантазий. Немцы прижали нас к самой Волге и не оставляли решительно никаких сомнений относительно конечной своей цели. Каждая листовка – а они сыпались с неба белыми снежными хлопьями, – хоть и безграмотными, но весьма многозначительными обещаниями говорила: «Рус, завтра – буль, буль!» Все, стало быть, ясно и понятно. Непонятным было лишь одно: почему мы, три старших лейтенанта, избрали для своего совместного блиндажа ту безвестную балочку, которая была перпендикулярна линии переднего края и простреливалась противником насквозь? Не привлекла ли нас яблонька, устлавшая к тому времени горькую землю великим числом таких же горьких, зеленых, усыпанных золотистыми веснушками плодов? Утолив ими одновременно и жажду и голод, мы – не в знак ли благодарности? – вырыли за яблоней небольшую квадратной формы яму, сделали перекрытие, назвали эту погребушку блиндажом и стали в нем жить.
Одного моего товарища звали Николаем Соколовым, другого – Василием Зебницким. Наши подразделения располагались по соседству: минометная, пулеметная и стрелковая роты; так что незачем было рыть отдельные блиндажи, вместе-то повеселее малость, к тому ж – яблонька, так-то прикипела она к сердцу каждого. После очередного боя, злые, подавленные страшными потерями (они были на ту пору безмерно велики), возвращались мы под вечер в нашу нору. Яблоня протягивала навстречу свои изломанные ветви, которых день ото дня становилось на ней все меньше и меньше. Мы собирали сшибленные сучья, топили ими свою «буржуйку»; сучья разгорались не вдруг, долго шипели, из них красной живой кровью струился сок, распространяя по блиндажу горьковато-кислый, терпкий запах.
Всю ночь немцы вели в нашу сторону беглый, бесприцельный огонь. Наша яблонька стояла на взгорке, и бедняжке попадало больше всех. Разрывные пули «дум-дум», осколки мин и снарядов искромсали, искалечили ее до неузнаваемости. Однако на искромсанных ветвях еще цепко держались кое-где яблоки. Солдаты, да и мы вместе с ними, сшибали их и лакомились в редкие и отраднейшие минуты затишья. Правда, теперь раскусывали яблоко осторожно, потому что нередко на зуб попадал крохотный острый осколок.
Три месяца без малого прожили мы в том блиндаже, обстреливаемые и днем и ночью. Вероятно, мы могли бы найти более укромное, более безопасное место для своего блиндажа, и все-таки не делали этого. Нам казалось, что яблонька, которая первой принимает на себя вражеские пули и осколки, надежно защищает нас: неспроста же все мы были покамест целыми и невредимыми.
В конце ноября 1942 года мы расстались с нашей яблоней: войска перешли в наступление. Впрочем, то была уже не яблоня, а жалкое ее подобие, огрызок, знобко вздрагивающий и стенающий на остуженном ветру. Не помню подробностей прощания. Помню только, что в кармане Василия Зебницкого, самого чувствительного из нас, много дней спустя мы обнаружили яблоко – с нее, с нашей Зерновушки, как прозвали мы свою безмолвную и безропотную защитницу.
И вот теперь, спустя двадцать с лишним лет, я ехал на свидание именно с ней, нашей Зерновушкой. У меня не было уверенности, что увижу ее на том месте. И все-таки, выйдя к берегу Волги у подножия балки Купоросная, я стал быстро подниматься по ней вверх. Справа и слева ее обступали дома, высокие, нарядные, которых, разумеется, раньше не было. Все это радовало глаз и душу. И вместе с тем было отчего-то немного грустно. Отчего же?
Не оттого ли, что все меньше и меньше оставалось надежды на встречу с моей яблонькой? Новая жизнь бушевала вокруг, стирая беспощадно следы минувшего. Где же тут уцелеть Зерновушке? А может, она умерла тогда же, двадцать лет назад, и теперь на том месте выросло новое селение?
Я, однако, упрямо шел.
Вот одна, другая дочерние балочки сбежали в балку Купоросная. Я ждал пятую по счету. Там, наверху, у ее истоков, и стояла наша Зерновушка, там и был наш КП, наша нора. Дома остановились у третьей поперечной балочки. Дальше пошел пустырь. И вот она – пятая. С бьющимся сердцем подымаюсь выше, выше. Стоит!
Да, да, стоит на том самом месте. И в отличие от меня, кажется, нисколько не постарела. Сучья новые, молодые, просторно разбросаны в разные стороны. Только внизу, у самого комля, чуть видны были ее зарубцевавшиеся раны, тугими узлами вспухли они на грубой коре.
Жива, милая!
Быстро разгребаю снег в небольшой яме под деревом – это все, что осталось от нашего блиндажа. И на дне этой ямы обнаруживаю что-то круглое, холодное.
Яблоки!
Зубы ломит – студеные, жесткие. И вместе с тем упоительно сладкие. Я собрал их, набил ими карманы, снял шапку и в нее насыпал. И с этим-то драгоценным грузом – уже не по балке, а прямо степью, через гору – медленно пошел к Волге.
Далеко внизу, вытянувшись вдоль великой реки чуть ли не на сотню километров, виднелся город, прекраснее которого нет на всем белом свете.
В добрый путь, Илонка!
«Советский парламентер, мадьярская девочка Илонка и бабушка Эржебет. Трогательная история!
Декабрь, 1956 г.»
На северо-восточной окраине Будапешта, у перекрестка трех дорог, стоит небольшой памятник – бронзовая статуя советского офицера, держащего в поднятой руке флаг. Нельзя было понять, какого он цвета. Но если бы ваятелю пришло в голову сделать цветную скульптуру, флаг оказался бы не красным, к которому мы все так привыкли и с которым давно породнилось наше сердце, а белым. Офицер был советским парламентером, а парламентеру полагается идти в неприятельский стан с белым флагом.
И он шел, этот советский юноша-офицер. Шел в направлении немецкого переднего края, высоко и гордо подняв голову. Там, за передним краем, в синей дымке утра проступали очертания огромного древнего города, в котором, оцепенев, жались по подвалам, по бункерам миллионы мирных жителей. Нужно было спасти их от гибели. Нужно было сберечь памятники вековой культуры, сохранить бесценные сокровища, накопленные городом на протяжении столетий. Вот для чего рукам, привыкшим сжимать древко с алым стягом, пришлось взять белый флаг.
Что еще может быть гуманнее этого?!
Однако гуманизм и фашизм – понятия, исключающие одно другое.
Гитлеровцы встретили советского парламентера пулеметным огнем, Так, под стенами Будапешта, у самого порога великой победы, оборвалась еще одна и без того короткая жизнь.
…Я смотрю на снимок. Он сделан в момент открытия памятника советскому парламентеру. На нем изображены венгерские крестьяне, пришедшие почтить память советского воина. Для этого многим из них пришлось пройти десятки километров. А бабушка Эржебет прошла со своей внучкой Илонкой ни мало ни много сто верст.
– Почему же бабушка Эржебет не воспользовалась транспортом? – помнится, спросил я «толмача», веселого паренька в шляпе, в непостижимо короткий срок научившегося бойко говорить по-русски.
– К святым местам люди ходят только пешком, – твердо и даже немного сердито ответила старая Эржебет.
Все вокруг заулыбались, заговорили, но тут же смолкли под строгим и укоряющим взглядом пожилой крестьянки. У бабушки Эржебет, оказывается, были веские основания называть памятник советскому воину святым…
В январе 1945 года, когда война докатилась до их небольшого селения, старая Эржебет взяла семилетнюю Илонку за руку и повела в бункер с твердым намерением: пока идут здесь боевые действия, пересидеть в безопасном месте. Честно говоря, она, как и большинство ее односельчан, побаивалась русских: уж больно страшные вещи говорили о них по радио.
Советские войска ворвались в село ночью.
Бабушка Эржебет не сомкнула глаз. Все прислушивалась к тому, что творилось там, наверху.
А наверху шла пулеметная и автоматная стрельба. Изредка до уха Эржебет докатывалось глухое и непонятное «ура», прерываемое пулеметной очередью или разрывом снаряда. Бабушка укрывала Илонку поплотнее, чтобы та не могла слышать стрельбы: пусть война пройдет мимо ее детского сердца. Так будет лучше.
Утром над селом появились немецкие самолеты. Эржебет поняла это по надрывному, прерывающемуся стону моторов. А уже через минуту земля заходила ходуном: где-то совсем близко стали рваться бомбы.
Илонка проснулась и заплакала. Бабушка инстинктивно прикрыла ее своим телом. Страшный удар обрушился на бункер, потолок рухнул, посыпалась земля, камни, бревно больно надавило на спину. Эржебет попыталась высвободиться, но с ужасом обнаружила, что не может этого сделать, что она заживо погребена вместе с внучкой.
Не то от ушибов, не то от страха бабушка Эржебет потеряла сознание и уже не слышала плача Илонки. Очнулась Эржебет от ослепительно яркого света, хлынувшего в бункер. Кто-то снял с ее спины бревно. Она обернулась и первое, что увидела, – рафинадно-белые зубы улыбающегося русского солдата.
– Жива, бабуся? – спрашивал он ее, наклоняясь, чтобы помочь ей и внучке выйти из бункера.
И как это часто бывает с людьми в минуту смертельной опасности, бабушка Эржебет не сразу поняла, что этому улыбающемуся, добродушному человеку она и ее внучка обязаны своей жизнью, что он спас их. Сознание всего этого пришло потом, а вместе с ним пришла и любовь, которую уж никому и никогда не удастся погасить в сердце крестьянки.
Воин, спасший жизнь Эржебет и Илонки, был вовсе не солдат, а офицер. Веселый, добрый, маленького роста, и Илонка, которая с того дня крепко привязалась к нему, звала его по-своему: «Кичи капитан», то есть «маленький капитан». Фронт на две недели задержался недалеко от села, и капитан Песков часто наведывался к бабушке Эржебет и Илонке. Завидя его, Илонка радостно взвизгивала:
– Кичи капитан!
И, подпрыгнув, повисала на его шее.
– Здравствуй, Илонка!
– Зыдырастуэй, кичи капитан!
А Эржебет, подперев голову ладонью, любовалась ими издали, время от времени смахивая со щеки непрошенную слезу.
Так вот и крепла эта дружба.
А потом пришла недобрая весть: капитан Песков погиб.
Горько плакала Илонка, опечалилась бабушка Эржебет.
А когда год спустя они прослышали, что в предместье Будапешта состоится открытие памятника советскому парламентеру, решили отправиться туда пешком. Бабушка почему-то была уверена, что этим парламентером непременно окажется их «кичи капитан».
Так я познакомился с бабушкой Эржебет и ее внучкой Илонкой, от которых узнал много подробностей о жизни и боевых делах незнакомого мне капитана, о его смерти.
* * *
Вот смотрю я на этот снимок и думаю: где теперь бабушка Эржебет, жива ли? Ведь уже много лет прошло с той поры, как мы с ней познакомились. Где Илонка?.. Сейчас ей девятнадцать лет, а тогда было семь. Помнишь ли ты, Илонка, своего «кичи капитана»? Помнишь ли его сильные теплые руки, вызволившие тебя из темного подземелья, те самые руки, которые потом так часто гладили твою белокурую головку?.. Неужели забыла?..
Конечно, не забыла, не должна забыть!
Друзья познаются в беде, Илонка.
Советский человек дважды вызволял твою маленькую, но прекрасную родину из беды.
Разве найдется в мире такая сила, которая заставит тебя забыть об этом?!
В добрый путь, Илонка! Пусть твой локоть всегда чувствует локоть настоящего друга. А ты лучше других знаешь, кто в тяжкую минуту пришел к тебе на помощь.
Парень с Красной Пресни
«Ехал в трамвае. Красная Пресня. Старик, рассказывающий внуку о баррикадах. Я же вспомнил об Алеше Грунине. Надо бы написать о нем.
17 декабря, 1959 г.»
1
Трамвай номер шестнадцать медленно пробирался по улицам Красной Пресни, подолгу простаивая у светофоров. Вагон был переполнен. Людской прилив в него явно преобладал над отливом, как всегда в часы «пик». Чаще и громче обычного звучал голос неутомимого кондуктора:
– Граждане, проходите вперед. Там свободно!
Но граждане не спешили проходить. Особенно много их скопилось в середине вагона. И сначала было непонятно, отчего же пассажиры, которым заслонили выход к передней двери, не выражали своего недовольства, не спрашивали строго и беспокойно: «Вы на следующей выходите?» Думается, многие даже вовсе забыли, что их остановка давно уже позади и что им придется возвращаться на другом трамвае.
Что же случилось?
Вслушиваюсь в сдерживаемый гул, сквозь который прорываются, перебивая друг друга, два голоса: первый – густой, малость надтреснутый; второй – звонкий, задиристый, чуть самодовольный:
– …Ишь ты какой! Это хорошо, что ты в книжке про все это читаешь. А вот показать те самые места не можешь…
– А вот и могу! Да ты и сам мне, дедуня, показывал, помнишь? Мы же с тобой всю Красную Пресню тогда исходили. Помнишь? Да во-он, видишь, домик… старый-престарый. Там еще баррикады были. И ты туда стулья из нашего дома таскал. Бабуня говорила, хорошие стулья, венские…
– Какие там венские! Старье одно… Да не в том суть! Все тогда таскали – кто стулья, кто столы, кто что… Кум Иван, помнится, шкаф приволок, откуда только сила взялась!.. – Старик закашлялся от смеха. Потом резко оборвал смех, помолчал немного и начал, заметно волнуясь: – Сколько мы этих юнкеров уложили тогда, не сосчитать. Да и нашему брату, рабочему, досталось… Вот она, Красная наша Пресня, обновилась. Площадь-то сейчас цветами да разными травами нарядными засеяна. А в ту пору нашей кровью разукрасилась. Ведь тут, внучок, штабелями были навалены трупы рабочих. Кума Ивана тоже Агафья Тихоновна тут отыскала. Ох же и реву бабьего было – до сих пор в ушах стоит. Нас-то, захваченных живьем, в манеже заперли и держали там… – Старик снова умолк, потом оживился, взглянул в окно, весь как-то просиял и закончил: – Только не пропала рабочая кровь даром: научились на горьком опыте, как нужно с царем разговор иметь. В семнадцатом мы ему все припомнили: и Красную Пресню, и все!.. Царь и вся его проклятая фамилия давно в уральской земле сгнили. А я вот живой. И вся власть моя! – Старик вытянул крупные свои, все в узлах, руки, как бы показывая, что из этих крепких рук нелегко отнять власть.
Трамвай двигался дальше. Слева медленно проплыли величественные линии высотного дома на площади Восстания, впереди показалась станция метро «Краснопресненская». Пассажиры нехотя уходили от того места, где сидели старый рабочий и его внук – законный наследник великих завоеваний своего деда. И этот маленький эпизод в трамвае показался мне исполненным глубочайшего смысла. В памяти моей тотчас же всплыла история одного юноши-фронтовика, моего однополчанина. Мне хотелось протиснуться к старику и рассказать ему о своем однополчанине, почему-то казалось, что старый рабочий должен знать его – ведь тот паренек тоже был с Красной Пресни. Но я не успел этого сделать: старик с внуком вышли из трамвая…
2
Известно, что и хорошие люди неодинаковы. Иного определишь, что называется, с первого взгляда: весь он светится, словно бы внутри такого человека горит яркая лампочка и мягкий свет ее струится через широко открытые, откровенно добрые глаза. Эти глаза всегда смотрят прямо перед собой, потому что им незачем прятаться от людей…
Вот таким и остался навсегда в моей памяти Алеша Грунин, парторг нашей роты, или, как мы все его звали, «парень с Красной Пресни».
Парторгом Алеша, разумеется, стал не сразу. Этому предшествовало немало событий в его жизни, событий таких, о которых невозможно поведать в коротеньком рассказе. Первое свое боевое крещение Алеша Грунин получил в донских степях памятным летом 1942 года. И когда его спрашивали, как это случилось, Грунин улыбался, смотрел сначала на командира первого расчета сержанта Улыбина, потом на меня и говорил смущенно:
– Какой же это бой?.. Разве это можно назвать боем?..
– А сказывают, ты из миномета самолет тогда сковырнул? – подзуживали его ребята. – Поделись своим опытом, Алеша!
– Сказки сказывают, – сердился Грунин. – А сказки только для детей дошкольного возраста годятся, они не для солдата.
– Вот это ты уж зря! Я бы, например, хорошую сказку и сейчас послушал!
– Так ты обратись к Улыбину. Это по его части, – советовал Алеша. – Он, говорят, учителем в школе работал.
Я видел, что Алеше Грунину изо всех сил хочется перевести разговор на другую тему, и понимал почему. Рядом с ним, по правую руку, сидел отличный сержант Улыбин, лучший друг Алеши Грунина. Расскажи Алеша всю правду о первом боевом крещении, выявились бы кое-какие подробности, не совсем лестные для Улыбина. А ведь кто старое помянет, тому глаз вон. И Алеша молчал.
…Дивизия по приказу командующего отходила от Дона в сторону Волги. Горькое то было время. Степь, подожженная со всех сторон, чадила в небо удушливой гарью. Жара стояла невыносимая. Над головой – неумолчный постылый вой чужих моторов.
Ночного форсированного марша оказалось недостаточно, чтобы достичь назначенного пункта. Колонны продолжали продвигаться днем, сопровождаемые неуклюжими немецкими «рамами», все время висевшими над ними. Только двинешься вперед, чей-то истошный голос: «Воздух!» Врассыпную бежим в бурьян и лежим там вниз лицом, задыхаясь полынной горечью. По спине гуляют мурашки от грохота рвущихся где-то совсем рядом вражеских бомб и от шепелявой болтовни осколков, шарящих в бурьяне. Продолжается это всякий раз минут пять, самое большое десять, но не этим ли десяти минутам многие двадцатилетние обязаны первой изморозью на своих висках?
Грунин и Улыбин были тогда в одном расчете. Как только на горизонте появились «юнкерсы», друзья схватили из повозки свой миномет и побежали в бурьян. И вот тут-то между ними произошла первая и последняя стычка.
– Знаешь что, Иван, мне… понимаешь, мне надоело все это!.. К черту! – задыхаясь от ярости, почти в самое ухо Улыбину вдруг закричал Алеша. – Давай стрелять!
– Да ты с ума сошел! – встревожился Улыбин. – Из чего ты в них будешь стрелять?.. Из миномета, что ли?
– Из миномета! Из чего угодно, но лишь бы стрелять! – Грунин с силой рванул из рук товарища миномет, врезал в сухую землю двуногу-лафет. – Подавай мины, слышишь?! – Затем, быстро убедившись в нелепости этого предприятия, швырнул миномет в сторону, выхватил из-за плеча карабин, лег на спину и стал целиться в первый «юнкерс», который уже опрокинулся на одно крыло, чтобы низвергнуться в пике. Выстрелил раз, другой. И только потом услышал умоляющий голос Улыбина:
– Алеша, дорогой, не надо! Ведь не собьешь, а только выдашь нас… Заметят!
И вся боль, которая скопилась в груди Алексея за эти горькие дни отступления, вдруг выплеснулась на оробевшего товарища:
– 3-з-замолчи!.. – В светлых, до этого всегда ясных и добрых глазах Алексея сейчас отразилась такая мука, что Улыбину стало жутко. Он забыл и про самолеты, и про свой собственный страх, и даже про боль в плече – крохотный осколок бомбы приласкался-таки к солдату. Улыбин кинулся к другу, обнял его, лихорадочно твердя:
– Алеша! Алеша!..
– Ах, отстань ты! Не до тебя!
А спустя много дней, когда они, накрывшись одной плащ-палаткой, курили в своем окопе, Улыбин сказал:
– Лучше бы ты, Алексей, прикончил меня тогда. Ведь ты никогда не забудешь про мою трусость там, в бурьянах… А это, знаешь, невыносимо тяжело…
– Дурак ты, Иван. Больше ничего. Ты до того раза был в бою? Нет. То-то, брат, и оно.
– Но ведь и ты не был.
– Сейчас не обо мне речь, – перебил Грунин. – Вот послушай, что я тебе скажу. Если бы я не верил в тебя, может, и того… расстались бы мы с тобой. А я верил. И что же? Разве я не прав? Чей расчет вчера больше всего фашистов уложил? Наш, первый. А кто наводил миномет в цель? Наводчик. А кто был этим наводчиком? Иван Улыбин – вот кто! Так что ты помалкивай и забудь о прошлом. А что касается меня, то я давно позабыл!
Улыбин в темноте отыскал теплую руку товарища и сжал ее в своей ладони.
3
Возле станции Абганерово в течение одиннадцати суток дивизия сдерживала натиск гитлеровцев. Не одиннадцать дней, а именно одиннадцать суток: бои не прекращались и ночью. А на двенадцатые сутки, под вечер, пришел приказ: как только смеркнется, выходить, оставив прикрытие, – вражеские войска прорвались на флангах, дивизия оказалась в окружении.
Два эти слова – «оставив прикрытие», прозвучавшие так обыкновенно и буднично, заключают в себе самый драматический момент нашего маленького повествования.
Вызывает к себе на НП командир полка. Я знаю зачем, хотя связной и не говорил мне об этом. Остроглазый, сухощавый грузин так же буднично сдержан, как и его слова, брошенные мне навстречу:
– От твоей роты – один расчет!
– Есть!
– Выполняйте.
Прижимаю к бокам полевую сумку и пистолетную кобуру, бегом возвращаюсь на свои огневые позиции. Надо мной в темнеющем небе невидимые паучки-пули тянут в разные стороны светящиеся нити. Где-то озабоченно токует «максим», зло тявкает сорокапятка, в ответ – львиный рык немецкого шестиствольного…
– Приказано оставить для прикрытия один расчет, – говорю я, стараясь подражать подполковнику в сдержанности, но чувствую, что у меня это получается хуже. Судорожно сжимаю ремни снаряжения – так лучше, руки не дрожат. Спешу скорее сказать главное: – Кто хочет остаться?
– Разрешите мне!
– Разрешите мне!..
– Разрешите…
– Разрешите…
Это голоса всех командиров. Но надо поступить справедливо – останется тот, кто сказал первым. Кто же? Ну конечно, Улыбин. Вот он подходит ко мне, за ним его наводчик Алексей Грунин. В своих должностях они поднялись на ступеньку выше: первый – от наводчика до командира, второй – от заряжающего до наводчика. Ну что ж, так и быть, оставайтесь вы, ребята!
Вглядываюсь в их лица – в темноте видно плохо. А мне почему-то хочется обязательно увидеть. Вчера обоим этим хлопцам начальник политотдела вручал партийные билеты. Происходило это прямо на огневых позициях, в балке.
– Завтра у нас, по-видимому, будет жаркий бой, – сказал начподив. – Устоите?
Он посмотрел на Алексея. Тот ответил:
– Я с Красной Пресни, товарищ полковник.
Грунин глядел в усталое лицо начподива своими ясными, широко открытыми глазами. И начальник сказал:
– Добро.
Все это я сейчас вспомнил и, крепко пожав солдатам руки, сказал то, что, очевидно, сказали своим подчиненным, остающимся здесь, и командир стрелковой роты, и командир пулеметчиков, и артиллерийский командир… Я сказал:
– Желаю вам успеха, товарищи. До встречи!
И мы ушли. А они остались.
4
Прикрытие держалось всю ночь и весь следующий день. Не буду описывать этот беспримерный бой. Немного требуется воображения, чтобы понять, как велика была мера мужества советских солдат. Оставшиеся в живых – а таких было не так уж много! – могли теперь отходить вслед за основными силами дивизии.
Легко сказать – отходить!
А как это сделают Грунин и Улыбин? Уже под самый вечер Улыбин получил второе, и притом тяжелое, ранение – ему раздробило коленную чашечку правой ноги. В который раз уже он просит товарища:
– Алеша… оставь меня, а сам иди. Какой толк погибать обоим?.. Слышишь, Алексей?
– Не слышу. И слушать не буду! Ты за кого же меня принимаешь?
– Но… Алеша…
– Замолчи, Иван! Ты вот лучше погляди, какую я для тебя коляску соорудил. Как хорошо, что наш миномет на колесах! Ведь это же последняя конструкция. А ну-ка давай… вот так… Удобно? Ну вот, а ты, дуралей, бормочешь.
Он вез товарища всю ночь, ориентируясь по вспышкам немецких ракет, стараясь идти туда, откуда эти ракеты не взмывали. Рассвет застал их в балке, в районе совхоза Зеты, и тут оказалось, что из окружения они еще не вышли.
Самое же страшное состояло в том, что гитлеровцы обнаружили минометчиков. Пришлось укрыться в отроге балки и обороняться. Мин не было – вся надежда на автоматы.
Фашисты предприняли две или три вылазки, надеясь, очевидно, захватить советских бойцов живыми. Но минометчики яростно отстреливались. Тогда противник открыл минометный огонь. С короткими перерывами он вел его до самой ночи, а потом почему-то прекратил. Может быть, решил, что советские солдаты убиты, ведь они уже не стреляли: у Грунина и Улыбина не оставалось ни единого патрона. Одни гранаты, но это уже на крайний случай.
– Ну что ж, Иван, двинулись, – губы, потрескавшиеся, в крови, шевелились с трудом. – Пошли, друже… Сейчас я подам тебе твой экипаж.
Но тут Алексею Грунину пришлось сделать, может быть, самое печальное открытие в своей жизни: разорвавшейся поблизости миной их миномет был разбит вдребезги.
– Коляска наша попорчена, Ваня. Придется обойтись без нее.
– Уж не думаешь ли ты пронести меня на себе эти двадцать километров?
– Думаю. И не двадцать, а двадцать пять. Да хотя бы сто!
…Через несколько дней они появились в боевом охранении полка. Трудно было признать в этих постаревших людях двадцатилетних ребят. Правда, глаза у них были все те же: черные, горячие – Улыбина и светлые, смотрящие, как всегда, прямо перед собой, – Алексея Грунина. И когда, удивляясь и радуясь, бойцы спросили Грунина, как же он мог донести на себе товарища, он просто спросил:
– А разве вы на моем месте не сделали бы то же самое? – Потом подумал и добавил: – К тому же… к тому же, – он постучал себя по левой стороне груди, – тут у меня партийный билет.
* * *
С той поры прошло уже немало лет. Но когда мне случается проезжать по Красной Пресне, я всегда вспоминаю светлоглазого паренька. Где он сейчас? На Дальнем Востоке или на западе, на Крайнем Севере или на юге, не знаю. После войны его послали учиться в военное училище. Сейчас он где-то командует взводом, а может быть, уже и ротой. Но где бы он ни был, он верно стоит на своем посту. Это я знаю определенно.
И все же до сих пор жалею, что не рассказал эту короткую историю старому рабочему и его внуку в трамвае. Может, они знают про Алешу. Должны знать! Ведь судьба Алексея Грунина есть продолжение большой и славной судьбы старого большевика с Красной Пресни.
1958–1960 гг.