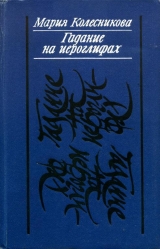
Текст книги "Гадание на иероглифах"
Автор книги: Мария Колесникова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
– Пи-ро-ги́, – поправила Анна.
– Спасибо, Анни. С вашей помощью я овладею русским языком. Когда приедем в Советский Союз, буду заказывать вам пироги.
Лето подходило к концу, наступило осеннее полнолуние, но жара не спадала, даже от луны как будто разливался зной. Клаузены все лето прожили в городе, их домик в Тигасаки пустовал.
Жили только одним: как идет война в Советском Союзе. Вести были неутешительными. Токийское радио вопило о падении Смоленска, Киева, о блокаде Ленинграда. Фашисты рвались к Москве.
По радио в открытую говорили о том, что, как только Москва падет, Япония выступит против СССР на Дальнем Востоке. Газеты изображали дело так, что агрессором является не Германия, а Советский Союз. «Стараясь привлечь на свою сторону СССР, европейские демократии надеялись, по-видимому, предотвратить войну. Но руководители политики СССР предпочли войну, несомненно надеясь, что в результате ожидающихся потрясений вновь подымется призрак мировой революции!»
– Как бы узнать действительное положение на фронтах, – меряя шагами комнату, говорил Макс. – Что бы они тут ни болтали, а «блицкриг» провалился! Значит, советские войска держатся!
Но иногда Макс впадал в мрачное уныние.
– Над миром нависла большая опасность, Анни, фашизм – самая черная страница в истории человечества. Некоторые сравнивают его со средневековым варварством. Куда там! В средневековье сжигали отдельных людей, так называемых «еретиков», а германский фашизм хладнокровно истребляет целые города невинных людей.
– Какая еще дикая на земле жизнь, – «философствовала» Анна. – Люди убивают друг друга, из-за чего? Чтобы властвовать.
– Их заставляют убивать, Анни.
– А почему они подчиняются? Их же много. Скрутили бы всех негодяев, сказали бы: «Нет!»
– Может, когда-нибудь так и случится, – серьезно отвечал Макс.
И только Зорге не поддавался никакой панике. Несмотря на жару, он всегда выглядел бодрым и энергичным. Анна восхищалась его самообладанием. От него они узнавали точную информацию о войне в Советском Союзе.
– А гитлеровцы-то завязли под Москвой! Так-то… Бьют их и в хвост и в гриву! Вот тебе и молниеносное наступление, – весело сказал зашедший к ним Рихард.
Сообщение Зорге несколько ослабило душевное напряжение. Выпили немножко за победу и тихонько спели «Катюшу», любимую песню Рихарда.
– Считаю, что мы здесь сделали все, что было в человеческих силах. Пора нам позаботиться о собственной безопасности, – как бы подводя итоги, сказал Зорге. – Конечно, всем сразу покидать страну нельзя, это вызовет у полиции подозрение, и нас снимут с первого же парохода или самолета. Будем рассеиваться постепенно. Ты, Макс, как торговый человек, свободный коммерсант, можешь сослаться на какой-нибудь выгодный контракт и уехать в Китай, а оттуда – во Владивосток. Устраивает?
– Вполне! – обрадовался Макс. – А ты, Рихард? Куда ты?
– У меня грандиозные планы. Как ты думаешь, Макс, насчет того, чтобы поработать со мной в Германии? – загадочно спросил он.
– Очень положительно, Рихард! – живо ответил Макс.
– У него есть покровитель, – вспомнила Анна, не поняв смысла их разговора. – Мистер Кросби, который предлагал ему работу в Берлине.
– Дался тебе этот Кросби! – засмеялся Макс.
…Они явились в дом рано утром. Их было двое: знакомый Анне полицейский Аояма и с ним еще один из управления, противный тип с вывороченными губами.
– Муж дома? – после краткого приветствия спросил Аояма.
– Зачем он вам понадобился в такую рань? – удивилась Анна.
– Спит, значит? – усмехнулся полицейский.
– Спит. – Она указала наверх. – Разбудить?
Аояма не ответил. Прямо в ботинках быстро стал карабкаться наверх, в спальню. Анна удивилась – обычно он оставлял обувь у порога. Вопросительно поглядела на второго полицейского. Его скуластое лицо осклабилось в улыбке: ничего, мол, особенного. Он зевал, ерзал на стуле, всем своим видом выражая скуку и равнодушие, но глаза его неотрывно следили за Анной. Ей стало страшно. «Все это неспроста», – тревожно подумала она.
Сверху спустился Макс и полицейский Аояма. Макс выглядел несколько обескураженным.
– Говорят, я накануне сбил своим авто какого-то мотоциклиста, – обратился он к Анне. – Вызывают в полицейское управление для выяснения дела…
– Да, да, – подтвердил Аояма. – Он скоро вернется.
И они ушли.
Поведение полицейских показалось Анне очень подозрительным. Аояма был всегда любезен, а сегодня едва кивнул и чуть ли не бегом устремился наверх. Второй полицейский явно сторожил ее, чтобы она куда не ушла… Анна заволновалась. Она вдруг ясно осознала опасность. Конечно же частые помещения Аоямы за последние три недели как-то связаны с сегодняшним днем, а история с мотоциклистом лишь предлог. «Случилось что-то ужасное, – подумала она, – нужно спрятать сундук с аппаратурой и что-то сделать с документами…»
Анна поспешила к лестнице, ведущей наверх, но тут с грохотом распахнулась входная дверь – и в прихожую вломились полицейские. Один из них бросился к ней, поймал за руку, тут же подскочили другие полицейские и вцепились в нее, крепко держа, словно какое-то чудовище.
Они трясли ее за плечи, громко допытывались, нет ли в доме адской машины.
– Нет, – сказала она, взволнованно думая в это время о Максе. «Значит, его забрали… А у него плохо с сердцем».
Полицейские осторожно приступили к обыску. Их набилось в квартиру не меньше двадцати человек во главе с прокурором.
Высокий, тщедушный прокурор, со странно маленькой, вытянутой головой на тонкой шее, смешно подпрыгивал и тыкал своими кулаками в лицо Анны.
– Говори правду, я тебе покажу! – верещал он.
Полицейские открывали шкафы, чемоданы и вот открыли сундук, в котором была спрятана радиоаппаратура, фотоаппарат и деньги. Прокурор издал торжествующий клич и прыгнул к сундуку.
– Назад! – властно крикнул пожилой, коренастый сержант. – Возможно, заминировано, – объяснил он прокурору.
Все замерли на месте и словно онемели. Анна увидела, как побелели их физиономии, превратившись из желтых в зеленые. Они долго молча смотрели друг на друга, даже руки Анны отпустили. Она мигом воспользовалась их замешательством: прислонилась спиной к шкафу, загородив маленький выдвижной ящичек, где хранились катушки с фотопленками.
– Так и будем стоять? – нетерпеливо сказал прокурор сержанту.
Тот осторожно приблизился к сундуку и начал тщательно его обследовать. Пот градом катился по его лицу. Анна не без любопытства наблюдала всю эту сцену. «Шакалы трусливые», – презрительно думала она.
– Можно осматривать, – сказал наконец сержант, вытирая лицо бумажным платочком.
Все ожили, словно марионетки, которых дернули за веревочки. Прокурор первый прыгнул к сундуку.
– Те-те-те… – заверещал он, осматривая содержимое сундука. – Несите все в машину, – распорядился он и снова приступил к Анне.
– Говори, где спрятано остальное? – прокричал он громко и отрывисто.
Анна как можно спокойнее ответила:
– Больше нигде ничего нет.
– Говори! – ревел прокурор. – Дальнейшее укрывательство не поможет, мы все знаем и все равно все найдем.
Анна молча пожала плечами – ищите, мол.
Прокурор попрыгал возле нее и, ничего не добившись, отстал.
Полицейские забрали все, что нашли, и уехали, оставив в квартире засаду из четырех человек.
Было это 18 октября 1941 года – в день рождения императора Японии Хирохито, большого национального праздника.
На ночь Анне приказали оставаться в спальне и не выходить в другие комнаты. Прямо в одежде, до смерти измученная, но внутренне натянутая, как струна, свалилась на кровать. У открытой двери в кресле устроился полицейский.
«Катушки с пленками… Надо уничтожить во что бы то ни стало…» – лихорадочно думала она. Лежала тихо, не шевелясь, и сквозь опущенные ресницы зорко наблюдала за полицейским. Вскоре он начал клевать носом, испуганно вздрагивая при каждом шорохе. Наконец голова его беспомощно свесилась на грудь – он крепко спал. Внизу, вероятно, тоже спали. В доме стояла мертвая тишина. Анна тихо поднялась с кровати и, замирая от страха, стала пробираться по своей квартире, как по темному лесу, полному хитрых и хищных зверей. Через вторую дверь, которая вела в ванную и туалет, прокралась в комнату, где лежали катушки с пленками. В ящике она обнаружила какую-то бумагу, подписанную Рихардом. Забрав пленки и бумагу, быстро проскользнула в ванную. Бумагу порвала на мелкие кусочки и спустила в унитаз, а катушки с пленками запихала в газовую колонку. Зажечь не успела, наверное, шум воды в туалете разбудил полицейского. Он быстро вскочил с кресла и резко распахнул дверь ванной комнаты. Увидя Анну, шарахнулся обратно и снова уселся в кресло.
Ночь длилась невероятно долго. По полу медленно крался лунный свет. Было жутко и ужасно тоскливо. Анна думала о Максе. Где он теперь? Куда его увели? В какую бросили тюрьму… Она была наслышана об ужасах японских тюрем, о жестоких пытках, которые там применяли. При мысли, что Макса подвергают пыткам, ей делалось дурно.
Две недели Анну день и ночь охраняли в квартире полицейские. Иногда в дом заходил Аояма. Она пыталась узнать у него что-нибудь о Максе, но он молча крутил головой: мол, ничего не знаю.
Неизвестность совсем измучила Анну. Она почти не спала по ночам. Безумная тревога за Макса истерзала ее. Она обращалась то к одному полицейскому, то к другому, надеясь хоть по каким-нибудь намекам узнать что-то о Максе, но они лишь грубо хохотали над ней, издевательски приговаривая:
– Всех вас пук, пук – и в яму…
Через две недели охрана покинула дом, но обыск производился целый месяц. Полицейские с фотоаппаратами снимали все подряд. Специалисты в лупу рассматривали все предметы, каждую бумажку, искали отпечатки пальцев посторонних людей. Когда эксперты просмотрели все, что нашли нужным просмотреть, полицейские начали увозить кое-что из квартиры. Увезли электропатефон, радиоприемник, все книги.
А утром 17 ноября пришла новая группа полицейских. Они были в форме и при саблях.
«За мной», – вся похолодев, подумала Анна. Ею вдруг овладело странное спокойствие. «Может, увижу Макса…» – мелькнула благая мысль. Ради этого она отправилась бы куда угодно, хоть к черту в пекло.
Все же, когда одевалась, руки противно дрожали, а ноги стали как ватные, зато голова работала ясно, отчетливо.
Под конвоем полицейских Анна медленно сошла вниз. На улице ждала машина.
Ее привезли в полицейское управление и черным ходом куда-то повели.
– Куда вы меня ведете? – сопротивляясь грубым тычкам полицейских, спросила Анна.
– Сейчас узнаешь… – хмыкнул низенький, кривоногий полицейский, похожий на краба.
Перед темной дырой подвала полицейские расступились и толкнули Анну на узкую каменную лестницу. Она чуть не упала, поскользнувшись на мокрой, ослизлой ступеньке. Внизу чернела жуткая тьма. Где-то глубоко-глубоко слабо светилось желто-красное пятно электрической лампочки. Снизу веяло затхлой, промозглой сыростью. Холодная дрожь пробежала по телу Анны. «Господи, спаси и помилуй», – непроизвольно прошептала она, инстинктивно схватившись за руку полицейского.
– Испугалась?! – насмешливо сказал грубый голос. – Ну, иди, иди…
Ступеней было довольно много, они спускались и спускались, рока не уперлись в дверь. Один из полицейских открыл ее, и Анна очутилась в полутьме. Рядом, лязгая саблями, молча сопели полицейские, ждали, наверное, как она будет реагировать на обстановку.
Только через несколько минут Анна могла разглядеть, что находится в яме. По обеим ее сторонам у стенок чернели клетки, а в них, плотно друг к другу, сидели люди. При виде Анны и полицейских они не издали ни единого звука, словно были не люди, а каменные изваяния. Только глаза их слабо мерцали в красноватом сумраке. Это было так страшно, что Анна невольно попятилась к двери. Ее с грубым хохотом толкнули обратно и начали срывать с нее платье, белье, туфли, чулки… Кто-то запустил свои пальцы в ее волосы и, дико визжа, растрепал их. Остальные глумливо хохотали.
Полуживую от страха ее втолкнули в камеру, бросив вслед только белье. Дверь захлопнулась, загремел замок. Анна задохнулась от нестерпимого зловония. Казалось, от вдоха в груди остался осадок. Осмотрелась. Камера была маленькая, темная. Под самым потолком скупо светилась лампочка. На каменном полу, посредине лежала мокрая, прогнившая циновка. В дальнем углу была дыра – параша. Анна долго стояла без движения, к горлу подступала тошнота, дышать было абсолютно нечем. Ее охватило безграничное отчаяние. «Это конец», – подумала она и почти без чувств рухнула на мокрую циновку. Ее трясло как в лихорадке, голова горела. Слезы сами собой текли по щекам. Это приносило ей какое-то облегчение.
«Что же я плачу? – спохватилась она. – Разве не предполагала, что так может случиться?» Пусть конец, она ни о чем не жалеет. Все было правильно. Ее жизнь не прошла даром. Она изведала большое, настоящее счастье – счастье любви, своей причастности к большому, справедливому делу.
Со злорадством вспомнила, как ей удалось под самым носом полицейских, охранявших ее, уничтожить восемь катушек снимков и какую-то бумагу, подписанную Рихардом.
Постепенно она впала в забытье…
Грезилось ей небо, блеклое от зноя, в нем плавают словно застывшие птицы, а внизу струится, колышется горячий воздух. Зной палит ее, и она жадно пьет ледяную воду из кувшина, который держит в руках смеющийся Макс.
Весь день ей не приносили ни еды, ни питья. Да она не смогла бы и есть – от дурного воздуха ее мутило. Хотелось пить.
Поздно вечером загремела дверь. Вошли двое полицейских.
– Встать! – раздался над ней повелительный голос.
Анна попыталась встать – ноги не слушались.
– Симулянтка! – взвизгнул тот же голос, и нога в тяжелом ботинке больно пнула в бок. Грубые руки подхватили ее под мышки, пытаясь поставить на ноги. Она не смогла сделать ни шагу – ноги были словно не ее, голова кружилась, все кувыркалось перед глазами.
«Заболела», – в страхе подумала она.
Босую и раздетую ее поволокли наверх по грязной мокрой лестнице. Втолкнули в ярко освещенную комнату, полную жандармов. Анна увидела уже знакомого прокурора. Его глаза пристально остановились на ее лице, а рот искривился насмешливой, злой улыбкой.
– Надеюсь, теперь ты будешь сговорчивей? – произнес он начальственным тоном.
Ее усадили в облезлое, жесткое полукресло. Лица полицейских колыхались перед глазами, расплывались бесформенными пятнами. Один из них приблизился к ней и стал ее осматривать. Оттянул веки, пощупал пульс, потрогал руки и ноги. Это был полицейский врач.
– Ничего не выйдет, – обратился он к прокурору.
Снова ее стащили в яму, бросив вслед какую-то подстилку. Это была почерневшая, старая циновка. Она упала на нее, словно подкошенная, и, задыхаясь, потеряла сознание.
…И снова ей виделась степь, охваченная огнем заката. Она бежит навстречу Максу, раскинув руки. Ветер всклокочил ее волосы. Какой он горячий, этот степной ветер!
– Макс! – кричит она. – Макс!
Он не видит и не слышит ее, уходит все дальше и дальше, к той черте горизонта, за которую закатилось раскаленное огромное солнце. Но она не могла его потерять, не могла! С последним отчаянием позвала:
– Макс! Макс!
Он не оглянулся. И тогда она, задохнувшись от быстрого бега, упала в жесткую степную траву и зарыдала горько и безутешно.
Очнулась от какой-то боли. Перед ней на корточках сидел полицейский-врач.
– Все в порядке, – сказал он, поднимаясь. – Шесть уколов привели ее в чувство. Можно брать.
Ей бросили платье, велели надеть и вновь потащили на допрос совершенно больную и разбитую.
Полицейские во главе с прокурором (его фамилия была Иосикава) приступили к допросу. Анна не могла выговорить ни слова: язык словно присох к гортани. И немудрено: ей три дня не давали ни пить, ни есть.
Ее молчание привело прокурора в бешенство. Он стучал кулаками по столу, размахивал руками и кричал:
– Ты хитрая, я тебя знаю! Но я заставлю тебя говорить.
Анна продолжала молчать. Врач что-то шепнул ему на ухо, и допрос прекратили.
Полицейские вывели ее на улицу. Яркий солнечный свет полоснул по глазам. В грудь вливался прохладный свежий воздух, и Анна жадными глотками пила его. Как все-таки хорошо на воле! Как прекрасна жизнь! Какое неизъяснимое блаженство дышать живительным воздухом! Она нарочно замедлила шаги, хотя и без того ноги почти не слушались ее и она опиралась на руки полицейских. Но ее сунули в машину и отвезли в тюрьму. Закрыли в камере на втором этаже.
Здесь было гораздо сноснее, чем в той ужасной яме, хотя камера напоминала мусорный ящик и воздух отнюдь не отличался свежестью. Анна чувствовала себя так плохо, что сразу легла. Вскоре пришел тюремный врач, пожилой, благообразный японец. Он сделал ей укол и приказал надсмотрщику принести ей молока и немного рису.
– У вас нервное потрясение, – сказал ей врач. – Мы будем вас лечить.
Несколько дней ее не трогали, и она немного пришла в себя. Ползком собрала по камере мусор – обрывки бумаги, пустые банки, какие-то грязные тряпки. Сложила в угол возле двери. Откуда-то лезли отвратительные, жирные мокрицы. Приподняла циновку и тут же опустила с отвращением – там был целый рой этих мокриц. Запахло гнилью. Замызганные стены камеры были исписаны иероглифами, и Анна подумала о судьбах тех людей, которые здесь перебывали, – вероятно, их было немало, судя по количеству надписей. Возможно, здесь томились японские коммунисты…
Начались тюремные будни. За Анной установили усиленный надзор. Возле ее камеры всегда торчала надзирательница. Причем надзирательниц часто меняли, чтобы не могла, паче чаяния, развратить их своими разговорами о Советском Союзе и тем самым подкупить.
При аресте она взяла с собой некоторую сумму денег. Теперь ей через надзирательниц разрешили покупать, хоть и в микроскопических дозах, пищу – молоко, рис.
Тюремный врач делал ей уколы, и она понемножку стала ходить. Несмотря на плохое состояние, ее каждый день водили на допрос. Допрашивал инспектор Накамура, низенький, толстый человек с цепкими глазами, угрюмо сосредоточенный и злой. Он ловко наводил разговор на нужные ему темы и делал это с дьявольской хитростью. Вопросы были совершенно невинные, и Анна давала прямые ответы. Но затем она подумала, так ли уж наивны вопросы, на которые она отвечала? И стала более осмотрительной.
…– Так, так… Значит, в МТС вы хорошо жили? – безразличным голосом спросил инспектор. На короткую долю секунды его цепкие глаза отпустили Анну. Она глубоко вздохнула. Сказала просто:
– Очень хорошо.
– Расскажите, – кратко приказал он, снова гипнотизируя ее взглядом.
– У нас было свое хозяйство: корова, куры, овца. Муж получал приличную зарплату. В магазинах было все очень дешево.
– Только вы жили так хорошо? Надо полагать, к вам было особое отношение?
– Почему же? – удивилась Анна. – Там все жили хорошо, все имели собственных коров, овец, хорошие дома.
– Ты врешь! – вскочил с места инспектор. – И здесь вздумала заниматься красной пропагандой? Берегись, коммунистка!
«Ага, боишься, что расскажу другим?» – злорадно подумала Анна.
Позже он действительно спросил ее, рассказывала ли она кому-нибудь из японцев раньше такие сказки.
– Нет, не рассказывала, думаю, японцы и помимо меня узнают правду о жизни в СССР, – дерзко ответила Анна.
– На вашем месте я бы опасался разговаривать в таком тоне, – повысил голос Накамура. – Нет больше СССР! И вашей МТС нет. Москва давно пала, немцы на Волге.
– Неправда, – спокойно возразила она.
Допросы продолжались по семь часов кряду. Допрашивающие, как пауки, высасывали из нее все относящееся и не относящееся к делу. Анна старалась изворачиваться как могла, тщательно обдумывая свои ответы.
– Я уже говорила, что мало чего знаю. Я – необразованная и в политике ничего не смыслю, – отвечала она.
– Что произойдет с тобой дальше, всецело зависит от той правдивости и искренности, с какой ты будешь отвечать на вопросы, – сердился инспектор, переходя на невежливое «ты». – Итак, не будем тратить времени! Назови фамилии людей, причастных к организации.
– Я не знаю никаких фамилий.
– Тогда опиши их внешность.
– Кого «их»? – невинно спрашивала Анна.
– Может быть, вы и этих не знаете? – он показал ей фотографии Зорге и Бранко.
«Значит, всех…» – испуганно подумала она. Отрицать свое знакомство с ними было бессмысленно, и она отвечала:
– Этих знаю: Рихард Зорге, Бранко Вукелич – друзья моего мужа. Чем они занимались, не ведаю.
– Назовите этих людей, – он показывал ей другие фотографии.
– Я их не знаю, – отрицала Анна, – мой муж – торговый человек, и к нам приходило много людей.
– Ваш муж – советский шпион, – повышал голос инспектор.
– Это не моего ума дело, – спокойно парировала Анна, – я занималась своими, женскими, делами.
– Как часто вы встречались с этим человеком?
Анна внимательно всматривалась в фотографию: да, лицо ей знакомо, она действительно встречалась с ним.
– Я не помню этого человека. У меня плохое зрение и плохая память на лица.
Инспектор выходил из себя:
– Мне с тобой церемониться надоело. Если бы я имел власть, я задушил бы вас всех собственными руками.
– Хорошо, что вы не имеете такой власти, – усмехнулась Анна. – У вас руки коротки.
– Молчать! – заорал Накамура. – В карцер захотела?
Допрос велся через переводчика, пожилого, интеллигентного на вид японца. Это был профессор из какого-то токийского университета, как поняла Анна, фашист, фанатик, ненавидящий Советский Союз. Он форсил своим знанием русского языка и ругался всякими грубыми словами.
– Что вас заставило, гражданку такой великой страны, как Германия, связаться с советскими шпионами? – приставал он к Анне в короткие минуты передышек. – Вам, наверное, хорошо платили?
– Я не знаю, о чем вы говорите, – наивно отвечала Анна. А то и вовсе не удостаивала его ответом, она не обязана была отвечать на все его глупые вопросы.
Иногда инспектор, чтобы запутать ее, заставлял снова повторять одни и те же показания.
– Мне не нравятся ваши ответы, – говорил он. – Лучше начните с самого начала.
Анна настораживалась: улики против нее не очень серьезны. Однако надо быть осмотрительней. Для таких опытных полицейских каждое ее слово может иметь значение, а в волнении она способна обронить что-нибудь такое, что наведет их на какие-нибудь нежелательные догадки или предположения.
Так изо дня в день Анну вымучивали допросами. После каждого допроса чувствовала себя совершенно обессиленной и долго не могла отдышаться, лежа на циновке в своей камере. В такие минуты она погружалась в какое-то равнодушное отчаяние, и единственным теплом, гревшим ее где-то глубоко внутри, были мысли о Максе.
По ночам донимали жуткие боли. Болело все, каждая клеточка организма. Сердце билось гулкими, неровными толчками, а иногда обрывалось, словно проваливалось куда-то. Голова кружилась, все тело покрывалось липким потом, и руки дрожали от слабости. Сна не было, а если засыпала, то грезились фантастические видения. Это были сны – то страшные, то счастливые, сны, в которых неизменно присутствовал Макс.
Анне хотелось узнать что-нибудь не только о Максе, но и о Зорге, о Бранко. Что сталось с ними? Судя по допросам, которые снимали с нее, она заключила, что они живы.
Спустя много месяцев, на одном из прокурорских допросов, прокурор сказал ей:
– Будете умницей – скоро увидитесь с мужем.
Не знал он, какие силы вливают в нее эти слова! Он подал ей надежду, ради которой стоило жить! Эта надежда сделала ее более хладнокровной к допросам, более собранной и изворотливой.
Она попросила у прокурора разрешение на переписку с мужем и получила отказ. Но это не лишило ее мужества. Главное, Макс был жив!
Следствие продолжалось полтора года. Анне разрешили взять адвоката. Это был еще довольно молодой человек, тонколицый, с мягкими глянцево-черными глазами и вкрадчивыми манерами. Очевидно, профессия защитника выработала у него соответствующее поведение. Фамилия его была Асанума.
– Много не обещаю, – предупредил он Анну. – Что смогу – сделаю.
В эти дни она часто размышляла о своей жизни. Какая все-таки сложная у нее судьба! Всех ее перипетий хватило бы на добрый десяток человек. И все-таки жаловаться было грешно. Она жила по высокой мерке и втайне гордилась тем, что ее муж не какой-нибудь мелкий торгаш, наподобие Валениуса, а человек большой цели. Он сделал ее жизнь осмысленной и целеустремленной. Через Макса она смогла принять участие в непосредственной борьбе против фашистской Германии и хоть в некоторой степени быть полезной своим трудом Родине.
Как ни строг был за ней надзор, все-таки до нее доходили обрывки разговоров тюремной прислуги. Из них она делала вывод: война в СССР затянулась.
Настал день суда. Анну одели в красное кимоно, на голову надвинули соломенный остроконечный колпак, закрывший все лицо, и под усиленным конвоем отвезли на машине в здание суда.
Перед этим Асанума сообщил ей, что всех членов организации судят поодиночке в закрытых заседаниях. А она-то надеялась увидеться с Максом!
– Увидитесь позже, когда будут объявлять окончательный приговор, – обнадежил ее адвокат.
Не без волнения вступила Анна в судейский зал. Похожее на сарай помещение было совершенно пусто. Лишь за судейским столом сидело человек семь судей в черных с сиреневой вышивкой накидках, в высоких черных шапочках-скворешнях, да на передней скамье было несколько каких-то людей, среди них она заметила Асануму, одетого так же, как и судьи.
Переводчик – все тот же профессор, значит, ее будут судить на японском и русском языках.
Началась судебная процедура.
Прокурор нудно и долго зачитывал обвинительный акт. Анна почти не слушала. И только последняя фраза заставила ее напрячь внимание:
«…причастна к шпионской деятельности организации Зорге».
– Признаете вы себя виновной? – задал вопрос судья.
– Не признаю, – твердо ответила Анна. – Я не совершила никакого преступления против Японского государства.
Поднялся адвокат Асанума:
– Я считаю, что у правосудия нет достаточных улик в преступной деятельности Анны Клаузен. Здесь ей предъявили обвинение в том, что она помогала своему мужу Максу Клаузену. Вы судите ее по японским законам, а по этим законам жена должна быть послушной своему мужу.
Начался допрос. Все было давно известно, приходилось с самого начала повторять одно и то же.
Был август 1944 года. В окна зала вливался веселый солнечный свет, еще больше подчеркивая мрачность обстановки, отчужденность от шумной жизни на воле. И Анна грустно подумала: кого касается, что сердце ее колотится от волнения, а по спине бегут струйки пота?
После допроса обвинитель произнес заключительную речь:
– Господа! Уважаемый защитник подсудимой Анны Клаузен Асанума-сан, опираясь на японские законы, пытался оправдать свою подопечную. Но Анна Клаузен не японка. Мы судим ее как большевичку, коммунистку, а по отношению к коммунистам в нашей стране законы очень суровы. Я требую для подсудимой семи лет тюремного заключения и принудительного труда без учета предварительного заключения.
Он сел, поправляя на носу огромные очки в тяжелой роговой оправе. Его аскетически худое лицо дышало непреклонностью, а огромные очки придавали всему облику особую важность.
Переведя обвинительную речь, переводчик от себя добавил, обращаясь непосредственно к Анне:
– Радуйтесь такому легкому наказанию, – вы заслужили быть повешенной.
Речь обвинителя потрясла своей ненавистью не к ней лично, а к коммунистам вообще. Все они тут – судьи, этот фанатик переводчик и даже так называемый защитник Асанума, – все ненавидят коммунистов и с удовольствием выместят на ней свою бессильную злобу.
– Это несправедливо! – все же крикнула она, но крик ее сиротливо замер среди общего молчания. Только переводчик, усмехнувшись, обронил по-русски, специально для нее:
– Гм, она еще и недовольна…
Через несколько дней ее снова привезли в суд для объявления окончательного приговора.
И тут она увидела Макса…
Он сидел рядом с Бранко на скамье для осужденных. По обеим сторонам и за их спиной стояла стража. Ее посадили напротив, и она жадно впилась глазами в лицо Макса. Какой он худой и бледный! Воротник красного, арестантского кимоно был слишком просторен для его шеи, волосы тусклые и словно посыпаны серым пеплом. И Бранко… Острая, материнская жалость пронзила ее сердце…
Она заметила, что Макс ее рассматривает с не меньшей жалостью. Его лицо отражало довольно сложные чувства: оно было хоть и радостным от встречи с ней, но каким-то виноватым. Может быть, сейчас он сожалел о том, что вовлек ее в эту историю? И напрасно… Ах, Макс, Макс…
Когда судьи уселись на свои места, Макс встал и поклонился сначала ей, Анне, а потом уже суду.
Судья начал объявлять приговор.
– Именем закона… Макс Готфрид Фридрих Клаузен… к пожизненному тюремному заключению.
Вся кровь отхлынула от лица Анны, она схватилась за сердце. В глазах у нее потемнело, и только огромным усилием воли она удержалась на скамейке, не упала. Смутно увидела перед собой застывшее лицо Макса.
– Именем закона… Бранко Вукелич… к пожизненному тюремному заключению… – откуда-то очень издалека зазвучал опять голос судьи.
– Анна Георгиевна Клаузен…
Окончательно пришла в себя, когда осужденных уже уводили из зала суда.
Макс и Бранко были в наручниках. Поравнявшись с ней, Макс довольно внятно произнес по-немецки:
– Выше голову, Анни! Война скоро кончится, и мы увидимся с тобой!
Она провожала его полными слез глазами. Прощай, Макс, дружище… Прости, если что было не так между нами. Даже в такую минуту ты нашел для меня слова утешения. Верю тебе и буду жить надеждой на скорую встречу…








