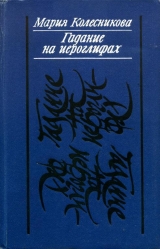
Текст книги "Гадание на иероглифах"
Автор книги: Мария Колесникова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Внутренний город был древней столицей китайских богдыханов. Его окружала широкая, серая каменная стена, по которой ездили автомобили и гуляла публика. В центре Внутреннего города, за блекло-розовой стеной с черными пятнами сырости скрывались дворцы Запретного города, где еще проживал со своей свитой малолетний император Пу И, последний из свергнутой в 1911 году династии Цинов. В 1912 году его заставили отречься от престола, но республиканское правительство разрешило ему по-прежнему жить во дворцах и еще платило огромную пенсию на содержание двора.
Они жили во внешнем городе, в так называемом деловом Пекине, шумном, пыльном, бестолковом, с грязными улицами, бедными лавчонками, подозрительными притонами, базарами. Деловой Пекин как бы опоясывал чопорный тихий Внутренний город.
Анна устроилась посудомойкой в ресторанчике гостиницы, где они остановились.
Валениус метался в поисках дела. Он совсем упал духом, стал суетливым, раздражительным и мелочным. Перед Анной был явно растерявшийся человек, не знающий, как выйти из положения. Он ходил в старом, затасканном костюме и уже не говорил о богатстве. Она успокаивала его, старалась вселить надежду на лучшее будущее. Иногда ей было искренне жаль его.
Однажды, когда он сидел в их жалкой харчевне, именуемой рестораном, и грустил за кружкой скверного пива, поданного Анной, к нему подошел какой-то человек и положил ему на плечо руку. Анна услыхала русскую речь и насторожилась (она как раз собирала со стола грязную посуду).
– Ну что, брат, – сказал этот человек, – туго приходится?
– Пошел к черту, – буркнул Валениус.
– Хочешь работу? – не унимался незнакомец.
– Шутишь?
– Вовсе нет. Мне нужны такие люди, как ты.
– А откуда вы меня знаете? – с удивлением спросил Валениус, почтительно переходя на «вы». Незнакомец улыбнулся:
– Не все ли равно тебе? Факт тот, что знаю.
Тут вошел хозяин и перемигнулся с незнакомцем. Сердце Анны упало, – вот откуда ветер дует! Этот хозяин большой плут, видать.
Валениус стал пропадать из дома – куда-то ездил. Из поездок привозил деньги, подарки.
– Нашел хорошую работу, – объяснил он.
Приоделись и он, и она. Взяли номер поприличнее. Хозяин перевел Анну в подавальщицы, был ласков, мурлыкал, словно сытый кот. Муж опять воскрес и снова начал мечтать о богатстве.
Как-то сказал:
– Поедешь со мной. Надень все самое лучшее.
Она обрадовалась: хоть на один день вырваться из этого ада.
…Они плыли по большой реке, нарядные, словно богатая чета на прогулке. В руках у мужа был изящный портфель, который он не выпускал из рук.
– Везу важные документы одной торговой фирме, – кратко пояснил он Анне, и она поняла его несколько взвинченное состояние – мало ли что может случиться…
Со всей беспечностью молодости откровенно наслаждалась солнцем, блеском воды, живой сутолокой пароходной жизни. Ее занимала пестрая, разнородная смесь пассажиров – китайцев, важных англичан и других европейцев. Китайцы собирались группами, ели вареную свинину и лепешки.
В углу верхней палубы, под тенью высокой будки сидел молодой китаец, а рядом с ним лежала старуха. Она тихо стонала, прикрыв глаза морщинистыми веками. Молодой китаец развязал узелок и вынул две лепешки, Он посмотрел на старуху, неподвижно застывшую с закрытыми глазами, вздохнул и положил одну лепешку обратно.
– Смотри, – толкнула мужа Анна, – мать, наверное. Старая какая и очень больная.
Валениус безучастно скользнул взглядом по старухе, по лицу молодого китайца, сердито произнес:
– Пускают таких… Может, у нее чума или холера?
Ночью Анне приснился сон: будто наряжена она в свое лучшее праздничное платье и мягкие шевровые полусапожки. Идет она знакомыми огородами, полем родного Новониколаевска и что-то напевает. А на поле цветов – неописуемое множество, и таких ярких, красивых, каких она еще никогда не видывала. Идет она полем и диву дается: откуда тут цветы появились? Да так много… Раньше их не было. И вдруг навстречу бежит Мишка Афанасьев с ружьем и кричит:
– Стой! Стрелять буду.
В страхе она проснулась. Муж мирно похрапывал в обнимку со своим портфелем. Анна тихо оделась и выскользнула из каюты на палубу.
Уже рассвело, и река нежно порозовела. По палубе ходили матросы, визгливо ругались, убирая мусор.
Молодой китаец курил длинную трубку. Анна взглянула на старуху и сразу поняла, что та умерла.
Матросы позвали санитаров. Санитары унесли старуху в дальний конец парохода, накрыли циновкой. Китаец пошел за ними, поправил циновку и присел около старухи. «Должно быть, очень бедный человек», – жалостливо подумала Анна.
Днем на палубу пожаловали солдаты и два полицейских, – вероятно, они сели на пароход ночью. Увидя их, Валениус так побледнел, что Анна испугалась. Глаза его затравленно бегали по палубе. Остановились на молодом китайце и старухе.
Воровато оглядываясь, он выхватил из портфеля сверток и стал знаками показывать, чтобы китаец спрятал его под циновку, на грудь матери.
Молодой китаец словно окаменел от ужаса. Валениус показал ему пачку денег. Китаец тихо покачал головой и закрыл глаза.
– Скотина какая, – ругался сквозь зубы Валениус – Бросят твою старуху в грязную яму да еще известью засыплют, будешь знать.
Он стал отчаянно жестикулировать, произнося при этом китайские слова:
– Ни дао во, во гей ни (ты мне, я тебе).
Китаец что-то понял, его лицо исказилось от боли и тоски. «Да что же это такое?!» – растерянно думала Анна, наблюдая страшную сцену. А Валениус кивал на старуху и жестами показывал, какой хороший гроб купит ей сын. Он вынул из кармана еще несколько кредиток и прибавил их к предлагаемой пачке. Китаец медленно кивнул головой, взял сверток и деньги из рук Валениуса.
– Давно бы так… – удовлетворенно сказал муж, беря Анну под руку слегка дрожавшей рукой. – Ну вот, старуха заработала себе на хороший гроб и на красный паланкин с золотыми драконами. А ее сын не потеряет лицо.
– Господи, о чем ты говоришь! – сказала потрясенная Анна.
Полицейские в сопровождении солдат проверяли документы и обыскивали пассажиров.
Анну втолкнули в каюту, женщина-китаянка тщательно обыскала ее.
– Чего они искали? – спросила после у мужа.
– Кто их знает… – беспечно ответил он.
Но Анна уже догадалась… Ее муж торговал опиумом. Опиум прятал он на груди мертвой старухи! Если бы полицейские нашли пакет, их обоих бросили бы в ужасную китайскую тюрьму, где применялись изощренные пытки. В Китае торговля опиумом строго преследовалась законом. Ее била нервная дрожь.
– Я знаю, чего они искали, – сказала она шепотом.
– Тем лучше. Держи язык за зубами, – сухо ответил он.
После того случая Анна умоляла Валениуса бросить опасное занятие и найти какую-нибудь работу. Но он слишком мнил о себе, чтобы заниматься обычной работой. Он воображал себя крупным дельцом, который должен ворочать чуть ли не миллионами.
Однако вскоре сам предложил ей уехать из Пекина. То ли он поссорился со своими компаньонами, то ли просто струсил – Анна не стала выяснять. Она была рада тому, что все благополучно кончилось.
Они переехали в Тяньцзинь. Валениус пошел в финское посольство и зарегистрировался как финский гражданин. Получил паспорт, в который вписал Анну как свою жену.
Кое-какие деньги, нажитые на торговле опиумом, снова зажгли в муже надежду на «свое дело». Через немецкое посольство он связался с правлением немецкой фирмы «Гофман и К°», изготавливающей кондитерские изделия. Фирме нужен был лакричный экстракт – сладкое вещество, которое вырабатывалось из солодкового корня.
Фирма предложила Валениусу купить небольшой заводик у какого-то немца, проживающего в провинции Шаньси. Этот немец уезжал в Германию и свой заводик по производству лакричного экстракта продавал очень дешево.
Валениус сразу загорелся – это дело было как раз по нему. Анна давно поняла, что он по натуре крохобор и крупного дельца из него никогда не получится. Но он умел держаться и этим вызывал к себе доверие.
Заводик купили и уехали в провинцию Шаньси, глухое местечко близ города Тайюань.
Заводик был крошечный – десять человек рабочих, включая и мастера. Муж с жаром принялся за дело. Договорился с соседним помещиком о сырье. Помещик был хитрый, сразу увидел, что имеет дело с человеком, не сведущим в деле. Он согласился ждать плату за солодковый корень, но потребовал высокие проценты с прибыли. Валениусу ничего не оставалось, как согласиться на такие условия, – своих-то денег у него едва хватило на покупку заводика. Так что первая выручка за лакрицу пошла на расплату с помещиком и с рабочими.
Муж метался как зверь в клетке – денег, денег! Во что бы то ни стало! Иначе снова крах, снова скитания, бедность.
Он обращается к фирме, но фирма отказывает в займе: мол, сами еле-еле дышим, боимся прогореть, так как появились конкуренты из русских эмигрантов. Черт, мол, их нагнал сюда, все заполонили, Тяньцзинь превратили в ярмарку. Понаехало офицерье с награбленным в России золотом, драгоценностями, перепродают, спекулируют.
Пришлось снова обращаться к помещику. Три года Валениус пытался встать на ноги, но так и не встал. Под конец нечем было заплатить даже китайцам-рабочим, и они растащили все оборудование. Это был окончательный крах.
Продали заводик какому-то белогвардейцу и снова вернулись в Тяньцзинь. Заносчивый и самолюбивый Валениус строил из себя процветающего дельца: мол, дела идут блестяще, заводик дает крупные доходы, но для расширения дела не хватает некоторой суммы, совсем пустяк. Он бы охотно занял под хорошие проценты…
Тяньцзинь действительно наводнили русские эмигранты. В городе открылось множество кафе, магазинов, кабаре. Валениус свел со многими русскими дельцами знакомство, представлял Анну как дочь богатого русского купца, который обосновался-де в Харбине. Ему охотно давали взаймы крупные суммы.
– А как ты думаешь расплачиваться со своими кредиторами? – спросила однажды Анна.
Муж цинично ответил:
– Я не такой дурак, чтобы возвращать деньги. Вопрос чести и совести может стоять лишь в нормальном обществе, а в этом бедламе нужно хватать все, что плохо лежит.
Самым обидным было то, что он ее совершенно не стеснялся, будто она была пустым местом.
Назанимав крупные суммы денег, Валениус решил затеряться в Шанхае.
Блуждая в лабиринте улиц, Анна очутилась на углу коротенькой улочки рю Чу Пао Сан. Она соединяла две широкие параллельные артерии Шанхая – улицу Эдуарда Восьмого и рю дю Консуля.
Вот и еще одно памятное место из ее прошлого. Какая она тихая сейчас, эта знаменитая рю Чу Пао Сан. Впрочем, вон неверной походкой плетется к гавани матрос. Под глазом у него свежий синяк.
Эту улочку называют еще «Кровавой аллеей». Она совсем крошечная, но буквально набита матросскими кабаре. «Нью Ритц», «Чарльстон», «Мумм», «Монте-Карло», «Роз-Мари», «Кристалл»… Шестнадцать кабаре… От рю Чу Пао Сан до гавани два квартала, так что матросу, по прибытии его корабля в Шанхай, до «Кровавой аллеи» два шага.
Анна медленно идет вдоль улочки, пропитанной смешанным запахом еды, крепких напитков, табака, пота, пудры. Сейчас здесь не страшно: кроме рикш, никто не обращает на нее внимания.
У нее здесь был знакомый полицейский харбинец, русский, он всегда дежурил на этой улочке. Хорошо бы встретиться с ним и посоветоваться относительно квартиры. Однажды он помог ей хорошим советом.
Вот и кабаре «Кристалл», где она работала на кухне. Как сейчас видит низкий сводчатый потолок зала, на стене – огромный звероподобный апаш в полосатой фуфайке и кепке держит девушку за волосы, занеся над ней нож. В углу возвышение для оркестра, где негр-барабанщик скалил белые зубы. Скрипач с бледным угреватым лицом плавно изгибался в такт мелодии. В глубине эстрады вздергивалась и подпрыгивала спина пианиста. А за столиками – матросы, матросы со всего света. Среди них кабацкая красавица, из-за которой происходили побоища. Как сейчас видит ее Анна. Она с обесцвеченными волосами, у нее хищное и жестокое лицо. Эта из тех, кто не визжит, когда в кабаке полосуют ножами и льется кровь. Она вскакивает на стол и со сверкающими глазами и перекошенным ртом что-то дико и хрипло кричит, подначивая дерущихся. На ней французский берет с какой-то блестящей бляхой, рот ярко накрашен, в наманикюренных пальцах сигарета… Кто она? Англичанка, француженка, немка, русская? Никто не знал.
«Интересно, работает ли еще здесь тот русский белогвардеец?» – с любопытством подумала Анна, вспоминая высокого, худощавого мужчину с пышной каштановой шевелюрой, который развлекал гостей в кабаре игрой на гитаре и пением. Он пел низким задушевным голосом душещипательные русские романсы, и иностранные матросы ревели от восторга. Она сама не раз проливала слезы, украдкой слушая его пение.
Ей было жаль его почему-то, такой большой, сильный на вид, развлекает какой-то пьяный сброд. Однажды даже сказала ему:
– Шел бы лучше в волонтеры к англичанам, жил бы припеваючи.
Он ужасно рассердился, – ты, говорит, дура баба, знаешь, кто я? Российской армии капитан, и английских нашивок мне не надо! И подданства английского тоже брать не хочу. Такой чудак.
Да, днем здесь тишина и спокойствие. Зато вечером «Кровавая аллея» совсем другая. Все залито светом, вывески заманчиво сверкают сотнями электрических лампочек. Из дверей и окон кабаре гремят джазы. На углах толпы проституток торгуются с матросами, иногда дерутся с конкурентками.
В «Кровавую аллею» стекаются матросы всех национальностей: деловитые на вид англичане, низкорослые французы в кокетливых беретах с красными помпонами, высокие, добродушные на вид американцы.
Каждую ночь здесь происходят кровавые побоища между пьяными матросами. Начинаются драки в кабаре, летят бутылки, стулья, столы. Хозяин выключает свет, пронзительно визжат женщины, удирают музыканты. Крик, рев, звон посуды и стекол, стоны раненых, свистки полицейских. Драка выплескивается на улицу, захватывает другие кабаре, в ход пускают револьверы, и вот дерется уже вся улица. Американцы ведут себя как хозяева и всех задирают. Французы сражаются с англичанами, англичане наскакивают на американцев, а все вместе бьют китайцев.
После одной такой битвы, о которой сообщали даже в газетах, Анна сбежала из кабаре «Кристалл».
Мимо нее медленно прошел полицейский. Анна сразу узнала в нем харбинца. Окликнула. Он остановился, равнодушно ожидая вопроса. «Постарел… – подумала Анна. – Глаза как у старой собаки».
– Добрый день! – сказала по-русски.
– Добрый день, землячка! – оживился он.
– А мы знакомы. Я когда-то работала в кабаре «Кристалл» на кухне…
– Извини, не помню, – столько людей!
– А вы все здесь… – сказала Анна.
– Куда же денешься? Семья.
– Здесь все по-прежнему? – спросила она.
– Все одно. Вчера была большая драка: англичане с американцами, все не решат вопрос, кто хозяин в Китае. Кое-кому досталось. Нашему одному из полиции, харбинскому русачу, тоже влетело. Ну, а ты как? После кабаре нашла работу? – участливо спросил он.
– Да, с работой все в порядке, только вот с квартирой неладно. – Анна поведала о своих затруднениях. – Понимаете? Все по закону: живу тихо, плачу исправно, в срок, а она свое: съезжайте да съезжайте… Явился какой-то немчик, ему потребовался весь верх. Я послала хозяйку к чертям, как вы думаете, а?
– А что тут придумаешь? – усмехнулся харбинец. – Право всегда на стороне хозяина, хочет – держит, хочет – выбросит на улицу, особенно по отношению к нам, эмигрантам. Придется тебе искать другую квартиру…
«Да, вот так… – печально думала Анна, попрощавшись с харбинцем. – Другую квартиру… Попробуй найди ее…»
Она свернула на улицу Жоффр. Вся улица была занята русскими магазинами, кафе, публичными домами. Здесь было целое поселение русских белогвардейцев. Шла мимо ярких витрин, сверкавших драгоценностями, щелками, мехами… А вот и меховой магазин богатых купцов Дарановских, где она тоже работала. «Мадам, этот каракуль самого лучшего качества. Обратите внимание на рисунок и блеск меха!» «Возьмите шубу из ондатры, мадам. Видите, как она подобрана? Темные хребты находятся точно посредине…» «Мадам, этот скунс высшего качества. Посмотрите, какой он легкий и шелковистый…» И так целый десятичасовой рабочий день на ногах, а платили всего двадцать пять обесцененных китайских долларов в месяц – едва-едва на хлеб.
Как мучительно припоминать все с самого начала.
Валениус где-то на Филиппинах. Она узнала об этом совершенно случайно от русских эмигрантов, приехавших из Манилы. Он открыл дело по изготовлению банановой муки и, как всегда, прогорел.
Если Банд – шанхайская набережная – является деловой частью города, где высятся громады иностранных банков, офисов, то Нанкин-роуд, куда забрела Анна, являлась центром торговли международного сеттльмента. Шанхай – город-колония, он буквально наводнен иностранцами. Американский, французский, английский сеттльменты, богатые благоустроенные районы со своей полицией, войсками, муниципалитетами. Китайцы живут в Чапее, Путуне – самых нищенских районах китайской части Шанхая. Немощеные пыльные улицы, закопченные лачуги, мастерские, лавочки, страшная нищета.
В Шанхае они сняли скромную квартиру, обзавелись знакомствами. В большинстве это были русские эмигранты, которые охотно принимали у себя «преуспевающего» коммерсанта Валениуса с его молодой женой. Правда, никто толком не знал, чем занимается этот коммерсант, но он являлся в общество всегда прилично одетым, был вежлив, любезен, умел поговорить. Обычно встречались по вечерам у кого-нибудь из знакомых, играли в карты, устраивали танцы. Один из вечеров особенно запомнился Анне…
…В скромной квартире банковского служащего Сергея Николаевича Дашкова собрались гости по случаю дня ангела его супруги. В маленькой гостиной с ярким дешевым ковром стояло пианино, поблескивая полированной крышкой.
Хозяин дома был широкоплеч и высок, с продолговатым сухим лицом, таким бесстрастным, что особенный, злой блеск его серых глаз еще больше выделялся на нем. Дашков в прошлом – полковник царской армии. Его жена – важная толстая дама с тяжелым пучком рыжевато-каштановых волос – оживленно болтала с худощавой средних лет женщиной, довольно известной на шанхайском горизонте русской танцовщицей Полянской, выступающей на подмостках какого-то французского кабаре. Ходили слухи, что она танцевала на сцене Мариинского театра и была как-то связана с царским двором. Полянская не отличалась красотой, но чем-то привлекала, может быть, большими печальными глазами.
– Господи, какая прелесть! – говорила Полянская, с наслаждением зарываясь в букет фиалок, который стоял на маленьком столике в низкой хрустальной вазе. – Фиалки – мои любимые цветы. В свое время мой будуар утопал в фиалках…
– Сергей преподнес мне по случаю дня ангела. Кучу денег небось ухлопал, – с грубоватым добродушием сказала хозяйка, но в тоне ее голоса слышалось удовольствие.
– Счастливица вы, – вздохнула Полянская. – У вас есть муж, друг, который любит вас, заботится. А я так устала от одиночества, от унизительной работы в кабаре, от канканов. А когда-то я танцевала Армиду, Марию, Жизель…
В ее голосе звучали тоска и безнадежность.
Кроме балерины были и другие гости: Федорченко, добродушный на вид толстяк с пышной, окладистой, рыжей бородой. В прошлом профессор одного из русских университетов, теперь он был специалистом по выработке водки, имел небольшое дело и, как говорили, преуспевал; бывший генерал Черновский – высокий, костлявый старик, затянутый в военный мундир, желчный и чванный; бывший поручик Жужубов – мужиковатый, коренастый крепыш, вспыльчивый и резкий; бывший морской офицер Кучимов с женой, оба – латыши по национальности. К финнам – Валениусу и Анне – они относились с особой теплотой. Кучимов работал капитаном на английском пароходе. Все только «бывшие» – выброшенные на свалку истории, как иногда говаривал Дашков, щуря свои злые глаза.
Мужчины говорили о политике. Разговор был очень оживленным, и Анна, заслышав голос мужа, стала невольно к нему прислушиваться.
– Большевистская власть долго не продержится, – убежденно говорил ее муж. – Власть, которая насаждает безбожество, свальную любовь, безнравственность, не имеет права на существование. Да и вообще… Коммунистическое государство – абсолютная утопия…
– Насчет божественного я не мастак, – усмехнулся генерал Черновский, – что касается будущего России – уверен, она, конечно, не останется большевистской. Коммунизм – это прокрустово ложе: какие-то рамки, ограничения, это можно, то нельзя… Нет, прокрустово ложе не удержится. Нельзя мне запретить по субботам рыбу ловить, если это любимое мое удовольствие.
– Вы правы, генерал, – поддержал Черновского Федорченко, солидно поглаживая свою рыжую бороду. – Террор, расстрелы. А русский народ волю любит. Россия – это Илья Муромец, который сиднем просидел тридцать три года, а потом встал, встряхнулся и пошел совершать подвиги… Смахнет он и большевиков…
– Большевистская власть – это небывалый еще в человеческой истории жуткий «опыт» над миллионами русских людей, вот что это такое, – с возмущением произнес Дашков, перекатывая из одного угла рта в другой дымящуюся папиросу.
– Да, черт возьми, – пробурчал поручик Жужубов, – Россия встряхнулась… Да так, что мы полетели в разные стороны. Как бы и отсюда не полетели. «Жуткий опыт», как видно, очень заразителен. С тех пор как правительство Китая подписало дипломатическое соглашение с РСФСР, в Шанхае не прекращаются рабочие забастовки.
– Как же! Свобода, равенство, братство… – вмешался генерал. – В России Ленин, здесь – Сунь Ятсен, своего рода китайский Ленин.
– Да… Китай зашевелился, – задумчиво сказал Кучимов. – В провинции Гуандун гоминьдановцы во главе с Сунь Ятсеном. Кстати, в армии Сунь Ятсена появился очень толковый военный советник, какой-то генерал Гален, я от англичан слыхал, они только об этом и толкуют.
– Гален? – переспросил хозяин. – Француз?
– Да не Гален, а Галин! – поправил Черновский. – И не Галин, а советский генерал Блюхер, – уточнил он.
– Блюхер?! – воскликнул поручик Жужубов. – Старый знакомый… Как же, встречались в восемнадцатом на Южном Урале… Значит, Блюхер? А вы откуда знаете? – вдруг остро заинтересовался он и подозрительно посмотрел на Черновского.
– Да уж будьте уверены! – самодовольно ответил тот, форся своей осведомленностью.
– Знавал я Блюхера, знавал… – с задумчивой многозначительностью проговорил Жужубов. – Я ведь пошел добровольцем на фронт. Мне тогда едва исполнилось двадцать лет, но я успел пережить войну, а потом переживал революцию и горькое поражение… Наш полк был начисто разгромлен партизанами Блюхера, они как черти были вездесущими. Остатки полка пробирались кто поодиночке, кто группами к станции, которая находилась в руках белой армии. Стояла холодная, дождливая осень. Я еще не вполне оправился от ранения и минутами почти терял сознание. Мы никак не могли добраться до железнодорожного пути – партизаны буквально наступали нам на пятки. Наконец добрались до маленькой степной станции, увидели вагоны, палатки, в которых, как мы узнали, расположился штаб белой армии.
Наша группа штурмом захватила состав. Вагоны были переполнены, но я решил не отступать. В проходе вагона меня остановил адъютант, чистенький такой, благородный. «Погучик, – сказал он холодно, брезгливо оглядывая меня с головы до ног, – во избежание непгиятностей пгошу покинуть вагон. Поезд и без того набит до отказа, количество пговианта огганичено, и совегшенно невозможно давать пгиют пгишлым.. » Понимаете? – Жужубов поглядел на окружающих. – «Пгишлым»… Этакий картавый хлыщ в расстегнутом кителе. Ему жарко… Я выхватил пистолет, заорал: «Ах ты, штабная крыса, жить хочешь? А я, значит, не хочу?! Убью!..»
Поручик замолчал и уставился в пол отсутствующим взглядом.
– А дальше? – робко спросила Полянская.
– Дальше? – встрепенулся Жужубов. – Дальше я не стал больше спорить, а как был в шинели, с винтовкой, с ручными гранатами у пояса, повалился на пол прямо в проходе и заснул непробудным сном. Ночью нас настигли партизаны. Многих перебили, а кто остался жив, уносили ноги…
– Адъютанта убили? – не унималась Полянская.
– Черт его знает, – равнодушно ответил поручик.
– Была и у меня памятная встреча… – с кривой усмешкой проговорил полковник. – Помнится, я прямо-таки жаждал подобной встречи, думал: «Попадись мне хоть один комиссаришка, я ему перочинным ножом не только погоны на плечах, лампасы на ляжках вырежу!» И ведь попался, голубчик! Я, говорит, член Ре Ке Пе и тебя, бандит, презираю… Ладно, говорю, презирай себе на том свете, сволочь… Поставили его перед выкопанной заранее могилой, руки за спиной ремнем скрутили. Я уж хотел скомандовать: «Пли!», да тут один солдатишка как завопит под руку: «Господин полковник, на нем же новый полушубок. Зачем же вещию-то губить!» Я ему кричу: «Пошел вон, посажу под арест!» А большевичок: «Пусть возьмет, мне теперь не надо…» Солдат подбежал к нему, развязал руки, дернул полушубок, а комиссаришка как прыгнет из полушубка, словно блоха, и побежал…
– Хлопнули? – скороговоркой спросил генерал.
– Черта с два. – усмехнулся полковник.
– Убежал? – радостно ахнула Полянская.
– То-то и оно… До сих пор не пойму, как это ему удалось… Простить себе не могу такую оплошность.
Анну покоробил откровенный цинизм полковника. «Вот вы какие!» – враждебно подумала она, как-то по-новому взглянув на всю компанию.
– Равенство, братство… – с недоброй иронией проговорил Федорченко. – А кто они такие, эти большевики? Привилегированная каста. Иначе не бывает, всегда имеются выделяющиеся и… челядь.
– Правильно! – поддержала его Полянская. – Помню, первым человеком в нашем дворе стал сапожник Михейкин. Раньше я его и за человека не считала, а тут ходит самоуверенный, в кожанке, с браунингом у пояса, на голове шлем с красной звездой, на всех покрикивает. Что за начальство? Начальник ГПУ…
– Ах, господа, как надоели подобные разговоры! – сказала хозяйка. – Политика, политика без конца… Ольга Александровна, – любезно обратилась она к Полянской, – сыграйте нам что-нибудь, мы давно не слыхали вашей чудесной игры.
– Да, да! Просим, – поддержали мужчины.
Полянская не заставила себя долго упрашивать, она подсела к пианино, и ее длинные тонкие пальцы уверенно заскользили по клавишам.
Неожиданно Полянская бросила играть. Она встала, стремительно подошла к ящику с сигаретами и закурила. Все посмотрели на нее с удивлением.
– Умирающий лебедь… – заговорила она взволнованно. – Я танцевала его в Мариинском театре в день своего бенефиса. Сам император присутствовал на спектакле… – Она глубоко вздохнула, задумалась, затянувшись сигаретой. И вдруг сказала совсем другим, несколько даже озорным тоном: – А знаете, господа, я ведь выступала перед красногвардейцами Петрограда в восемнадцатом году! Не верите? Так забавно получилось… Пришли двое с винтовками, в военной форме – у меня душа в пятки, думаю: «Все. Расстрел». А они: «Просим вас, дорогой товарищ, выступить в нашем клубе…» Я сразу воскресла. Пожалуйста, говорю, с полным моим удовольствием. Трясущимися руками надеваю манто, они мне любезно помогают. На улице сажают на… броневик, – да, да! И мы куда-то едем по жуткому, ночному Петрограду.
Помню, какая тишина была в зале, когда я танцевала, а потом – бешеные аплодисменты. Я тогда удивилась: неужели они понимают?
– Хе-хе-хе, – ядовито рассмеялся генерал. – Какую благодарную публику вы потеряли, Ольга Александровна.
– Все-таки я часто вспоминаю этот эпизод, – не обращая внимания на слова генерала, продолжала Полянская. – Вспоминаю и думаю, что, пока твоя нога стоит на земле родины, ты человек. Без родины ты – ничто, это хуже смерти.
Генерал нахмурился, проговорил сердито:
– Все вы – жалкие нытики. Нужно бороться с большевиками, а не ныть. Русский интеллигент всегда был горазд ныть, потому и прошляпил Россию.
– А как бороться? – угрюмо поинтересовался поручик.
– Очень просто, – жестко ответил Черновский. – Винтовку в руки и ать, два…
– На службу, в волонтеры? – усмехнулся Жужубов.
– Да хоть к черту! Не все ли равно? Лишь бы против большевиков…
В словах генерала сквозила ненависть.
– Да, мы слишком заблагодушествовали, – поддержал его полковник.
– Господа, перестаньте… – умоляюще проговорила жена полковника. – Давайте лучше пить шампанское.
Все развеселились. Полянская стала рассказывать анекдоты, связанные с балетным миром. Она вся была в прошлом. Беспрестанно повторяла имена знаменитостей, названия партий, которые танцевала. Постепенно все как-то расчувствовались и стали наперебой вспоминать все дорогое, утраченное в жизни. Вспоминали свои живописные усадьбы, уютные квартиры, балы, карнавалы, родные березки и все сокрушались о том, что не отстояли Россию от большевиков.
Анна слушала и думала про себя: «А мне-то чего вспоминать? Постылых Поповых? То, как работала на них с утра до ночи, засучив рукава и подоткнув юбчонку?» И вдруг острая неприязнь пронзила ее сердце против вот этих чистеньких, в прошлом богатых, на которых тоже небось ломили такие, как она, Нюрки, Дуньки, Ваньки… «Правильно сделали большевики, что прогнали вас. Я бы своими руками душила таких мироедов, как Поповы».
Разговор перешел на знакомых, на жизнь в эмиграции.
– Интересная встреча произошла у меня на днях, – начал генерал Черновский. – Иду это я по Банду, а навстречу мне очень знакомый человек, шагает тяжело, словно волочит привязанные к ногам гири. Небрит, в каких-то коротких, вспученных на коленях брюках и засаленном пиджаке. На голове старая кепка, а стоптанные ботинки перевязаны обрывками шнурков. Всматриваюсь попристальнее: ба! полковник Шумилин! Он меня тоже узнал, остановился и с этакой угрюмой фамильярностью проговорил: «А! Генерал… В мундире. Забавно, забавно…» – «Что за маскарад? – спрашиваю. – На секретной службе, что ли?» Он безнадежно махнул рукой: «Да нет, говорит, это не маскарад, а самая натуральная нищета…» Подумать только! Полковник Шумилин! Дворянин, блестящий офицер, гаер и дуэлянт… Мы служили с ним в одном полку. «Как же это вы так?» – бормочу смущенный. «А так, говорит, все на свете меняется – и люди тоже. А вы, мол, преуспеваете, как видно? Нет ли у вас какой службы? Я мог бы и дворником, если нет ничего другого». Мне стало ужасно горько за нас, за Россию, и я подумал: «Не-ет… Я не сдамся. Буду мстить, мстить…» Мы не можем нынче жить воспоминаниями, не имеем права! Русь распята! Мы должны ее спасать…
Все удрученно молчали, несколько смущенные пафосом генерала.
– Как страшен мир нужды! – произнесла трагическим голосом Полянская. – Со мной тоже был случай… Во время сезона я посещаю все постановки русского балета в Шанхае. В театре часто встречала одну довольно немолодую даму, одетую всегда одинаково: в черное платье с необыкновенно широкими рукавами. Дама всегда занимала первое место от входа. Я приняла ее за любительницу балета, за родственную, так сказать, душу. Придя в театр, невольно искала ее глазами, а найдя, говорила себе: «Все в порядке, значит, есть с кем разделить свой молчаливый восторг». Потом я стала замечать, что дама незадолго до окончания последнего действия всегда уходит. Это меня заинтересовало, и я начала за ней наблюдать. Однажды она села рядом со мной. Мне захотелось заговорить с ней, но что-то меня удержало.








